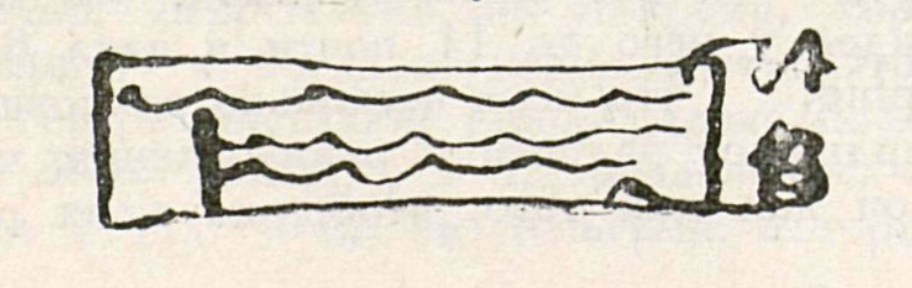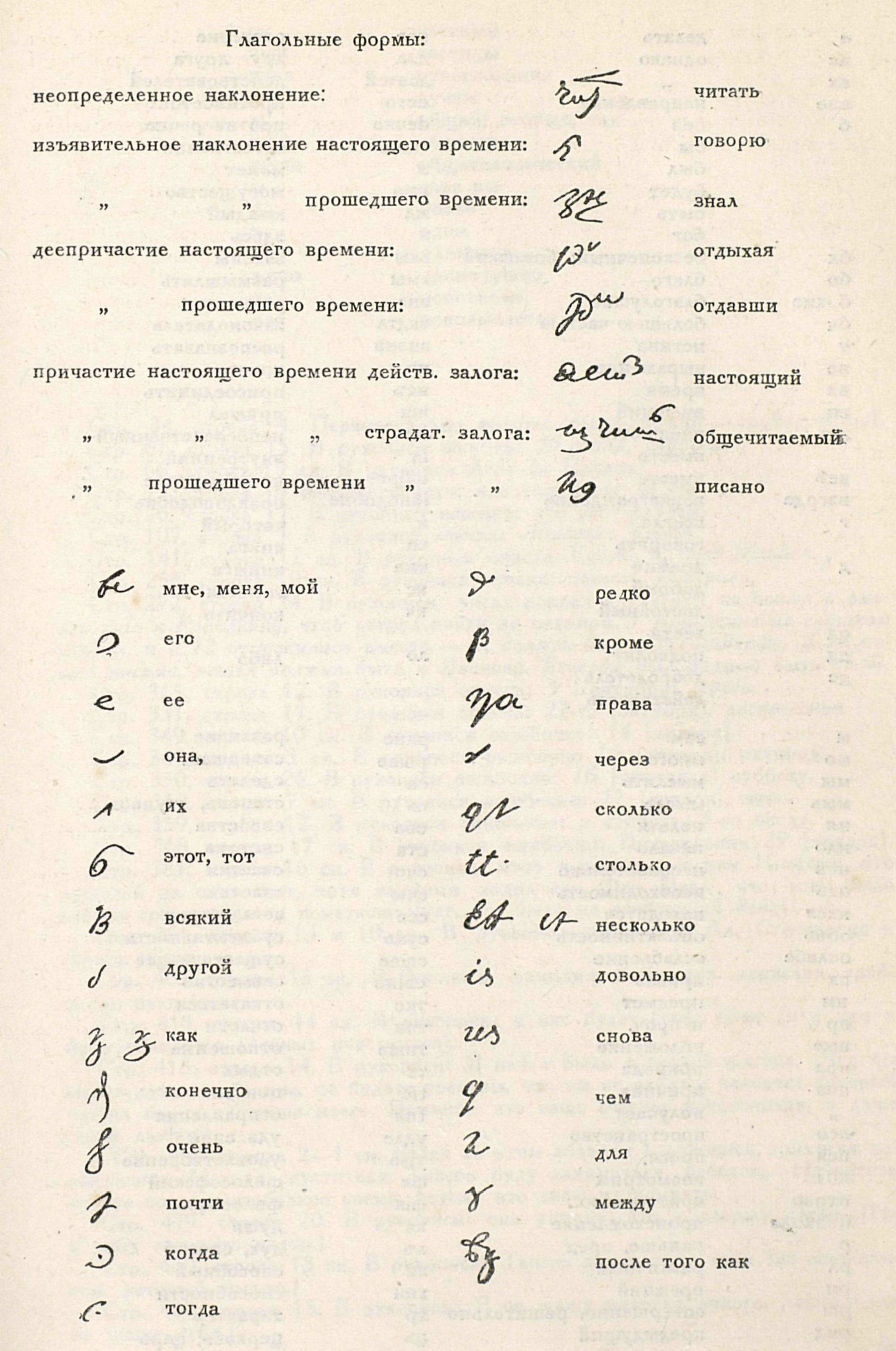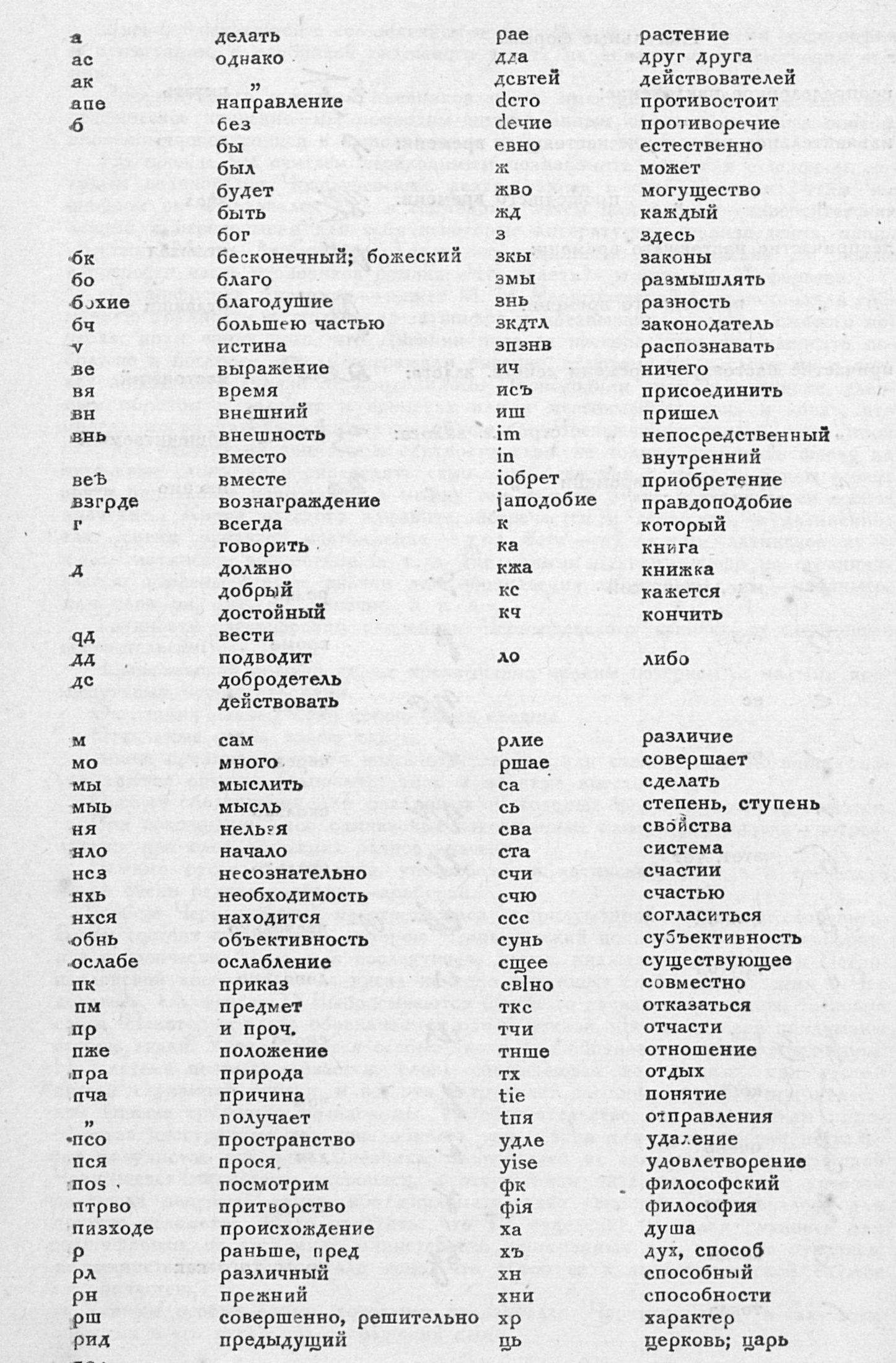Том 1
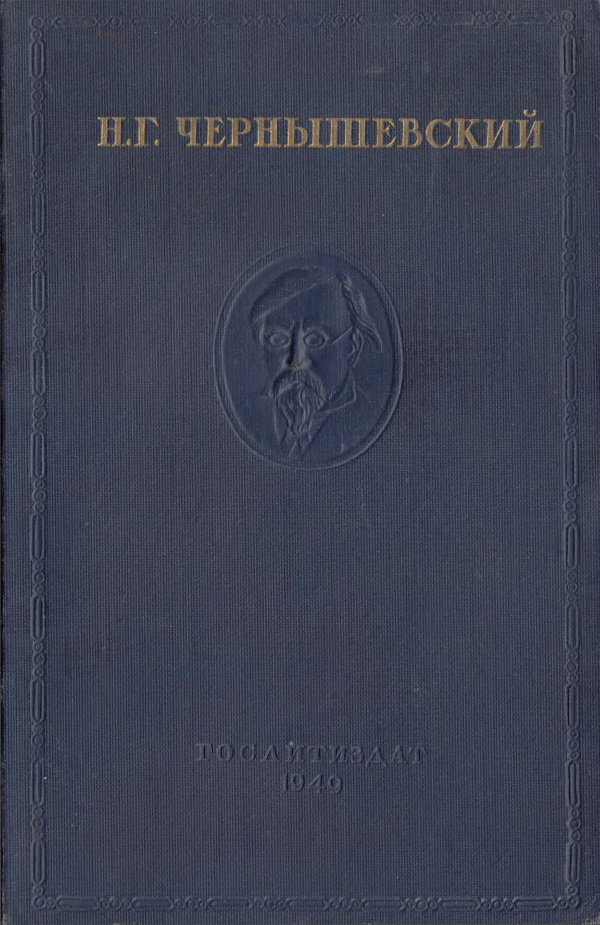

Н. Г. Чернышевский. Дагерротип 1853 г. Дом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове.
Ленин о Чернышевском
Товарищ Н. К. Крупская, вспоминая об отношении В. И. Ленина к Чернышевскому, говорит: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского. Это был человек, к которому он чувствовал какую-то непосредственную близость и уважал его в чрезвычайной мере»[1].
Действительно, Ленин в своих книгах и статьях очень часто говорил о Чернышевском. В справочном указателе к сочинениям Ленина указано 39 отрывков, в которых он упоминает о Чернышевском. Кроме того, ряд упоминаний о нём находим в тех материалах — «Ленинских сборниках», которые не вошли в собрание сочинений.
Отзывы и замечания Ленина чрезвычайно глубоки и интересны. Но во всех своих отзывах о Чернышевском Ленин подходил к нему всякий раз с какой-нибудь одной стороны этого многогранного человека и не дал нигде исчерпывающей, суммирующей сводки своих характеристик, рассеянных в ряде статей и в ряде томов, характеристик, часто очень коротких, но глубоких по содержанию. Поэтому тот, кто захочет ясно представить себе полностью характеристику, которую Ленин давал Чернышевскому, должен сам произвести эту работу суммирования разрозненных замечаний. Настоящая статья и представляет попытку такого суммирования.
Ленин писал о Чернышевском:
«Демократ», «гениальный провидец», «наш русский великий утопист», «великий русский писатель», «великий русский социалист», «социалист-утопист», «величайший представитель утопического социализма», «последовательный боевой демократ», «замечательно глубокий критик капитализма», «великорусский демократ, отдавший свою жизнь делу революции», «русский великий социалист до-Марксова периода», «один из первых социалистов в Рос[5]сии, замученный палачами правительства». Некоторые из этих характеристик повторяются неоднократно.
В этих характеристиках часто встречаются две: «великий русский социалист» и «демократ». Ленин часто к слову «социалист» прилагал ещё эпитет «утопический». Очевидно, Ленин видел характернейшую черту Чернышевского в том, что он был единовременно и «утопическим социалистом» (и притом «великим»), и «демократом».
И действительно, уже в брошюре «Что такое „друзья народа“» Ленин, характеризуя конец 50-х и начало 60-х годов, писал:
«…та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность. Теперь нет уже решительно никакой почвы для той идеи,— которая и до сих пор продолжает ещё кое-где держаться среди русских социалистов, крайне вредно отзываясь и на их теориях и на их практике,— будто в России нет глубокого, качественного различия между идеями демократов и социалистов.
Совсем напротив: между этими идеями лежит целая пропасть, и русским социалистам давно бы пора понять это, понять неизбежность и настоятельную необходимость полного и окончательного разрыва с идеями демократов»[2].
Но разве всякий социалист не должен быть демократом? Разве мы, строители социалистического общества, не создали наиболее демократическую из всех когда-либо существовавших конституций? Конечно, каждый социалист должен быть демократом, и если Ленин говорил, что «та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность», то это потому, что под словами «демократизм» и «социализм» он подразумевал особый вид социализма и демократизма.
Это не был научный социализм, как он был развит в работах Маркса, Энгельса и самого Ленина. Это был утопический социализм, характернейшей чертой которого было то, что он не знал пути к торжеству социализма через классовую борьбу пролетариата, через революцию, в которой вождём и гегемоном выступает пролетариат, и далее через диктатуру пролетариата. А «демократизм», который имел в виду Ленин в вышеприведенной цитате, был не наш современный пролетарский демократизм, который вводит теперь в действие наиболее демократическую Сталинскую Конституцию, а крестьянский демократизм.
В самом деле, как представлял себе Чернышевский политический переворот в России и дальнейшее изменение общественного строя?
Главное зло современной ему русской жизни Чернышевский ви[6]дел в крепостном праве. В 1858 году в статье «О новых условиях сельского быта» он писал:
«Дух сословия, имеющего главное участие в государственных делах, организация войска, администрация, судопроизводство, просвещение, финансовая система, чувство уважения к закону, народное трудолюбие и бережливость — всё это сильнейшим образом страдает от крепостного права, все искажается им в настоящем, и сильнейшее препятствие в нём встречается каждым нововведением, каждым улучшением для будущего. Много говорили мы о наших недостатках и множество всевозможных недостатков находили в себе, но общий, главнейший источник всех их – крепостное право; с уничтожением этого основного зла нашей жизни каждое другое зло её потеряет девять десятых своей силы».
Итак, крепостное право – вот основное зло. За это звено и должен был схватиться в то время политический деятель.
Каким же путём мыслил Чернышевский уничтожение крепостного права в России?
Он не ждал его ни от царя, ни от либеральных помещиков. Он был убеждён, что настоящее, действительное освобождение крестьян, такое освобождение, которое будет произведено в их интересах, а не в интересах помещиков, может произойти только революционным путём.
«…если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже „бунтов“, не освещённых никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, всё убожество пресловутой „крестьянской реформы“, весь её крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский»,
писал Ленин в 1911 году в статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция»[3].
«…Чернышевский был не только социалистом-утопистом, – продолжает Ленин несколько далее. – Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя – через препоны и рогатки цензуры – идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. „Крестьянскую реформу“ 61-го года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он назвал мерзостью, ибо он ясно видел её крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обдирают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал „болтунами, хвастунами и дурачьём“, ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими»[4].[7]
И действительно, в своём «Дневнике», где Чернышевский мог откровенно записывать свои мысли, он писал ещё в 1850 году, что, по его мнению, Россия быстро идёт к революции, что «мирное и тихое развитие невозможно», что «без конвульсий нет никогда ни одного шага в истории». В «Дневнике» за 1853 год он записал свой разговор с невестой. «У нас будет скоро бунт,— говорил он ей,— а если он будет, я буду непременно участвовать в нём… Недовольство народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков всё растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь всё это. Вместе с тем растёти число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость[5], не буду в состоянии удержаться. Я приму участие. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».
Было много революционеров из среды интеллигенции, которые мечтали о революции. Но в то же время они, чуждые трудовым массам, боялись этой революции. Они боялись, что пролетариат и крестьянство, низвергнув власть эксплуататоров, став сами у власти, не сумеют оценить завоеваний культуры, что они разрушат культуру. Этого боялся, например, Гейне. А Чернышевский не имеет этих опасений. Он, очевидно, убеждён, что, став у власти, трудящиеся сумеют не только сохранить старую культуру, но и создать новую, неизмеримо более блестящую. В этом виден глубокий, органический демократизм Чернышевского.
Приведенная выше выписка из «Дневника» Чернышевского не была для него пустыми словами. Он действительно все силы свои отдал делу пропаганды и подготовки революции. Он умел делать это блестяще, ловко обходя цензуру, а часто прямо издеваясь над ней, «чисто революционные идеи он умел излагать в подцензурной печати»[6],— говорит Ленин, характеризуя Чернышевского. В другом месте Ленин отмечает «могучую проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров»[7].
В конце 1861 года Чернышевский решил прямо при помощи написанной им прокламации обратиться к крестьянству с призывом готовиться к близкой революции.
Чернышевский был утопическим социалистом. Но в то время как великие утопические социалисты Западной Европы — Фурье, Оуэн и др. — думали, что их идеальный социалистический строй [8] может быть осуществлен только мирными средствами, Чернышевский не допускал этого мирного пути. Все свои надежды он возлагал только на революцию и притом на революцию, которую должна была сделать не кучка заговорщиков, а действительно широкие народные массы. Чернышевский не только на словах признавал теорию классовой борьбы; он клал её в основу всей своей политики. В этом признании революции, как единственного пути осуществления социалистического строя, в этом признании класса «трудящихся» единственно способным осуществить эту социалистическую революцию состоит громадное превосходство Чернышевского над утопическими социалистами Западной Европы.
Чернышевский был смелым, мужественным, непреклонным, стойким революционером. Признавая основным злом в России того времени крепостное право и царизм, против них он и направлял свои удары.
Какой же строй установился бы в России, если бы исполнились надежды Чернышевского и в России в начале 60-х годов победила бы та революция, которую он подготовлял?
В России установился бы буржуазно-демократический строй. Чернышевский сам знал это; в своей прокламации «Барским крестьянам» он ничего не говорил о социализме; он указывал, как на желательный образец, на Швейцарию, Англию и Америку.
Вот что писал, например, Чернышевский в этой прокламации:
«Вот у французов есть воля, у них нет розницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит богат он; мало — так беден; а розницы по званью нет никакой… Надо всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно.
Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу… А кто не хочет, тому и принужденья нет…
А то вот ещё в чём воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя умели.
А то вот ещё в чём у них воля. Паспортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешенья на то ему не надо…
А то вот ещё в чём у них воля: никто над тобой ни в чём не властен, окроме мира… Народ у них всему голова: как народ повелит, так тому и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен».
Далее рассказывается, что в Швейцарии и Америке совсем нет царей, что там «народный староста, не по наследству бывает, а на срок выбирается», и «тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает». «Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а всё одно: обольщенье в словах».[9]
Из этих цитат видно, что только об одном демократическом строе и говорил Чернышевский в своей прокламации. Достижение этого демократического строя он и ставил задачей ожидаемой им в России революции. О социализме он в своей прокламации не говорил ничего.
Итак, рассматривая эту сторону деятельности Чернышевского, мы видим в нём действительно последовательного, решительного, непримиримого по отношению к пережиткам старого, крестьянского, революционного демократа. Эту сторону и подчёркивал неоднократно Ленин в своих характеристиках Чернышевского, называя его демократом.
В своих заметках на опубликованную в 1910 году статью Плеханова о Чернышевском Ленин отмечает, что Плеханов недооценивает общий материалистический характер воззрений Чернышевского, «чересчур» подчёркивая в них элементы идеализма, и что «из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа»[8].
Но Чернышевский был не только революционным демократом. Он был в то же время и социалистом. Он не удовлетворялся политическими реформами или переворотами, как бы радикальны они ни были. Обращаясь к вождям французской либеральной буржуазии, он писал в своём «Дневнике»:
«Эх, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика да власть у вас,— не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства, не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться: мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими своё тело. А то вздор то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода, и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых — орда, рабы и пролетарии; не в этом дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого».
Эта запись в «Дневнике» ясно показывает, что Чернышевский был не только политическим радикалом, не только демократом. Основной целью политической деятельности он ставил заботу о благе трудящихся, о том, чтобы «один класс не сосал кровь другого». Другими словами, он был социалистом.
Какой же характер имел социализм Чернышевского?
Чернышевский был не только широким, разносторонним, но и глубоким мыслителем. Его миросозерцание имело под собою глубокую философскую основу. Этой основой был материализм, ко[10]торому Чернышевский оставался верен всю свою жизнь. Ленин очень высоко ценил эту сторону мировоззрения Чернышевского и отмечал, что «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»[9]. Однако немедленно вслед за приведенными словами Ленин добавляет: «Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса». В другом месте (в статье «Народники о Н. К. Михайловском») Ленин писал: «В философии Михайловский сделал шаг назад от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х годов XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные „позитивисты“ (кантианцы, махисты и т. п.)»[10].
Чернышевский понимал, что развитие общества совершается не по воле отдельных гениальных личностей, а как результат борьбы общественных сил. «Совершение великих мировых событий,— писал он,— не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону, столь же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания». «Серьёзное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в таких делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею». Чернышевский в значительной степени понимал классовую сущность всякой общественной борьбы и в своих сочинениях освещал политическую и общественную жизнь как России, так и Западной Европы с точки зрения классовой борьбы. «От его сочинений веет духом классовой борьбы»[11],— писал Ленин. Чернышевский понимал, что в основе всякой науки, всякой философии лежат классовые интересы; больше того — он прекрасно понимал партийность науки и философии. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения,— писал он,— создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ». «Философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем».
Итак, Чернышевскому была ясна роль классовой борьбы. Он знал и то, что в современном обществе борются три основные [11] класса (он называл их «сословиями»): помещики-землевладельцы, капиталисты и третий класс, который он называл «простолюдинами», соединяя в нём и рабочих, и ремесленников, и крестьянство. Чернышевский не выделял пролетариат в особый класс из среды «простолюдинов». В 50-х и 60-х годах XIX столетия, когда писал Чернышевский, капитализм был ещё очень слабо развит в России, пролетариат был ещё немногочисленным. Наиболее многочисленным классом было крестьянство. Главным «злом» в то время в России было действительно крепостное право, сковывавшее всю жизнь страны; его нужно было устранить прежде всего. Рабочие волнения, выражавшиеся тогда в редких, разрозненных и неорганизованных выступлениях против хозяев фабрик и заводов, играли небольшую роль по сравнению с волнениями крепостных крестьян. Наконец, рабочие того времени были ещё очень тесно связаны с крестьянством (иногда они были и крестьянами и рабочими одновременно). Всё это было причиной того, что Чернышевский не уяснил, да и не мог в то время уяснить себе, историческую революционную роль пролетариата. Пролетариат для него сливался с другими слоями трудящихся, а в России — с крестьянством. Поэтому социализм Чернышевского носил характер крестьянского социализма.
Чернышевский не понимал, что социализм может быть построен только пролетариатом, ставшим у власти после победы пролетарской революции. Для построения социализма Чернышевский искал других путей. «Чернышевский,— писал Ленин в статье „Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция»,— был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма»[12]. А в области промышленности Чернышевский рекомендовал для осуществления социализма прибегнуть к организации производительных товариществ на добровольных началах, которые должны были получать ссуды от государства. Образование таких кооперативных товариществ могло быть осуществлено только после победоносной крестьянской революции. Но неизвестно, какие причины побудили бы крестьянство строить такой «социализм», когда каждый крестьянин стремился бы прежде всего к расширению и развитию своего индивидуального хозяйства. В действительности в случае победы в 60-х годах крестьянской революции в России не произошло бы никакого строительства социализма, а были бы созданы только чрезвычайно благоприятные условия для быстрого развития капитализма, что было бы, конечно, в то время чрезвычайно прогрессивным явлением.
В действительности же крестьянские массы могут быть вовле[12]чены в процесс строительства социализма только в условиях диктатуры пролетариата, как это показала нам Октябрьская социалистическая революция.
Итак, Чернышевский не знал правильного пути к торжеству социализма. Ленин, отдавая должное гениальности Чернышевского, его революционности и т. д., указывая, что Чернышевский был «замечательно глубоким критиком капитализма»[13], характеризовал его всегда как утопического социалиста.
Маркс и Энгельс, которые были хорошо знакомы с сочинениями и деятельностью Чернышевского, также очень высоко ценили его как социалиста, подвергшего меткой, убийственной критике буржуазно-помещичий строй и буржуазную политическую экономию, и вместе с тем, как мужественного, непреклонного революционного демократа. В «Послесловии» ко второму изданию «Капитала» Маркс указывал, что «банкротство „буржуазной“ политической экономии мастерски выяснил уже в своих „Очерках политической экономии по Миллю“ великий русский учёный и критик Н. Чернышевский».
Энгельс также очень высоко ценил Чернышевского. Так, в послесловии к статье «Социальные отношения в России» он называет Чернышевского великим мыслителем, «которому Россия бесконечно обязана столь многим и чьё медленное убийство долголетней ссылкой среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II»… И далее в той же статье: «Вследствие интеллектуального барьера, отделявшего Россию от Западной Европы, Чернышевский никогда не знал произведений Маркса, а когда появился „Капитал“, он давно уже находился в Средне-Вилюйске… Всё его умственное развитие должно было протекать в тех условиях, которые были созданы этим интеллектуальным барьером… Поэтому, если в отдельных случаях мы и находим у него слабые места, ограниченность кругозора, то приходится только удивляться, что подобных случаев не было гораздо больше». В статье «Эмигрантская литература» Энгельс говорит, что Россия — «страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов».
Наконец, в письме членам комитета русской секции в Женеве Маркс писал:
«Такие труды, как Флеровского и вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века».
В статье «Что такое „друзья народа“» Ленин отмечает «глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности»[14]. С другой стороны, мы видели, что Чернышевский был утопическим социалистом и неправильно указывал путь к социализму. Как же примирить эти два положения?
Поистине Чернышевский как революционный демократ обнару[13]жил гениальное понимание окружавшей его русской действительности. Он понял, что главным злом, главным препятствием всему дальнейшему развитию России в 50-х годах было крепостное право, и на нём сосредоточил он всю силу своих ударов. Но ещё большая гениальность Чернышевского сказалась в том, что он понял глубокую революционность русского крестьянства, понял, что уничтожение крепостного права, произведённое царем руками помещиков, отнюдь не уничтожало ни этой глубокой революционности, ни причин, её порождающих. И после уничтожения крепостного права Чернышевский продолжал готовить эту революцию и положил начало движению, которое действительно сыграло крупную роль в революции.
Чернышевский был одним из предтеч народничества.
«Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского»,— писал Ленин в 1913 году в статье «О народничестве»[15]. «Герцен — основоположник „русского“ социализма, „народничества“»,— повторял он в статье «Памяти Герцена». «Но Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к „верхам“. Отсюда его бесчисленные слащавые письма в „Колоколе“ к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения»[16].
На смену Герцену пришли другие люди, выросшие в России и вышедшие из других классов. Это были революционеры-разночинцы. «Как декабристы разбудили Герцена,— писал Ленин в статье „Из прошлого рабочей печати в России“,— так Герцен и его „Колокол“ помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству»…
«Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности. Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало народничество»[17].
Кадрами революционной демократии 60-х годов были разночинцы-интеллигенты, выходцы из мелкобуржуазных слоёв. Это были «революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, всё убожество пресловутой „крестьянской реформы“, весь её крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышев[14]ский»[18]. «…Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперёд против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм»[19]. Наиболее ярко и открыто революционная защита интересов крестьянства развита была Чернышевским в его прокламации «Барским крестьянам», где он писал, не считаясь с требованиями царской цензуры. За эту деятельность Чернышевского Ленин и называл его «последовательным и боевым демократом». В статье «Памяти Герцена» Ленин писал:
«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.
Её подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной Воли“. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. „Молодые штурманы будущей бури“ — звал их Герцен. Но это не была ещё сама буря.
Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году»[20].
Итак, в движении русской революционной демократии при его возникновении в 60-х годах (точнее — в конце 50-х годов) была революционная сторона. Она состояла в том, что революционная демократия в то время выражала и защищала интересы широких масс жестоко эксплуатируемого, угнетаемого и в основе революционно настроенного крестьянства. Революционная демократия (а во главе её Чернышевский) в то время ставила своей задачей подготовку такой крестьянской революции, которая смела бы до основания старый крепостнический строй и уничтожила бы всякую силу помещиков.
Вожди этой революционной демократии были и социалистами,— правда, утопическими. Но в то время этот утопический социализм не выступал противником пролетарского революционного движения, противником научного социализма. Это обстоятельство и отмечал Ленин в характеристике Чернышевского, как демократа той поры [15] «общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое»[21].
Но в революционной демократии наряду с революционным крестьянским демократизмом существовала и другая черта. Крестьянство — это была в то время только потенциальная революционная сила. Кадры революционной демократии состояли тогда из интеллигентных разночинцев — выходцев из чиновничества, мещанства, мелкого купечества, духовенства и прочих мелкобуржуазных слоёв, а также из среды обедневшего дворянства. В силу вообще неустойчивости мелкой буржуазии, а в частности её интеллигентских представителей, соприкасавшихся с дворянством и буржуазией, в разночинских кадрах возникло и развивалось тяготение к этим верхушечным слоям, к их идеологии и программе — к либерализму, то есть к идеологии и политике, враждебной пролетариату. Этот народнический либерализм выступал для привлечения к себе сочувствия масс под маской социализма, но социализма реформистского, враждебно относившегося к пролетарскому социализму.
В конце 1897 (или в начале 1898) года Ленин написал статью «От какого наследства мы отказываемся»[22], в которой он давал характеристику «просветителей» 60-х годов и народников 70–80-х годов и устанавливал отношение марксистов к этим двум течениям. Для характеристики шестидесятников он взял в своей статье книгу буржуазного либерала того времени Скалдина («В захолустьи и в столице»). Но в примечании на страницах 314–315 он говорил, что Скалдин во многих отношениях не типичен для 60-х годов. Однако, взять представителя «наследства» с более типичным тоном было для него неудобно. В одном письме он повторяет, что Скалдин «не типичен» для 60-х годов, что «типичных» писателей взять «неудобно», что у него «не было статей Черн[ы]ш[евск]ого… да и не переизданы ещё главные из них, да и вряд-ли бы сумел обойти при этом подводные камни»[23], то есть цензуру.
Итак, наиболее характерным для «просветителей» 60-х годов Ленин считал Чернышевского. Каковы же характерные черты этих «просветителей», которые Ленин отмечал в своей статье?
«Как и просветители западно-европейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлён горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта „просветителя“. Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям,— горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта „просветителя“ это — отстаивание интересов народных масс, глав[16]ным образом крестьян (которые ещё не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесёт с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют „наследством 60-х годов“»[24].
Что касается народничества семидесятых годов, то оно проявило три черты, которые сделали его «теорией реакционной и вредной». Эти черты следующие:
«Первая черта — признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники объявили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, освящённого якобы вековыми устоями и т. п. и т. д. Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему, вместо исторического оптимизма и бодрости духа — пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием; являются приглашения „задержать“ и „остановить“ это развитие, является теория, что отсталость есть счастье России и т. д. С „наследством“ все эти черты народнического миросозерцания не только не имеют ничего общего, но прямо противоречат ему… „Наследство“ 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело и исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести до чиста эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше,— это „наследство“ не только не при чём в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им»[25].
«Вторая черта народничества — вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т. п… Это общее всем народникам учение о самобытности России опять таки не только не имеет ничего общего с „наследством“, но даже прямо противоречит ему. „60-ые годы“, напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение её к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждений этой культуры и на нашу, вовсе не самобытную, почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-х годов и их традицией»[26].
«Третья характерная черта народничества — игнорирование связи „интеллигенции“ и юридико-политических учреждений страны с матерьяльными интересами определённых общественных классов — находится в самой неразрывной связи с предыдущими: только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло по[17]родить учение об „ошибочности“ русского капитализма и о возможности „свернуть с пути“. Это воззрение народничества опять-таки не стоит ни в какой связи с „наследством“ и традициями 60-х годов, а, напротив, прямо противоречит этим традициям»[27].
«Итак,— заключает Ленин,— хотя народничество сделало крупный шаг вперёд против „наследства“ просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлетворительным, вследствие мелкобуржуазной точки зрения и сантиментальной критики капитализма, что народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с „просветителями“. Присоединение народничества к наследству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов минусом»[28].
Подводя итоги этим параллелям, Ленин заключает:
«Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. „Ученик“[29] верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий. Первое и последнее направление стремится поэтому поддержать, ускорить, облегчить развитие по данному пути, устранить все препятствия, мешающие этому развитию и задерживающие его. Народничество, наоборот, стремится задержать и остановить это развитие, боится уничтожения некоторых препятствий развитию капитализма. Первое и последнее направление характеризуется тем, что можно бы назвать историческим оптимизмом: чем дальше и чем скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, наоборот, естественно ведёт к историческому пессимизму: чем дальше дела пойдут так, тем хуже. „Просветители“ вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России. Народничество поставило вопрос о капитализме в России, но решило его в смысле реакционности капитализма и потому не могло целиком воспринять наследства просветителей: народники всегда вели войну против людей, стремившихся к европеизации России вообще, с точки зрения „единства цивилизации“, вели войну не потому только, что они не могли ограничиться идеалами этих людей (такая война была бы справедлива), а потому, что они не хотели идти так далеко в развитии данной, т. е. капиталистической, цивилизации. „Ученики“ решают вопрос о капитализме в России в смысле его прогрессивности и потому не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом про[18]тиворечий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей»…
«В конце концов,— заключает Ленин,— мы получили, следовательно, тот вывод, который не раз был уже нами указан по частным поводам выше, именно, что ученики — гораздо более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники»[30].
В 60-х годах, при слабости тогдашнего революционного движения и при необходимости направлять революционные удары против основного «зла» того времени — против крепостного права, идея крестьянской революции была глубоко революционной идеей. Позднее же, когда капитализм в России достаточно вырос и пролетариат развил своё классовое революционное движение, которое ставило задачей революции не только борьбу против остатков крепостничества, но и борьбу за торжество социализма, за уничтожение всякого гнёта и всякой эксплуатации,— в интересах революции стало необходимым, чтобы пролетариат — этот до конца революционный класс — стал гегемоном в революционной борьбе. В это время народничество с его идеей крестьянской революции и с его либерально-народнической идеологией и политикой начало борьбу против пролетарского революционного движения и против марксизма, как идеологии пролетариата. Народничество стало в это время — и чем дальше, тем больше — превращаться в реакционную силу[31]. Этому усилению буржуазно-либеральных тенденций в народничестве способствовала и диференциация крестьянства — образование в деревне сильного кулацкого слоя. Характеризуя «вырождение» народничества, Ленин писал:
«…деревня давно уже совершенно раскололась. Вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму; с другой — выродившись в пошлый мещанский радикализм. Иначе как вырождением нельзя назвать этого превращения. Из доктрины об особом укладе крестьянской жизни, о совершенно самобытных путях нашего развития — вырос какой-то жиденький эклектизм… Из политической программы, рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества — выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, „улучшить“ положение крестьянства при сохранении основ современного общества»[32].
Вместе с тем «та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъ[19]единимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность»[33].
Но чисто оппортунистическими стали только буржуазно-интеллигентские кадры народничества. Что же касается крестьянства, его бедняцких и в значительной степени середняцких слоёв деревни, то там революционное движение, наоборот, росло, и этим всё более подготовлялась почва для грядущей революции. Но вместе с тем назревали и условия разрыва между руководящей верхушкой народничества, становившейся всё более реакционной, и широкими крестьянскими массами расслаивавшейся деревни.
В 1911 году в статье «По поводу юбилея» Ленин писал:
«…в народничестве таилась двоякая тенденция… Поскольку народники прикрашивали реформу 1861 года, забывая о том, что „наделение“ реально означало в массе случаев обеспечение помещичьих хозяйств дешёвыми и прикреплёнными к месту рабочими руками, дешёвым кабальным трудом, постольку они опускались (часто не сознавая этого) до точки зрения либерализма, до точки зрения либерального буржуа, или даже либерального помещика; — постольку они объективно становились защитниками такого типа капиталистической эволюции, которая всего более отягощена помещичьими традициями, всего более связана с крепостническим прошлым, всего медленнее, всего тяжелее от него освобождается.
Поскольку же народники, не впадая в идеализацию реформы 61-го года, горячо и искренне отстаивали наименьшие платежи и наибольшие, без всякого ограничения, „наделы“, при наибольшей культурной, правовой и проч. самостоятельности крестьянина, постольку они были буржуазными демократами. Их единственным недостатком было то, что их демократизм был далеко не всегда последователен и решителен, причём буржуазный характер его оставался ими несознанным…
Эта двоякая, либеральная и демократическая тенденция в народничестве вполне ясно наметилась уже в эпоху реформы 1861 года…
Из двух указанных тенденций народничества демократическая, опирающаяся на сознательность и самодеятельность не помещичьих, не чиновничьих и не буржуазных кругов, была крайне слаба в 1861 году. Поэтому дело и не пошло дальше самого маленького „шага“ по пути превращения в буржуазную монархию. Но эта слабая тенденция существовала уже тогда. Она проявлялась и впоследствии, то сильнее, то слабее, как в сфере общественных идей, так и в сфере общественного движения всей пореформенной эпохи. Эта тенденция росла с каждым десятилетием этой эпохи, питаемая каждым шагом экономической эволюции страны, а, следовательно, и совокупностью социальных, правовых, культурных условий. [20]
Через 44 года после крестьянской реформы и та и другая тенденция, которые в 1861 году только наметились, нашли себе довольно полное и открытое выражение на самых различных поприщах общественной жизни, в различных перипетиях общественного движения, в деятельности широких масс населения и крупных политических партий. Кадеты и трудовики,— понимая тот и другой термин в самом широком смысле,— прямые потомки и преемники, непосредственные проводники обеих тенденций, обрисовавшихся уже полвека тому назад. Связь между 1861 годом и событиями, разыгравшимися 44 года спустя, несомненна и очевидна. И то обстоятельство, что в течение полувека обе тенденции выжили, окрепли, развились, выросли, свидетельствует, бесспорно, о силе этих тенденций, о том, что корни их лежат глубоко во всей экономической структуре России»[34].
Итак, «демократическая» тенденция русской революции 1905 года, выразившаяся в том, что революционно настроенное крестьянство совершило ряд выступлений против помещиков, в том, что оно не пошло за кадетами, которые старались потушить революцию, и образовало свою организацию, ведёт начало от 1861 года, от того движения революционной демократии, вождём которого был Чернышевский.
В статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал:
«Либералы 1860-ых годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»[35].
«В революции 1905 года те две тенденции, которые в 61-м году только наметились в жизни, только-только обрисовались в литературе, развились, выросли, нашли себе выражение в движении масс, в борьбе партий на самых различных поприщах, в печати, на митингах, в союзах, в стачках, в восстании, в Государственных Думах»[36].
«Тенденции демократическая и социалистическая отделились от либеральной и размежевались друг от друга. Пролетариат организовался и выступал отдельно от крестьянства, сплотившись вокруг своей рабочей с. д. партии. Крестьянство было организовано в революции несравненно слабее, его выступления были во много и много раз раздробленнее, слабее, его сознательность стояла на гораздо более низкой ступени… Но всё же, в общем и целом, крестьянство, как масса, боролось именно с помещиками, выступало революционно, и во всех Думах — даже в третьей, с её изуродованным в пользу крепостников представительством — оно создало трудовые группы, представлявшие, несмотря на их частые колеба[21]ния, настоящую демократию. Кадеты и трудовики 1905—7 годов выразили в массовом движении и политически оформили позицию и тенденции буржуазии, с одной стороны, либерально-монархической, а с другой стороны, революционно-демократической»[37].
Родоначальником этой второй — революционно-демократической тенденции был, как Ленин говорил выше, Н. Г. Чернышевский.
В статье «По поводу юбилея» Ленин писал:
«Сравнение 1861 года с 1905—07 годами яснее ясного показывает, что это реальное историческое значение народнической идеологии состояло в противоположении двух путей капиталистического развития: одного пути, приспособляющего новую, капиталистическую Россию к старой, подчиняющего первую второй, замедляющего ход развития,— и другого пути, заменяющего старое новым, устраняющего полностью отжившие помехи новому, ускоряющего ход развития» [38].
В 60-х годах революционные демократы оказались слишком слабыми и немногочисленными, а потому и потерпели поражение: «революционное движение в России было тогда слабо до ничтожества, а революционного класса среди угнетенных масс вовсе ещё не было»[39].
Чернышевский, М. Михайлов и другие пошли на каторгу. Добролюбов умер юношей. Но начатое ими революционное движение не погибло.
В статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал:
«Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, повидимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи, и чем дальше мы отходим от неё, тем яснее нам их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либеральных реформистов»[40].
Ту же мысль находим мы у Ленина и в статье «По поводу юбилея» :
«…вышло так, что представители сознательно враждебной либерализму демократической тенденции в реформе 1861 года, казавшиеся тогда (и долгое время спустя) беспочвенными одиночками, оказались на деле неизмеримо более „почвенными“,— оказались тогда, когда созрели противоречия, бывшие в 1861 году в состоянии почти зародышевом… История навсегда сохранит память о первых, как о передовых людях эпохи,— о вторых, как о людях половинчатых, бесхарактерных, бессильных перед силами старого и отжившего»[41].
Чернышевский был вождём этих передовых людей эпохи 60-х годов. Надо было иметь действительно «глубокое и превосходное [22] понимание Чернышевским современной ему действительности»[42], надо было обладать действительно «гениальным провидением» для того, чтобы в 60-х годах, когда общественные противоречия, породившие через 40 с лишним лет революцию, были ещё «в состоянии почти зародышевом», дать начало движению, которое, как указывает Ленин, сыграло громадную роль в революции 1905 года и играло её вплоть до Февральской революции 1917 года. Нужно было быть действительно до конца стойким, мужественным революционером, чтобы в то время идти так непреклонно к поставленной революционной цели. Вот эту-то мужественность и непреклонность революционера, это «гениальное провидение» и ценил Ленин чрезвычайно высоко в Чернышевском.
Есть ещё одно обстоятельство, которое роднит Чернышевского с Лениным, роднит его с нашей пролетарской революцией, делает его весьма близким для нас. Это глубокая вера Чернышевского в народ, вера в могучую, неисчерпаемую силу народных масс, его глубокое убеждение, что победа народного дела может быть достигнута только классовой борьбой революционных масс трудящихся.
Н. Г. Чернышевский целиком принадлежит нам, нашей великой стране Советов. Дело, за которое отдал всю свою славную и прекрасную жизнь Чернышевский, победоносно осуществлено Великой Октябрьской социалистической революцией.
Н. Мещеряков.
От редакции
В царской России в течение ряда десятилетий имя Н. Г. Чернышевского было вычеркнуто из истории русской литературы и общественного движения. Не допускалось не только издание его сочинений, но и простое упоминание его фамилии. Между тем спрос на его произведения был велик, и желающим познакомиться с идеями великого революционера приходилось отыскивать старые номера «Современника», где печатались его сочинения. Только революция 1905 года сняла запрет с Чернышевского. Его сын М. Н. Чернышевский, воспользовавшись ослаблением цензурного гнёта, выпускает в 1906 году полное собрание его сочинений в одиннадцати томах. Это издание было результатом многолетней упорной работы, произведённой М. Н. Чернышевским по выявлению и собиранию литературного наследства, оставленного его отцом. В него вошли не только те сочинения Н. Г. Чернышевского, которые были в своё время напечатаны в «Современнике» и других легальных журналах, но и те, которые нелегально печатались за границей или оставались неопубликованными, сохранившись в рукописном виде. Однако, несмотря на громадную работу, произведённую М. Н. Чернышевским, изданное им собрание сочинений его отца являлось далеко не полным. Ряд произведений Н. Г. Чернышевского, в том числе очень крупных, как, например, романы «Повести в повести» и «Алферьев» или «Рассказы о Крымской войне по Кинглеку», не вошли в это издание или же вошли только в отрывках. То же самое надо сказать и о «Дневниках» Чернышевского, представляющих исключительный интерес для характеристики умственного и политического развития их автора. Что же касается эпистолярного наследства Н. Г., то оно вообще не было включено в издание 1906 года. Таким образом это издание было далеко от полноты. Пробелы этого издания в настоящее время в значительной мере,— однако далеко не полностью,— заполнены рядом публикаций, выпущенных после Великой Октябрьской социалистической революции: тремя томами «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, рядом отдельных изданий его произведений, ранее неопубликованных или опубликованных частями, и, на[24]конец, мелкими публикациями в различных сборниках и журналах. Однако и этими публикациями литературное наследство Чернышевского ещё не исчерпывается. Некоторые его произведения, как, например, роман «Отблески сияния», остаются до сих пор неопубликованными. Таким образом действительно полным собранием сочинений Чернышевского мы до сих пор не располагаем. Это и было одной из причин побудивших Государственное издательство «Художественная литература» предпринять в связи с приближающимся пятидесятилетием со дня смерти Н. Г. издание собрания его сочинений, которое включало бы в себя[43] всё до сих пор выявленное литературное наследство Чернышевского.
Другая причина заключается в том, что мы до сих пор не располагаем достаточно точным текстом большинства произведений Чернышевского. При печатании в «Современнике» они подвергались сильной цензурной и редакционной правке, нередко приводившей к искажению мыслей их автора. В собрании сочинений, изданном в 1906 году, по общему правилу воспроизводился текст «Современника». Лишь в некоторых немногих случаях он сверялся с сохранившимися рукописями и корректурами. Между тем мы располагаем в настоящее время богатым собранием рукописей и корректур Чернышевского, хранящимся в Саратове в доме-музее его имени. Научное изучение литературного наследства Чернышевского немыслимо без самого внимательного использования этого собрания, дающего в ряде случаев возможность восстанавливать подлинный, не искаженный цензурой или в угоду ей текст сочинений Чернышевского.
Использование рукописей и корректур Чернышевского в целях восстановления подлинного текста его произведений было одной из задач предпринятого сперва Госиздатом, а затем Соцэкгизом собрания избранных его произведений. Это издание (до настоящего времени вышло 4 тома) внесло ряд коррективов в издание 1906 года. Однако восполнить целиком все дефекты этого издания оно не смогло, так как заключало в себе только избранные сочинения Чернышевского.
При воспроизведении точного текста произведений Чернышевского, не появлявшихся в печати при его жизни, издатели наталкиваются на одно чрезвычайно серьёзное затруднение. Многие его произведения, сохранившиеся в рукописях, написаны особым шифром, разбор которого требует и большой опытности в его расшифровке, и исключительно напряженного труда. Это привело к тому, что при воспроизведении в печати рукописей, написанных шифром, в них вкрался длинный ряд неточностей и ошибок. Это можно иллюстрировать хотя бы на примере дневников Чернышевского, издававшихся уже дважды: первый раз в составе I тома его «Литературного наследия», вышедшего в 1928 году, второй — отдельным изданием, выпущенным в 1930 году Издательством политкаторжан. В первом из этих изданий «Дневники» печатались по расшифровке их текста, сделанной М. Н. Чернышевским. Для вто[25]рого же издания расшифровка эта была тщательно проверена и исправлена Н. А. Алексеевым, установившим при этом ряд ошибок и искажений, допущенных при первой расшифровке. Можно сказать, что в издании 1928 года нет почти ни одной страницы «Дневников», где Н. А. Алексееву не приходилось бы делать поправок. Для нашего издания Н. А. Алексеев вновь произвёл расшифровку рукописей «Дневников» и это дало ему возможность вновь внести в их текст громадное количество различных поправок и изменений. В подавляющем большинстве они сводятся к уточнению расшифровки путём внесения некоторых исправленных слов и выражений, неточно расшифрованных в двух первых изданиях «Дневников». Однако в некоторых случаях эти поправки имеют весьма существенное значение. Приведём в подтверждение этого один чрезвычайно показательный пример.
В первом издании «Дневников» под 6 февраля 1849 года читатель находит следующую запись, относящуюся к тогдашнему другу Чернышевского В. П. Лободовскому: «Мнение его об Искандере не переменилось к худшему, во всяком случае, я думаю, что теперь он, как я, считает его чем-то вроде Пушкина». В издании политкаторжан читаем это место несколько иначе: «Мнение его об Искандере, кажется, переменилось к худшему» и т. д. При вторичной расшифровке «Дневников» для настоящего издания Н. А. Алексеев установил, что это место было прочитано в обоих изданиях неправильно: вместо «об Искандере» надо читать «о государе»!
Не меньшее количество исправлений пришлось вносить и в печатный текст других произведений Чернышевского, написанных шифром (черновая редакция «Что делать?», «Повести в повести», «Алферьев» и др.), и это вполне объясняется трудностями, с которыми сопряжена расшифровка их текста.
Всё сказанное выше показывает, что мы до сих пор не имели строго и точно проверенного текста произведений Чернышевского. Это обстоятельство, наряду с отсутствием действительно полного собрания сочинений Чернышевского, также является одной из причин, побудивших Государственное издательство «Художественная литература» предпринять настоящее издание.
Итак, настоящее издание преследует две основные задачи.
Во-первых, оно должно быть действительно полным собранием сочинений Н. Г. Чернышевского. Другими словами, в него должны войти все выявленные до сих пор произведения этого замечательного писателя, а также его письма.
Рассматривая вопрос о порядке размещения произведений Чернышевского между отдельными томами, редакционная коллегия остановилась на хронологическом принципе, как на основном. Однако она сочла необходимым сделать некоторые отступления от него.
Дневники Чернышевского, а также его автобиографические и мемуарные произведения составляют отдельный том (I том).[26]
Беллетристике Чернышевского отведено три тома (XI–XIII томы), в пределах которых соблюдается хронологический порядок.
Письма Чернышевского собраны в двух томах (XIV–XV).
Остальные произведения Чернышевского (его литературно-критические, публицистические, экономические, исторические, философские и иные работы) расположены в 9 томах (II–X тома) в хронологическом порядке. При этом без нарушения хронологического порядка в особые тома выделяются обозрения западно-европейской политической жизни («Политика»), которые Чернышевский вёл в «Современнике» в 1859–1862 годах (VI и VIII тома) и «Основания политической экономии Д. С. Милля» (IX том).
Кроме того, в XVI томе будут даны предметный указатель к сочинениям Чернышевского и библиография его произведений.
Таким образом всё издание рассчитано на 16 томов.
Вторая задача настоящего издания сводится к установлению точного текста произведений Чернышевского. Для достижения этой цели ряд специалистов-текстологов привлечён к работе над рукописями Чернышевского и корректурами его произведений. Как уже указано выше, эта работа чрезвычайно осложняется ввиду того, что многие произведения Чернышевского были написаны особым, выработанным им ещё в студенческие годы шифром. В настоящем томе издания читатели найдут подробное описание этого шифра, составленное Н. А. Алексеевым.
В основу текстологической работы редакционной коллегией положены следующие принципы.
Произведения Чернышевского, появившиеся в печати при его жизни, воспроизводятся в настоящем издании по первоначальному тексту. Разночтения и варианты, устанавливаемые сличением первопечатного текста с рукописями и корректурами, приводятся в приложении к основному тексту данного тома. Места, вычеркнутые цензурой или удалённые самим автором или редакцией явно по соображениям цензурного характера, вводятся в квадратных скобках в основной текст, если это можно сделать без нарушения связности этого текста; в противном же случае приводятся в отделе вариантов и разночтений. Расхождения первопечатного текста с текстом собрания сочинений 1906 года не оговариваются, так как проверка показала, что эти расхождения являются результатом случайного искажения первоначального текста при перепечатке его в собрании сочинений.
Произведения, не появившиеся в печати при жизни Чернышевского, воспроизводятся по рукописям, если таковые сохранились.
Слова и фразы, зачеркнутые в рукописях и заменённые другими, воспроизводятся в отделе вариантов лишь в том случае, если они имеют идеологическое, политическое или биографическое значение.
Правописание принято для настоящего издания современное; особенности же авторского правописания сохраняются лишь в тех случаях, когда они имеют фонетические значения (например, «хар[27]тисты» вместо «чартисты»). В тех случаях, когда автор не выдерживает определённого написания данного слова, допуская различные (например, «Фукидид» и «Тукидид»), принимается правописание, принятое в настоящее время.
Пунктуация даётся современная, за исключением тех случаев, когда автор специально оговаривал необходимость соблюдения всех особенностей пунктуации, принятой им в данном произведении.
Текст произведений Чернышевского сопровождается в настоящем издании комментариями, состоящими из примечаний и именных указателей.
Примечания имеют своею целью:
а) установить время написания и напечатания данного произведения и его цензурную историю, если таковая была;
б) выяснить, если это необходимо, причины, побудившие автора написать данное произведение;
в) объяснить недостаточно ясные для современного читателя места в сочинениях Чернышевского и раскрыть встречающиеся в них политические, литературные и личные намёки;
г) установить, если это требуется по содержанию комментируемого произведения, отношение Чернышевского к упоминаемым им лицам и событиям на основании других источников, в частности мемуарных;
д) познакомить читателей в сжатой форме с тем, как реагировала на данное произведение критика, представлявшая интересы различных классов тогдашнего общества.
В каждом томе наряду с примечаниями будет помещен указатель имён , встречающихся в данном томе. Относительно лиц, включенных в эти указатели, сообщаются, помимо фамилии, имени и отчества, годы рождения и смерти и краткие биографические сведения. Относительно лиц общеизвестных (например, Пушкин, Гегель, Наполеон, Дарвин и т. д.) биографические сведения не даются.
Всё издание редакция предполагает закончить в течение трёх лет.[28]
Дневники
[Дневник. Май 1848 г.]
В конце апреля 1848 г. сказал мне Василий Петрович Лободовский, что он женится; невеста — дочь станционного смотрителя на первой станции по Московской дороге (Средняя Рогатка) Егора Гавриловича, Надежда Егоровна.
«Это девушка,— говорит он,— молоденькая, полная, румяная, но, мне кажется, не отличается особым умом; добрая, будет меня любить и будет, конечно, верна до несомненности, но я не буду, кажется, в состоянии любить её и разделять её чувствований, потому что девушка простая, которую едва ли можно будет образовать, и верно я не буду с нею счастлив; её сделать счастливой постараюсь; главная причина жениться; это существо, которое я буду обязан сделать счастливым, будет для меня необходимым побуждением к деятельности, заставит меня выйти из той беспечности, к которой я привык, принудит и определить моё положение в обществе, и обеспечить его и материально и нравственно; заставит думать и о деньгах, и о службе, и об учёной степени, развернуть внутреннюю деятельность, которая может действовать чрезвычайно энергически, но слишком беспечна. Но родители мои? Эта девушка так проста и ограничена, что я буду стыдиться её перед своими родителями и сёстрами, которые несравненно выше её. Что делать? Я буду скрывать перед ними и всеми это как можно долее; когда нельзя будет скрыть, напишу; ездить к ним буду один, без неё; а старшая сестра (это превосходная, но выше своего состояния и женихов девушка, которая поэтому должна остаться незамужнею) пишет мне, что если умрут родители, она не будет жить у зятьёв, которые не могут понимать её и от которых она слышала уж несколько чрезвычайно для неё оскорбительных слов (ты слишком горда, и вот не выйдешь замуж), и будет жить у меня, говорит: «не правда ли, ты без меня не женишься?» А что теперь делать? Как показать ей мою жену? А я её так люблю! И сохрани бог, если умрёт отец,— что делать, как быть — я не знаю, с сестрою этою и матерью?» (О, как он любит семейство своё!) «Жена не будет знать ничего, я буду стараться сделать её счастливой, а сам — ну, шутя со мною выйдет что-нибудь нехорошее — шутя и запьёшь с отчаяния. А у неё есть сестра замужем, [29] это существо милое, которое я мог бы любить; муж у неё чиновник, совершенно истощённый; она поглядывает на меня неравнодушно; боюсь, как бы чего не вышло. Стану реже видеться с нею. Хотя другим она кажется хуже её, но у неё есть выражение в лице, которого у моей нет». — Он был в ужасном положении.
Ездит на Рогатку, предубеждение против ума невесты в нём делается всё менее и менее. Раз, через три-четыре дня, говорит: «Эта девушка вовсе не так глупа, как я думал; она перестаёт меня дичиться, и ныне я провёл у них вечер не так, как раньше,— вовсе непринуждённо, весело; она была так резва, мы играли, я целовал её, и физическая сторона даже волновалась, но сердце было совершенно спокойно». Дня через три ещё: «Она так несвязана и будет любить меня; мне было бы жалко теперь убить её отказом, я не могу не кончить дела. А между тем я совершенно равнодушен, и если пробудилась во мне, то только физическая сторона». После обручения был и говорит: «Во время обручения у меня физическая природа взяла своё, шевелилась, но больше ничего. А для этого употребления она чрезвычайно хороша, но это чувство совершенно физическое; и я готов был бы употребить её теперь, пожалуй».
При каждом новом свидании со мной он лучше отзывается о ней с умственной стороны, успокаивается; через четыре или пять дней после обручения говорит: «Может быть, я и привяжусь после к ней за её любовь ко мне; она так будет любить меня, что, может быть, я буду не несчастлив с нею; но мои домашние? Ах, бог мой, как бы мне хотелось повидаться с ними, а это, может быть, препятствие будет». — На следующий раз говорит: «Ну, эта девушка ничего, её, может быть, можно будет образовать; старший зять, слава богу, уезжает через месяц и этой опасности я избегаю. Я месяца через три после свадьбы напишу своим».
Когда он не хотел писать, его ужасно беспокоило, что это может само собой дойти до родных: отца, говорит, это убьёт. Старался скрыть от всех, особенно от Ивана Васильевича Писарева, который жил тогда на одной квартире со мной: «Этот, говорит, человек не может удержать языка, тотчас расскажет свите Иннокентия Харьковского (который тогда был здесь членом синода), и тотчас это разнесётся по харьковской епархии; даже и через Илиодора Курского свиту может дойти до Харькова. Как бы это сделать, чтобы не было известно? Не стану показываться с нею нигде, где могу встретиться с Иваном Васильевичем. От Залеманов скрою».— Наконец, открывает Ивану Васильевичу (Иннокентий переведён в Одессу и на время поехал туда, отпустивши харьковцев; Илиодор тоже собирается уезжать совершенно и уехал в самый день свадьбы, 18 мая), просит его быть шафером у него и свидетелем. Ив. Вас. немного поломался, согласился, почти не сделавши возражений и увещаний не жениться; только раз, встретившись с ним, говорит: «Я не хочу вас убеждать, но одумайтесь». Это ужасно взбесило Василия Петровича, который шёл ко мне: «Я, говорит, едва его не выругал; ах, какой пошлый и пустой человек». [30]
Дня за два перед свадьбою (кажется, в пятницу был он, а в субботу рассказывал утром мне) говорит: «Ну, я был там,— приготовляли и укладывали приданое, была идиллическая сцена, невеста плакала и так плакала, что я даже был расстроен и растроган и сам плакал; а, чёрт возьми, я тяжёл до слёз и чёрт знает, сколько уж времени не плакал. Нет, она не так ограничена, как я думал. Я напишу как можно скорее своим».
В субботу я готовился к экзамену, утро воскресенья тоже, в 4 часа он к нам; мы оделись, к свахе поехали,— она не готова; мы к нему — он одевался, я тоже переоделся у него; сваха приехала, мы поехали. Взошли в гостиницу, содержатель и содержательница были у него посаженые отец и мать, благословили; он в церковь, Ив. Вас. с ним, я пошёл в комнаты невестина отца. Там сидели 8–9 девушек, между ними мне более показалась хороша одна, черноволосая, с розовыми розанами в волосах, и другая белокурая, под вуалью, к которой часто подходил сказать несколько слов отец. Это была невеста; я думал, что её здесь нет; сидели минут двадцать при мне, все молчали решительно. Вдруг встали, вошли отец и мать, которые сидели в другой комнате, взяли образ и хлеб с солью, подошла невеста, перекрестилась, отец благословил образом, мать — хлебом; она сдерживалась; переменились,— отец взял хлеб, мать — образ и стали благословлять; она не могла почти удерживаться, начинала рыдать, когда благословлял отец, и уже решительно не могла удержаться, когда стала [благословлять] мать; я сам не мог удержаться от слёз. Это была девушка полная, с круглым благородным лицом, несколько напоминавшим лицо г-жи Альбинской: широкий лоб, правильно очерченный нос и подбородок, прекрасная шея и голубые глаза; но здесь я не мог хорошо ещё рассмотреть её, потому что более смотрел на черноволосую, которая сидела лучше относительно меня: я сидел у дверей, они против меня у окна, невеста совершенно напротив и потому её лицо было совершенно почти нельзя различить, черноволосая в сторону, и когда немного оборачивалась, в окне обрисовывался её профиль. Когда стали благословлять, она, конечно, стояла задом почти ко мне; только когда пошла после мимо меня (я стоял у дверей), я мог взглянуть на неё, но она рыдала и закрывалась платком, нельзя было хорошо видеть. Мы поехали в церковь; я с отцом её последние, в коляске, одни.
Когда венчали, я всё смотрел на них обоих, и она мне казалась лучше и лучше. Вас. Петр. стоял, казалось, спокойно, а между тем,— говорил после,— дрожал, как в лихорадке (я этого не заметил). Меня предупредило в её пользу благородство и тонкость, с которою она старалась держаться перед благословением, когда сидела, и во время благословения держалась спокойною и то, что даже в то самое время, как чувство превозмогло её, она так мило и благородно держалась,— естественная, как мне казалось, грация и благородство; и то же самое во время венчания. Всё время венчания я смотрел на них, любовался ею; теперь ближе и лучше взгля[31]нул на черноволосую, которая раньше казалась мне лучше, и увидел, что по выражению лица, т. е. вообще вблизи, когда видно не одни общие контуры, которые у неё весьма благородны, далеко ниже Надежды Егоровны, у которой контуры все так благородны, правильны и вместе с полнотою лица так изящны и тонки (хоть Ив. Вас. говорит, что у неё простое лицо без всякого выражения), и кроме того, лицо имеет такое тихое, даже в этом бурном состоянии, такое отрадное и вместе глубоко нежное выражение.
Выходя из церкви, я был радостен сердцем, и когда мы шли с Ив. Вас. и свахою вместе, я отпустил несколько фраз свахе, что она может гордиться этим делом и Вас. Петр. много обязан ей. Несколько минут мы должны были ждать коляски, между тем как другие все уехали; мы приехали таким образом с отцом её и Ив. Вас., когда все другие уже поздравляли молодых; нам подали бокалы, мы подошли и поздравили. Свадьба была в 8 часов, мы просидели до 11. В продолжение этих трёх часов Вас. Петр. несколько раз, подходя на несколько минут ко мне, говорил, что думает, что привяжется к ней тихою, спокойной любовью и будет с нею счастлив. «Я, говорит, рассказал ей о наших отношениях с вами». Это меня порадовало. Когда они ходили вместе, в каждом взгляде, в каждом движении её (они большей частью ходили и стояли под ручку) высказывалось такое нежное чувство к нему, что я почти не сводил глаз с неё, когда не говорил с Ив. Вас. или отцом её,— меня радовало это милое, нежное, благородное существо. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал, или как это сказать, меня,— так чувствовал, не в голове, а в сердце, какую-то полноту, чрезвычайно приятную: мне казалось хорошо, если я буду пользоваться расположением Надежды Егоровны.
«Я нашёл вашу супругу совершенно не такою, как ожидал, судя по вашим словам»,— сказал я тут (почти как только воротился из церкви) Василию Петровичу. — «Мне кажется, что — конечно, она не говорила со мною ни слова, но сколько я могу судить по физиономии, по широкому открытому лбу, который так прекрасен,— что Надежда Егоровна не может не быть девушка с большим умом, вовсе не ограниченная, как думали вы, а напротив». — «Мне кажется, что я привяжусь к ней от души и буду сильно любить её». — «Я радуюсь за вас».
Она держалась чрезвычайно свободно, непринуждённо. Старшая сестра мне тоже понравилась, но менее; тогда я не мог сказать хорошо почему, потому что не видел хорошо и вблизи её, но точно: тонкое, умное лицо (когда я был во вторник у них, я больше рассмотрел Ольгу Егоровну и увидел, что мне не нравится положение её глаз, которые сами хороши и выразительны, особенно эта часть лица под глазами, и то, что нижняя часть лица уходит слишком быстро назад и черты нижней части лица слишком тонки).
Он говорит: «Мне она теперь кажется хороша и вовсе не глупа, не ограничена, но сердце моё ещё совершенно спокойно». При[32]знаюсь, мне было чрезвычайно приятно, когда она остановила свои глаза на мне, потому что мне хотелось бы быть не чужим у них (дай бог, чтобы они были счастливы).
В 11 часов мы уехали. Вас. Петр. хотел быть у меня во вторник и взять к себе. Дорогою мы говорили о различных пустяках с Ив. Вас. Я приехал, лёг спать — сердце моё было полно радости. Я заснул через полчаса (в час) и уже не помню, что мне снилось, но должно быть приятное (не такое, что бы возбудило поллюцию), потому что я встал весьма радостен и жалел, что Фишеров экзамен помешает мне пробыть у них всё время. Пришедши на экзамен к Фишеру, я был так переполнен этим чувством, что не мог удержаться и стал говорить об этом с Корелкиным, хотя вовсе он не кажется мне человеком, с которым я любил бы делить чувства по симпатии, а просто некому сказать, так буду говорить и с кем бы то ни было, хоть сам с собою. Пообедавши дома в самом лучшем расположении духа, я до 5 часов просидел дома, после пошёл к Славинскому, где говорил с большим жаром о политике и новых началах и идеях, проповедуемых в Западной Европе,— говорил оттого, что сердце было полно и хотелось поэтому говорить.
В 9 часов воротился домой, и вечер понедельника провёл в самом приятном, сладком расположении духа, так что писать когда стал своим, начал было с жару писать об этой свадьбе, но, конечно, тотчас бросил и начал другое письмо; начало этого прежнего цело.
Утром был у Ворониных, после в почтамте, после у Тушева и Корелкина, после переписывал Куторгины лекции, на которых я не был, после отправился к Фурсову за шинелью. Эти вещи не дали мне сосредоточиться поутру, и я развлёкся. Так в 4 часа воротился я домой от Фурсова во вторник; дорогою стал сосредоточиваться и снова явилась радость. В половине 6-го пришёл Вас. Петр., говорит: «Моя жена до сих пор девушка; боится; во мне большая перемена нравственная,— это существо вовсе не такое ограниченное, как я думал; напротив того, в ней много ума, весьма много, и чрезвычайно много естественного благородства во всём, даже в манерах (это я-то заметил и в день свадьбы), и она будет иметь на меня чрезвычайное влияние, я с нею буду счастлив, она чрезвычайно любит меня; правда, она не образована, но этому легко пособить, у неё большие способности, и она весьма мила; я её буду любить и теперь неравнодушен. Начинаю быть деятельным».
Это всё вместе меня весьма обрадовало: во-первых, что он будет счастлив, она тоже. Во-вторых, что, несмотря на то, что теперь любит её и любит не только с физической стороны, как раньше, он говорит мне вещи такие, как что она ещё девушка,— это показалось мне ручательством за то, что он действительно расположен ко мне; однако я сказал: «Вы не должны говорить ни другим кому, ни мне вещи такой, что, например, она ещё девушка: после, может быть, вам самому будет неловко смотреть на человека, которому вы сказали это и так доверялись». [33]
Я нашёл, что привязан к нему несравненно больше, чем думал, потому что эти вещи так могут занимать меня, что я думаю о них почти так же и сильно, и постоянно, как думал раньше о себе и своём изобретении[44] и о том, что я сосуд божий, и проч.,— значит, я не так в сущности холоден ко всем, кроме себя, и не такой эгоист, как раньше думал; меня обрадовало и то, что физическая сторона во всех не так сильна, как обыкновенно думают, и что это поддерживает моё постоянное мнение о девушках, на которых, с одной стороны, я смотрю как-то слишком платонически и считаю их более, чем обыкновенно думают, доступными влиянию в обыденной жизни и выходе замуж других чувств, а не физической потребности любви. И как один из примеров и доказательств, что есть такие женщины и девушки, как я думаю про бóльшую часть их (пока не увлекутся они испорченностью жизни и не охладеют постепенно), мне стала мила Надежда Егоровна, мил и Василий Петрович, которые доказывают и служат примером моему взгляду на молодых людей.
С радостным сердцем я пошёл к ним. Он зашёл за женою к старшему зятю, мы остались с Ив. Вас. одни, и он говорит, что заметил сильную перемену в Вас. Петровиче: «Не хочет показать только, а сильно недоволен своим делом». — Мне стало любопытно и смешно, и смешны эти узкие люди. Они вышли. Она шла свободно и легко, с грациею; мы шли сзади; я радовался на неё: как мила шейка сзади! (Но только мне кажется, что она, когда сидит, держит немного голову вперёд, горбится в шее и должна умываться, чтобы не было веснушек: это когда я был во вторник у них.) Пришли. Она с милой детскостью впускала в комнату собачонку, мило спорила с Вас. Петр., который говорил, что собачонка мерзкая, что он купит хорошего щенка, чтобы она не приучала эту быть в комнате. Так мила, непринуждённа, нестеснённо держит себя в своём новом положении, которое, конечно, должно быть чудно ей, что в ней должно быть много такта и естественной грации, которая должна привязать Василия Петровича. Приехал старший зять с женою,— и Вас. Петр. непринуждённо держался со старшею дочерью, так что мне показалось, что теперь эта опасность исчезла,— и отец. Я большей частью смотрел на дочерей и рассматривал их, и младшая всё более нравилась мне. Мне было приятно сидеть, и я, кажется, сделал, что мы после просидели часом больше, чем следовало, и утомил Надежду Егоровну — с ½ 7-го до ¾ 10-го, 3¼ часа или 3½. Не знаю, давно я не чувствовал такого тихого осчастливливающего удовольствия, как в этот вечер. Вас. Петр., кажется, привязан к ней и привязывается всё больше и больше, шутит с ней, жалуется на неё — идиллия. Дай бог, чтоб было всё хорошо. Воротившись, весь вечер и всё утро, вот до самых этих пор, я был наполнен мыслью о них и счастлив тихим счастьем. Эх, хорошо иметь полное сердце. Это ещё более дало мне почувствовать радости семейной жизни,— во всяком случае, как я воображаю и желаю её всем. Дай бог. [34]
Вас. Петр. хотел ныне (в среду), как говорил вчера, быть в университете, после у Залеманов и сказать им, он жалеет, что не сказал раньше, когда мать Залемана два раза сказала: «смотрите же, за мои хлопоты (о платье Вас. Петровичу) пригласите меня на свадьбу», после зайти ко мне (поутру всё), после обеда ехать на Рожок для уроков.— 19 мая 1848 года.11½ — 1 час. утра.
Это радостно для меня и потому, что уверяет меня, что я не такой негодяй, как думал и, может быть, имел раньше основание думать, что я способен питать чистую привязанность к посторонней девушке или молодой женщине, не думая ни о любви к ней, как обыкновенно понимают эту любовь, ни о тому подобном, а просто питать расположение к ней (как питаю его к своему приятелю за то, что это человек и человек с благородною и милою личностью), которое, конечно, обусловлено полом, как и самое это чувство: ведь сестру любишь не так, как отца, а не потому, что возбуждает бурные чувства. Я верно буду привязан после к ней и из-за неё самой, вместо того, чтобы быть привязанным из-за Вас. Петровича.
23 мая 1848 г. ¾ 6-го пополудни. Вот уже неделя, как женат Вас. Петр. Лободовский. Ныне весь день я его ждал к себе, потому что он вчера сказал мне, чтоб ехать ныне вместе к тестю его. Я не умею хорошенько сказать, что я теперь именно такое чувствую. Кончаются экзамены у нас, я постоянно думаю о нём с Надеждой Егоровной: этого со мною никогда не бывало, чтоб я думал о других так, как о себе; и это не оттого, что не занят: читаю записки, есть замыслы свои, едут Любинька с Иваном Григорьевичем,— это довольно интересные, кажется, предметы, а между тем я постоянно думаю о них, и мне хочется видеться с ними и чтоб он рассказывал мне о Над. Егор., и сердце постоянно как-то сжато от ожидания: чувство приятное, хотя есть несколько и стеснений,— они, кажется, оттого, что не знаю как-то [он] ещё окончательно поймёт характер и пр. Над. Егор, и, кроме того, как он будет доставать деньги. Это странно, я не думал, чтоб меня могли так интересовать другие. Я теперь пишу совершенно неприготовленный к восторженности, читал записки Куторги, после — несколько времени «Débats»[45], но всё постоянно, правда, что я ни делаю, постоянно господствующая мысль у меня — они. Изложу теперешние свои мысли об этом.
Дружба ли это собственно к нему, или дружба к Над. Егор., или любовь к ней? Последнего я не думаю, потому что мне кажется, что — нет, не умею, как сказать: не то, чтоб она мне мало нравилась,— напротив, весьма: лицо, манеры, непринуждённость, грация вообще; не то, чтоб я почитал себя неспособным или не готовым любить: другие скажут, что так, но я знаю, что я легко увлекаюсь и к мужчинам, а ведь к девушкам или вообще к женщинам мне не случалось никогда увлекаться (я говорю это в хорошем смысле, потому что если от физического настроения чувствую себя неспокойно, это не от лица, а от пола, и этого я сты[35]жусь; напротив, это чувство мне мило и я питаю его); не то, что я мало знаю её: конечно, я почти не говорил с нею, но Вас. Петр. сказывал мне довольно многое,— напр., как она заботится о нём, всё время вертится около него, как на третий или четвёртый день свадьбы он чувствовал себя нездоровым, не спал ночь (перед совершением окончательного действия, которое, кажется, было, на другой день), сказал ей об этом, после утомлённый заснул: «просыпаюсь — она стоит подле меня на коленях и положила на меня свою головку». — Это на меня снова приятно подействовало. — Не умею сказать отчего, мне кажется, что это не любовь к ней.
Может быть, это льстит мне моё самолюбие, что молоденькая, милая девушка будет расположена ко мне не так, как, напр., любит меня сестра, ведь это будет не по привычке с её стороны, а значит будет то, что во мне действительно есть хорошее сердце, что я не эгоист, ничего не внушающий. И кроме того, может быть, я так дик, что для меня имеет особую прелесть необыкновенности быть хорошу, быть откровенну (быть любиму, как брат) с молоденькою, милою, хорошенькою, может быть, если угодно, красавицею; я не знаю; может быть.
А может быть, это дружба к нему собственно, и всё это происходит оттого, что я знаю, что если она не будет счастлива, он будет мучиться при своём благородном характере; а она не будет счастлива, если он не будет любить её, а в этом деле (как говорит, не знаю, угадывание истинного, не знаю, самолюбие, Eigendünkel[46]) я могу много содействовать его любви к ней, и поэтому, хотя мне самому незаметно это, чувство долга и желание счастья ей (оно зависит от любви его),— т. е. ему, потому что и он не выдержит со своим характером, если не сделает её счастливою,— заставляет меня беспрестанно думать о ней, так ли точно она мила и добра и хороша, как бы мне хотелось и как бы должна быть для того, чтобы приковать его к себе, и желание, и надежда, и сомнение, эта полууверенность, в которой более уверенности, чем сомнения, занимает меня (пришёл Ив. Вас., стали пить чай вместе, так прошло до ½ 10-го).
Это может быть, конечно, но этого мало, я не просто думаю о ней, а думаю с удовольствием; и, кроме того, признаюсь, теперь, когда я почти уверен в хороших последствиях этого дела, я гораздо больше думаю о супруге Василия Петровича, чем думал о ней или о нём тогда, когда он бывал у меня расстроенный перед свадьбою; а тогда, если б это было одно чувство дружбы к нему, я должен был бы гораздо более думать о нём, между тем как тогда я думал о нём, как всегда думаю о другом человеке, которого, правда, люблю, но всё же не как себя (хотя, может быть, для него и готов бы сделать больше, чем для неё),— так, как теперь думаю о Промптове,— минутами, когда вздумается; а теперь я думаю об этом постоянно. [36]
Да вообще, может быть, я могу иметь влияние (он говорит это), тем, что буду хвалить или нет её,— я поэтому сильно интересуюсь своим мнением о ней, и мне хочется, чтобы оно было лучше как можно — так à force de forger[47] и выходит, что я постоянно и всё думаю о Над. Егор., и думаю с любовью к нему и к ней и поэтому с наслаждением. — Может быть.
Вообще всё это есть понемногу, не могу сказать, что именно в какой степени участвует здесь, но что-нибудь одно из трёх, другие чувствования не могли бы иметь такого сильного действия на меня, ведь постоянно я думаю. Или я слишком люблю Вас. Петр. и через него думаю о ней, надеясь теперь от неё счастья для него, люблю её; или во мне развивается склонность к Над. Егор. (может быть, братская, может быть, нет, о последнем я не думаю, а что, если?), или это чисто самолюбие, что вот я стану братом по Wahlverwandschaft[48] молоденькой, хорошенькой, чистой девушки; нет, во мне могло родиться это и оттого, что я предполагаю эту душу чистою и милою, как я всегда склонен думать о девушках и вообще о людях, пока они не испорчены.
Одно могу сказать,— что теперь мои мысли о ней так чисты, что я даже не предполагал в себе способности так свято и чисто думать о женском существе, привлекательном по внешности. Например, бывали поллюции (хоть ныне была), я весь вечер и как просыпаюсь думаю о Над. Ег. и, слава богу, я не видел ничего относящегося к ней в это время и с Вас. Петр. её, например, в иных положениях, и я думаю об этом так безмятежно, как никогда не думывал.
Вот что ещё: из этого серьёзно, может быть, выйдет, что я стану сближаться с существами другого пола, которые будут и всегда чисты, и привлекательны по душе; может быть, из этого выйдет перемена моего характера, и, кажется, я довольно чувствую в себе что-то похожее на понимание сладости любить в смысле любви к возлюбленной, между тем как раньше я серьёзно не думал об этом: бредни были физические, а потребности любить не было.
Дай бог, чтоб я мог всегда так же спокойно, ясно, без упрёка в тайных нечистых помыслах смотреть на Надежду Егоровну, как не могу я смотреть на многих других,— например, Любиньку (боже, какой мерзавец!).
Меня тянет видеться с ним, слушать его; видеть её или нет — всё равно почти.
Иногда мне кажется, что я, может быть, заставляю себя думать о ней потому, что это льстит мне, потому, что тогда я могу представлять себя хорошим человеком — а сам по себе немного думал бы. — Нет, само собою думается,— странно. Дай бог, чтобы оставалось это в таком направлении, как эти дни, всё до сих пор. [37]
Не так ли это: всегда я склонен — может быть, потому, что дурен слишком сам (сколько за мною тайных мерзостей, которых никто не предполагает, например, разглядывание (?) во время сна у детей (?) и сестры и проч., то же после у наших служанок и проч.[49], судить о других не по тому, каков я сам, а по тому, каковым бы мне хотелось быть и каковым быть было бы легко, если бы не мерзкая слабость воли, это laissez faire[50] которого, как я думаю, нет у других,— я не хочу оскорблять человечество, судя о нём по себе вообще, а сужу о нём не по цепи всей своей жизни, а только по некоторым моментам её, когда бываю доступен чувствованиям высшим; поэтому я готов всё видеть в свете той неиспорченности, какую я желал бы иметь сам; кроме того, я смотрю с серьёзной точки зрения на все положения и всегда считаю высоким человека, если замечаю в нём что-нибудь такое,— напр., всегда отец священен в моих глазах, всегда священны муж и жена,— поэтому я способен увлекаться энтузиазмом и с этой своей идеальной точки зрения смотрю на это — и на Надежду Егоровну.
Дневник второй половины 1848 г. и первой половины 1849
ДНЕВНИК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1848 ГОДА
(с 12 июля до 31 декабря)
И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1849
(до 11 июля)
21 год моей жизни.
12 июля 1848, 2 часа ночи. — Встал, стал до чая разрезывать летопись Нестора (завещание Мономаха), дорезал; за чаем читал «Débats» 15 июня, где Леру говорит о колонизации Африки. Над ним смеются в палате и «Débats»,— это уяснило мне, что это за люди: они так же ограничены, как и мы, так же точно не могут понять ничего, что не вдолблено им, и всё новое кажется им смешной нелепостью; но эти задолбленные понятия у них всё-таки лучше и выше тех, которые задалбливают у нас.
После чая пошёл к Славинскому собственно для того, чтобы высказать, что я не напишу Срезневскому,— это намерение принял я, когда услышал от Вас. Петр. о мнении товарищей, и был так счастлив, что в это самое время был у него Лыткин, который один из тех, которые более всего говорили против этого. Мы говорили, я кричал, как обыкновенно, но собственно беспокоился, как высказать это, как довести речь к этому. Лыткин, к счастью, сам навел: «Пишете?» — «Нет». Вскоре он встал уйти, я пошёл с ним; на дороге (всего от Пантелеймона до Фонтанки было идти вместе 30 сажен) он снова спросил: «Что ж вы так скоро переменили намерение?» — «Я никогда и не имел твёрдого намерения [38] писать». — «Да, точно,— говорит он,— слишком много труда, и бесполезного».
Пришедши домой в час, я всё разбирал нарезанные слова[51] и разобрал буквы А и Б; только перед чаем в обыкновенное время пошёл было сказать Вас. Петровичу, что слышал от Лыткина, что свободно место учителя истории в Вознесенском училище, но не застал их дома. По дороге купил Любиньке сассапарельной эссенции у Стефаница. Когда вечером Ивана Гр. не было, она сказала, что серьёзно боится, что не выздоровеет; я ободрял, но плохо и совершенно без успеха. Что, если её предчувствие справедливо? Когда резал и разбирал, думал — правда, несвязно и невнимательно, развлекаемый работою — более о Василии Петровиче.
13 июля, вторник. 11½ час. — Встал в 8½, до 10¼ писал домой, после пошёл в университет, надеясь найти там письмо от папеньки и верно с деньгами,— не было; воротился в 12, до 5 разбирал букву В и разобрал её на отделения по первым двум буквам — Ва, Вб и т. д.; в 5 час. в баню с Ив. Гр. до 7½; на обратном пути застал сильный дождь; тотчас же, как мы, пришли Ал. Фёд. с Ив. Вас., просидели до 9, играли в карты. После [пошёл] я к Вас. Петр. сказать о месте в Вознесенском училище, где просидел до 10⅓, воротился домой в 11. Ив. Гр. уже сидел за ужином. От ужина писал это, почти ничего не читал, только несколько страниц Горлова «Теории финансов» [52] — слишком ограниченного ума и небрежно составленная книга, и «Débats» 16 и 17 июня. Иван Гр. и Любинька всё шутили, как обыкновенно, целовались и я вовлекался в их шутки; кажется, всё мило и хорошо, а между тем что-то нет душевного наслаждения, когда смотрю на них — как будто они пошловаты. Не то Лободовские; ныне она мне ещё более понравилась лицом, когда вполоборота ко мне подняла головку к Вас. Петр., и ещё более убедился я, что она весьма умна и с характером и нежным сердцем. Вас. Петр. хотел идти завтра к Муравьеву и зайти ко мне. У него говорили о воровстве, доказывая, что это ничего, что у отца особенно красть нечего,— он говорил ей: «Украдь у своего»,— что мошенники лучше нас, и т. д.
Любинька, которая знала, что ныне день моего рождения, подарила мне фунт пряников, раньше спросив, люблю ли я их,— это произвело хорошее впечатление на меня. Письмо Свинцова-отца к сыну отправил в Саратов в своём. Расход — 20 к. сер. письмо, 30 к. сер. чищение 2 пар перчаток, 17 коп. сер. баня.
14 июля 1848, среда,11½. — Не нашедши вчера в университете письма, я думал, что позабыли послать; ныне в 9½ час. Говорят мне: «Вас спрашивает солдат». Я думал: Фриц за тем, не нужно ли сапог, выхожу — университетский сторож; я думал: требование в университет, как тогда, когда требовали взять назад бумаги, сердце дрогнуло,— нет, посылка на 25 руб. сер., почта опоздала ; я дал ему 20 коп. сер. В 10¼ в почтамт, где я был один, тотчас получил и воротился поэтому раньше, чем сказал сестре, как всегда говорю, когда ворочусь,— главным образом для того, [39] чтоб, если придёт Вас. Петрович, так она б сказала и удержала его подождать, хотя не высказывал ей это; прочитал письмо в почтамте — там о смерти Олимпа Яковлевича отца,— итак, это письмо должно быть известно Ивану Гр. и Любиньке, да и без того трудно утаить, потому что Любинька раз заметила, что обещались писать со следующей почтою; что делать? Сначала думал показать с деньгами и сказать сестре: «Как хотите, если хотите — отдам деньги, но мне хотелось бы купить Гёте, который продается весьма дёшево, за 15 руб. сер.»,— и взял бы Гёте у Василия Петровича[53]. После решился, идя дорогою, не заходить теперь к Олимпу Яковл. в типографию, как думал утром, потому что на мне был старый сюртук и брюки, а зайти вечером на дом. После передумал: не буду им показывать письма ныне, а завтра утром пойду как будто бы в университет за письмом, а сам к Олимпу Яковл., скажу и ворочусь оттуда с письмом, как будто бы только [что] получил, а сам ночью подделаю письмо и вложу в один из старых конвертов, где числа на почтовых штемпелях стерлись; спишу из письма всё, кроме 5 строк о деньгах. Это оставалось до 11 час. — мысль подделать письмо.
После, когда стал в 11 час. Готовиться подделывать, лень много копировать сквозь плохую бумагу, несходство в формате бумаги, на которой писано письмо, и той, которая у меня, боязнь, что заметят странность и какую-то необыкновенность почерка, что тем легче, что перо починить как следует нечем (и действительно, снимок 5 строк, которые должно зачеркнуть, вышел дурно), подали мне мысль показать это письмо, только зачеркнуть 5 строк, где говорится о деньгах, и сказать, что это зачеркнул папенька, как это часто довольно бывает: верно писал, чтобы я в чём-нибудь переменился, не подавал повода к огорчениям и был благоразумнее, а после передумал и вычеркнул; а теперь думаю сказать на себя, что это я вычеркнул, потому что не хотел этого показать Олимпу, к которому заходил я с тем, чтобы показать письмо, и от которого должен ожидать, что он станет читать всё под ряд. Конверт найду другой.
Это письмо тронуло меня, потому что показывает такую нежность со стороны их,— пишут теперь, что Палимпсестов приехал, потому что знают и предусмотрели, что это интересует меня; маменькино письмо дышит нежностью — мне стало себя немного совестно.
Придя домой, сел за дело; они сидели и болтали, я вместе с ними и несколько раз едва было не проговорился то о смерти Ол. Як. отца, то о Богдане Христофоровиче и Марии Дмитриевне, то о Вареньке — проклятая болтливость. В 9 часов пошёл сказать о деньгах Василию Петровичу.
Да, перед обедом, когда Ив. Гр. ушёл в сенат, а я уж воротился, Любинька спросила, почему Лободовский вообще не так часто приходит и не сидит у меня так долго, как прежде. Я ей сказал: во-первых, потому, что, может быть, это стесняет их, а во-вторых, потому, что здесь разговор связан; она сказала, что [40] я оскорбляю её, когда думаю, что мои гости могут обременять их, скорее ихние меня, тем более, что Ив. Гр. и не занят ничем.
Итак, я пошёл к Вас. Петр. У него готовился чай,— они пьют в 9 час. обыкновенно, а не в 8, как при мне, это я узнал только вчера, пришедши к ним первый раз в это время; у него тесть и Пелагея Васильевна. Я ему сказал на ухо о деньгах и сказал, что мне сидеть некогда; он говорит: «Я провожу вас» (верно сердце переполнено, хочет излиться), чего обычно не говорил; тотчас встали. Тестя просил подождать и пить чай, тот обещал. Мы дошли почти до конца их линии, потом воротились; на полдороге попался тесть и Пелагея Васильевна: рассердились верно и не стали дожидаться, а между тем времени прошло только 4—5 минут. Он дорогою говорит: «Я расстроен, право, снова уйду». — «Что же?» — «После, теперь я огорчен». Через минуту стал говорить: «Это такие пошлые люди, каких я ещё никогда не видел: сердятся, что я горд; сплетничают, всё слова перетолковывают, шпионничают, где я бываю,— думают, что я по трактирам; сердятся, что я знаком с молодёжью (верно говорили что-нибудь про меня дурное и это его рассердило, как раньше огорчался тем, что Надежда Егоровна на слова его: «завтра будет Залеман», который до этого времени был только раз у них, сказала: «ну, уж твой Залеман-то»). А между тем обкрадывают со всех сторон: тёплый салоп Надежды Егоровны взяли — и пропал; большой самовар тоже, а маленький самовар худой, поэтому Вас. Петр. говорит, я хотел переменить его с придачею медной посуды, которой было много, на новый, хвать нынче,— её нет, один кофейник; чай и сахар таскают постоянно; ныне были 12 человек, хозяйничали, распоряжались, смерть и только, а между тем деньги у них есть, добро бы не было; пошил себе тесть новое платье,— видели, как разрядился, и пришёл показывать, красуется, велит смотреть, как будто насмехается» (что его задело это, я видел ещё вчера, когда в разговоре он говорил, что у своего отца не грех украсть, «а тебе, вот, Надя, можно — у твоего есть деньги,— смотри, каким франтом разрядился»), «это выводит из терпенья,— и молчать? или высказать?»
Я готов был отвечать, что лучше молчать, как он толкнул меня: перед нами стояли тесть и Пелаг. Вас. Он просил воротиться, она не захотела, хотя я обещался проводить; он хотел, но когда я вышел, его ещё не было и верно не придёт, потому что рассердился на меня. Я взошёл снова к ним, через несколько минут вышел и, идя дорогою, передумывал, не лучше ли сказать тестю, что понимают его, иначе это не будет иметь конца, и он решительно испортит отношения Надежды Ег. к Вас. Петр.; высказать — и без Надежды Егор.; а после передумал: нет, лучше при ней, если только чувствует, что достанет терпения выдержать и не наговорить ругательств, потому что, если это будет без неё, ей насплетничают про этот разговор бог знает что, лучше пусть видит сама его благородство. [41]
Сказал ему, что говорила мне Любинька о нём, только её слова приписал Ив. Гр., что отчасти справедливо, потому что она верует в него и верно хорошо знает, что это не против него будет. Пришедши домой, молол глупости, как дурак, хотя было вовсе не весело,— правда, не было слишком большого и томления, да ведь это бывает редко. Завтра в 10½ выйду к Ол. Як. и буду до 11½ у него; скажу, был в университете; в 5 часов хотел прийти Вас. Петр., которого, как теперь вижу, более всего действительно удерживало опасение быть неприятным гостем, а меня тревожило, что он не бывал, думал, что это оттого, отчего я не бываю, напр., у Александра Фёдоровича.
С каждым новым свиданием я вижу в нём всё более и более. Это странный человек, какого ещё нельзя найти, человек великий, благороднейший, истинно человек в полном смысле слова.
Да, совесть как будто говорила, что не должно обманывать так сестры и скрывать деньги, да нельзя: человек так устроен, что ему ничего нельзя сказать серьёзного, а не пошлого: тотчас, во-первых, поймёт не так, во-вторых, выведет бог знает какие следствия, в-третьих, сделает бог знает какие предположения, в-четвёртых, разболтает; а домой, подумал, не написать ли о Вас. Петр. и дружбе моей с ним, только не о финансовых делах, и не входить в большие подробности о нём, потому что, известное дело, не так поймут и не так станут смотреть.
Вчера был случай, доказывающий, что мною, однако, не слишком пренебрегают и что говорить своё мнение не всегда бесполезно. Ив. Гр. говорил, что пойдёт купить чаю и сахару и лучше в маленьких магазинах, потому что дешевле; он был в этом уверен довольно твёрдо. Я сказал, что в больших дешевле и лучше, напр., у Белкова и Чаплина, и ругал после себя за это,— а он купил у Белкова. Вчера же Ив. Вас. Писарев, взошедши, поцеловал меня, и показалось мне, что он добряк, и совестно, что я постоянно смеюсь над ним, а между тем и вчера и ныне смеялся (половина первого, ложусь). Да, вчера же был утром неприятно поражён своей небрежностью, когда утром увидел начало этого журнала, где было записано только 12 июля, лежащим на столе — позабыл спрятать в ящик. Однако, я как-то эти дни мало раздражаюсь и томления нет. Работал всего 8 часов, кончил В и начал Г.
15 июля. — В 10 час. пошёл к Олимпу Як. узнать, писали ли ему о смерти отца, и, может быть, сказать, если не писали; но мне должно было провести 1½ чaca вне дома, чтобы сказать, что я был в университете, и показать письмо. Ол. Як. не застал, пошёл в Гостиный двор, купил бумаги почтовой полдести на 30 коп. сер., после пошёл к Фрицу, который пришёл вечером и взял сапоги приделать головки. Пришёл, показал письмо. Любинька посмотрела на замазанное место на конверте (от одного письма за май): была стерта надпись, которую я делал на конвертах, когда отправлено письмо, и стертое залито чернилами, как будто стерты были чернила; не нужно было этого делать; стала разбирать замаранное [42] маменькою и разобрала, а того, что я замазал, не стала, потому что сразу видно, что ничего нельзя разобрать, или потому, что догадалась.
В 5 час. по обещанию пришёл Вас. Петр., сидел до 9; мы сидели, говорили, как раньше в моей комнате, когда я жил один. — Говорил, как его раздражает тесть своею пошлостью; потом говорит: «Не знаю, как теперь любят меня дома». Стали говорить о своих домашних делах; по его словам выходит, что его отец — человек ограниченный, довольно тщеславный и обыкновенный; сестру, говорит, особенно любит Анну, вторую. Вместе с этим говорил о пошлых людях, о том, что они способны на всякие гадости, хотя, может быть, бессознательно; ссылался, что добродетель может быть только у человека с хорошей головою. — Я говорил, что иногда думают, что всё это высшее качество, высшая натура — вздор; посмотрите на то, как действует этот человек (при этом я думал о нём), и выходит, правда, что он может быть несчастлив, может делать несчастливыми и других, но всё делает не то, что [другой], и другой не может сделать того, что делает он.
Тесть вчера воротился; придёт, разляжется на диване, распоряжается как хозяин, критикует с чувством своего права кушанье. — «Я,— говорит,— при нём не могу есть без отвращения. Быть,— говорит,— деликатну с такими ограниченными людьми, совестливу, как я бываю, не годилось бы — они ведь не понимают, что это снисхождение к ним, и обходятся с тобою за панибрата, ставят тебя ниже себя, кладут тебе руки на голову; вчера — говорит,— не выдержал, ушёл и ходил верст 15, без этого насказал бы ему; придётся кончить, как Самбурский — выгнать его просто из дому». — «Что не переедете на Петербургскую, удалиться бы от них?» — «Перевозка стоит 10 руб.; во всяком случае теперь здесь хозяин поверит, если не заплатить ему, а там этого нельзя будет, потому что незнаком».
Говорили много о пошлых людях, я приводил примеры и, между прочим, Любиньку и Ив. Гр.; я, кажется, решительно увидел, что опасаться, чтоб он полюбил Любиньку, нечего. — «Вот, говорю, видите, напр., целуются — очевидно от скуки». До сих пор мне только две женщины попались, не внушающие неприятного чувства, это Александра Григорьевна, дочь Клиентова, и Надежда Егоровна. Снова говорил в её пользу; привёл, как дурно обходится отец с Александрою Григорьевной. «И [с] Надеждой Егоровной, умрите вы, то же будет — взять к себе возьмут, потому что не взять неприлично, но принуждена будет идти в служанки». — «Да,— говорит он,— сам говорит — отрезанный ломоть; и всё, говорит, перетолковывают в дурную сторону; тесть говорит: «Вот вы как обходитесь с Николаем Гавриловичем, а мы родные, больше должны любить друг друга»; они думают, что я знаком с молодёжью, вместе кучу и мошенничаю». — Я говорю: «И это всё перетолковано в миллион раз подробнее и обстоятельнее Надежде Егоровне, она должна беспокоиться». — «Да,— говорит,— я два [43] раза видел, что она плачет; даже спрашивали её они, люблю ли я её; она говорит: «Судя по ласкам и внимательности — любит»; мне её жаль более, чем когда-либо». — «Да,— я говорю,— вам должно быть осторожнее в словах, чтобы не подавать ей повода к подозрениям; вот, напр., мы говорили третьего дня с вами о кражах и т. д.,— ведь за пять лет вы были в миллион раз на высшей ступени развития, чем теперь она, а что бы вы подумали о людях, говорящих такие вещи?» — «Да,— говорит он,— она меня спрашивала об этом и приняла это в шутку».
Я спросил его, находил ли он вообще когда-либо людей, с которыми можно быть откровенным,— по поводу того, что его не понимали дома, и он должен был быть не откровенным. Он говорит: «Да, иногда находил, но теперь я неспособен к откровенности, потому что лета не те и поэтому и с вами не откровенен» (это я и раньше думал, что не совсем), «а между тем с вами можно быть откровенным, потому что вы ко всему приготовлены и не отвернётесь, если я скажу, что украл, как это сделает отец; он отречётся: делать подлости можно, только чтобы не знали их, вот его правило». Решили, что тщеславие и пристрастие, по которому осуждается в другом то, что уважается в себе, и злобные пересуды (я привёл в пример насмешки Любиньки над всеми её женихами, это ему понравилось, верно потому, что он вспомнил, между прочим, как переменилось мнение его родных об Антоновском, который, когда был женихом Марьи, был прекрасен, после стал негодяй) — признак людей ограниченных и пошлых; что они всему радуются и печалятся и ничему глубоко. — Я говорю: «Это от пустоты и отсутствия собственных интересов,— это как река,— течёт, и ничто не делает впечатления на неё,— так, когда имеешь свой интерес,— а то как болото стоит — только чуть тронь, и потечёт вода, как тебе угодно». Это было отнесено отчасти к его родным. «Я,— говорит,— сказал Надежде Егор. о наших отношениях с вами для успокоения её, говорил о деньгах ей». — Я говорю: «Это не должно». Он говорит: «Было нужно». Я говорю: «Особенно не хорошо, что вы говорили об этом Залеману; хорошо ещё, что Залеман в энтузиазме к вам, но ведь это знаю я, а не вы, как же вы могли сказать ему это? Если вы не хотите сделать человека смешным, вы не можете ничего сказать хорошего про него, кроме того, что не пьёт вина и не играет в карты; что не ходит к девкам, не прибавляйте, а то выйдет, что употребляется или употребляет мальчиков».
Я говорил довольно много об Александре Григорьевне и Надежде Егоровне и о впечатлении их на меня, совершенно отличном от впечатления, произведённого другими. «Думаете,— говорю,— что это вздор? Нет, не вздор; нет, это действительно существа высшей натуры, в которых есть это естественное благородство и такт, а то другие говорят всё и прилично, и хорошо, да некстати в сущности, или то, что не следовало бы говорить, например, делают что-либо для вас, н не хотят это показать, а между тем [44] делают так, что выказывается это вам». (Свойство, противоположное этому, я точно заметил в Надежде Егоровне: она делает так, что только после рассудишь, что это было сделано для вас, а сразу и не заметишь.)
Меня радовало, что он снова будет бывать и мы снова будем говорить с ним, как раньше, откровенно в некоторой степени; что он не станет думать, что беспокоит, приходя ко мне. Отдал ему 25 р. сер., которые получил. Завтра хотел принести Любиньке «Современник» июльскую книжку и «Домби и сын», 1-я часть[54]. Посылал за табаком (20 коп. сер.; сдачу отдали не мне; итак, истрачено 50 коп. сер.).
У Горлова пояснил себе раньше тёмную мысль, что налог выдаётся в расход раз, а с народа берётся два раза, в первый раз — когда собирается, во второй — произведениями, за которые снова отдаётся поставщикам, и что проценты долга государственного (мысль эта раньше мне не приходила в голову) берутся у производящих сословий, а отдаются [не] производящим, а живущим рентою. Работал всё время, когда был дома один, с 9—10, 12—5 = 6 часов, кончил Г, разбирал Д и списал до слова «до». 12 часов вечера, ложусь.
Да, прояснилась мысль во время разговора с Вас. Петр., что чем больше понимаю, тем больше высоко ценю папеньку и тем более замечаю в себе сходства с ним. Боже, сохрани его! Думаю более всего о Вас. Петр., несколько об Ол. Як., почти ничего о себе, как теперь обыкновенно; как сестра бывала на глазах, то заговаривал с нею обычным насмешливым тоном — её беспокоит её положение: думает, не поправится. Бог знает. Ив. Гр. сказал, входя: «Вы утешаете её?» — «Да,— говорю,— только, кажется, безуспешно, как вообще бывают утешения». — «Правда,— говорит он,— в это самое время утешения только раздражают нас и более утверждают в нашей мысли; но после мы рассудим и согласимся; что в них есть резонного, в самом деле утешило». Эта мысль вертелась не слишком ясно у меня, а она важна.
Пятница, 16 июля, 12 час. — До 5 часов работал, когда принесла Марья (служанка Катерины Павловны) записку от Александра Фёдоровича: «Папенька умер, приходите поговорить о судьбе брата». Тотчас пошёл. Это известие принял я весьма холодно, Любинька и Ив. Гр. тоже спокойно, снова стали играть в карты, как прежде. Шёл, думал, что, может быть, найду его чрезвычайно встревоженным,— он был спокоен, даже лицо с почти обыкновенным выражением; я взошёл, мы молча поцеловались, он дал мне прочитать письмо брата; оно было написано хорошо, с умом, связно, с чувством — он говорит о желании отца, чтобы он был на его месте, говорит — «Я сказал, не могу, и как мочь? Нет невесты, кроме грубых, обязанности тяжкие и т. д.». Он хочет быть в светском звании и, если можно, жить вместе с братом здесь,— так подействовало на него одиночество его теперь, «пусть наша могила будет одна». Ал. Фёд. говорит: «Я пришёл [45] домой из департамента, письмо лежит, прочитал, ноги и руки затряслись, я был сам не свой, не помню, что писал вам (я пришёл верно через 20 минут после этого), теперь начинаю приходить в себя».
Он говорил рассудительно, по виду холодно, сказал: «Как жаль, нет и портрета; я очень рад, что все письма его целы у меня; жаль, нет маменькина; смерть дяди (Минаева) навела меня на мысль, что из наших ещё кто-нибудь умрёт: всегда умирали по-трое». О брате стал говорить: «Оно, говорит, видно, что ему хочется сюда, хотя он представляет на моё решение; против воли нельзя, пусть едет, место я достану, он будет получать хоть 10 руб. сер., с этим будет у нас 2 000, можно жить». Он говорил о делах, ничего не позабыл, кажется: а как ему ехать? Через год, который остаётся дослужить до трёхлетия для службы в губернских местах, или осенью? Лучше осенью. Мысли эти были у него, я был совершенно согласен. «Пойду,— говорит,— узнаю у Страховского о местах в канцелярии генерал-губернатора». Не застал его дома и зашёл к нам; в это время Ив. Гр. не было, мы пили чай; пришёл и Вас. Петр. в 7¼ час.; говорил довольно весело, так что другой и не заметил бы ничего в Алекс. Фёд. особенного; а между тем это известие должно сильно подействовать на него по его характеру и придаёт его характеру новый вид.
После он ушёл, мы посидели с Вас. Петр. ещё до 9 час., он говорит: «Я пойду завтра далеко гулять куда-нибудь». Я говорю: «Лучше пойдёмте вместе, заходите ко мне». Бедный, он всё более и более приходит в дурной образ мыслей, делается более и более мрачным и более и более впадает в кручину; я хотел пойти с ним, чтобы он не ушёл в Петергоф или Царское (как говорил он, едва было не ушёл четвёртого дня), проводить его, поговорить, может быть, успокою несколько его; тяжело ему, тяжело; а между тем, странно — я как будто не трогаюсь этим, сердце не щемит; жизнь, кажется, отдал бы для его счастья (не знаю, может быть, отдал бы,— если б знал, что не будут слишком тосковать папенька и маменька, конечно, отдал бы тотчас и за счастье не всей его жизни, а хоть на год). «Хорошо,— говорит,— я приду в 10 час. за вами, или вы приходите в 5». Я отказываюсь обыкновенно, когда он говорит «приходите», потому что думаю теперь (дня 3 назад), что это может более раздражать против него тестя, который будет расстраивать Надежду Егоровну.
Говорил с Любинькой, довольно спокойно по наружности, сидел; в 10½ пришёл Ив. Гр., за ужином говорил о том, что ему не нравится, когда говорят о высших правительственных лицах нехорошо: хоть палка, да начальник; от этого разрушается государственный порядок и доходит дело, когда каждый мыслит, до того, что теперь во Франции. Я говорю: «Начальники слишком много на себя берут, позабыв, что не подчиненные для них, а они для подчиненных, и тем вызывают осуждение и строгость к себе; не правда существует для государства, а оно для правды. Кто [46] различает человека и палку, место и власть и человека, занимающего его, тот не должен бояться суждением о нём ослабить в себе уважение к власти; во Франции и теперь лучше, чем у нас». — «Да,— говорит он,— в материальном смысле, а в нравственном что?» Я говорю: «И в этом лучше, чем у нас, и семейные отношения лучше; а что мы думаем, что у нас лучше,— это от самолюбия, которое говорит: лучше нас, т. е. меня, нет и на свете никого; кроме того, оттого, что мы взросли в этих понятиях и думаем, что иначе и быть не должно, а если есть иначе, то это гадость». Дело делал часов: 9—5 ( — 1½), 9—10½, 11—12; = 10, разобрал до З. Букву И только начал разбирать, почти ещё не раскладывал по местам. Читал 20 июня «Débats», проект конституции.
Суббота, 17 июля. — В 12 часов пошёл в университет за письмами. Когда воротился, убирали и мешали делать дело; это расстроило несколько расположение духа; а Любинька и Ив. Гр. нежничали на диване подле меня и показывались, может быть, именно оттого, что я был раздражён, весьма пошлыми, и давно не чувствованное «тянет с души» было почувствовано мною так, что мне до обеда хотелось уйти из дому, как бывало осенью. После — ничего.
Вас. Петр. не зашёл, поэтому я был у него с 6 до 9; после он проводил меня, я его. Наверное он заметил и сообразил то, что я ему сказал неосторожно третьего дня,— что я вычеркнул в письме несколько строк, и сообразил, что это верно говорилось, что прислали деньги; я, кажется, разуверил его, сказав, что это говорилось об отношениях Любиньки и Ив. Гр. друг к другу; говорил ему о чувстве неприятном, которое производят их нежности, да и вообще всё Wesen und Treiben[55], и о том, что мне самому совестно его. Он опасается всё расстроить своею близостью мои отношения к ним; я разуверял, не знаю успешно ли. Надежда Егоровна читает Лермонтова (стихи, что я замечал и раньше) и «Тома Джонса»[56] — хорошо.
От него зашёл к Ал. Фёд. за «Débats» и теперь ложусь их читать. Разобрал и несколько списал буквы И (до иже списал); почти ничего не читал, только дочитал 1-ю часть «Домби и сына» — хорошо, конечно. Почти ничего не думал. Пусто и довольно глупо было на душе и в уме, когда был дома; с Вас. Петр. говорил довольно шутя и остря о Пушкине[57], Залемане старшем и Орловых петергофских. Работал 4 часа.
18 июля, воскресенье. — В 11½ пришли Ол. Як. и Ал. Фёд., просидели до 2½; Ал. Фёд. снова пришёл в 6 и просидел до 9½; ещё несколько времени было отнято тем, что Ив. Гр. пил чай, воротясь домой, и свечу поставил на другой стол; работал около 4 часов,— день, пропавший совершенно. Вас. Петр. не был, это немного беспокоило, однако немного, я что-то как дубина. [47] Пришла мысль, возбуждённая словами Олимпа Як. про гатчинских воспитанников, что должно сечь их,— дарования необычные и не занимаюсь, а с какой-то бесцветностью и бессмысленностью смотрю[58] в то время, когда занимаюсь разбором словаря,— что собственно и хорошо делают, если не занимаются школьным делом,— что неудивительно, что дурак в школе бывает обыкновенно умнее хороших и талантливых учеников в жизни: те, всё учась, следуют авторитету и не имеют времени свободно жить и чувствовать и мыслить, остаются детьми, забитыми людьми; одним словом, понял, как выходят бестолковые люди из школ и что значит — это забитый мальчик. Да, защищал по нападкам на Ол. Як., как наставника в Гатчине, мысль, что большая часть занимающих места не имеют ни особых дарований, ни познаний, делающих их достойнее занимать их места, чем те, которые не занимают их, и что, напр., он ничем не хуже других, и большую часть чиновников и правителей легко можно бы заменить durch den ersten besten[59], кто сел, тот и умеет сидеть, не человек по уму достоин занимать место, а получил место, так оно и даёт тебе ум или репутацию на ум. Споря о чём с Ив. Гр., довёл его до того, что он сказал: «Однако этот спор ни к чему не поведёт»; через несколько секунд всё-таки начал он говорить о вздоре снова.
Думал почти бесплодно и без интереса. Семейные помехи несколько надоедали. Любинька наскучила своими толками о том, что не надеется на выздоровление: и жаль её, и скучно, и приторно слушать. Читал «Débats» только, разобрал И и К.
19 июля, понедельник. — Утром около 1 часа был расстроен несколько помехами семейными, так что хотелось уйти из дому. Пришли к Ив. Гр. Горизонтовы оба, я не выходил; просидели более двух часов, время пропало, потому что в это время, как нарочно, я рассыпал по полу слова, а подбирать было неловко при них; от скуки читал Горлова и «Débats» без всякого внимания; после обеда был не так, как раньше, расстроен, хотя бы должен бы быть расстроен, потому что от 5 до 9 сидел Алекс. Фёд., время снова пропало. Думал несколько о Вас. Петр., что его нет, а вообще ни о чём, кроме своей скуки,— не будет ли она увеличиваться и не начнётся ли снова состояние, как было осенью.
Ал. Фёд. просил написать папеньке о том, чтó будет стоить поминание в год его отца в нашей церкви, не говоря, что это для его отца; я отвечал, что верно и так написал в синодик, но что всё-таки что напишу. Он говорит, что «всё более и более грущу и тоскую, гораздо более, чем раньше». От Фрица принесли сапоги (надел головки), отдал 3 руб. сер. и мальчику 6 коп. сер. Разобрал буквы Л и М, работал 8—1, 4—5, 9—11 = 8 часов, но много мешали мне разговоры Любиньки и Ив. Гр. и много сам рассыпал букв своею неосмотрительностью. Когда Любинька спросила, зачем [48], отвечал: «Сам теперь не знаю хорошенько; раньше для медали, а теперь не могу писать на неё». — «Почему не можешь?» — Я сказал пустяки.
20 июля, вторник, 12 часов. Писал домой вследствие вчерашнего разговора с Любинькою. Ив. Гр. не было дома, я говорю в 2 часа: писать домой, чтоб прислали мне денег или подождать, что скажут Воронины после вакаций? — Она говорит: «На что ж тебе? Не нужно». Я говорю: «Отдать вам». — Она говорит: «Да разве нужно отдавать что-нибудь?» — «Само собою»,— говорю я. — «Ну так теперь есть деньги у нас, можно погодить» (что она скажет погодить, [я ожидал], но что они думали, что я буду даром жить у них — не ждал я), «чтобы погодили до конца вакаций присылать деньги». В университете получил письмо от тётеньки. Думал пойти к Вас. Петр., и когда пришла хозяйкина дочь, которая навела на меня прежнее чувство неприятное, которое овладевало мною обыкновенно при виде и слушании женщин и девушек,— ушёл.
Их встретил возвращающимися домой с прогулки, просидел до 10½. Мы говорили и играли в карты. Он в суетах позабыл налить в самовар воды, и он распаялся; это было весьма неприятно для меня; они сохранили дух; Над. Ег. выказала к моему удовольствию себя хорошо. Он говорит: «А лучше было, когда вы стояли в доме Фредерикса; не знаю сам, почему мне неловко бывать у вас».
Вчера решился написать словарь так: раньше выставить места, где слова, после уж приискивать вдруг значения слова, когда вообще кончу всего Нестора; это прибавит работы, зато лучше, по месту и значения будут выставлены вернее, а то раньше не знаешь необычного значения слова и, если можно, придаёшь старое, после необходимо видишь новое значение, тут его и даёшь, а в прежнем месте осталось старое и контроль труден. У Вас. Петр. взял июльскую книгу «Современника» и теперь ложусь читать её. Расположение духа ничего, думал более о Вас. Петр.; Ив. Гр. и Любинька надоедали менее, чем вчера, и расположение было лучше. Разбирал Н, работал 7½ часов.
Когда ходил в университет, всё сличал хорошеньких с Надеждою Егоровной — все хуже; одна всё-таки, девочка лет 15, может быть 16, довольно понравилась (напоминает лицом, особенно плавным переходом носа, довольно острого по обе стороны к щёкам, сестру жены Иринарха Ивановича Введенского, брюнетка), так что я остановился, опередив их, чтобы подождать или по крайней мере взглянуть на неё; чувство было чистое, как от хорошей книги или разговора с умным человеком; однако не дождался. Видел её на Чернышевом мосту; это я сделал едва ли не в первый раз, что оглядывался, чтобы полюбоваться. Хозяйкина дочь пошлá.
Вздумалось перед тем, как пошёл в университет, когда разбирал Н букву,— не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пеленках, так что я не жил [49], как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда; что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это само развитие приняло, может быть, ложный ход,— может быть.
Ив. Гр. сказал, что хотя нельзя смеяться в глаза над людьми, которых любишь, между тем как не грех за-глаза, напр., над тем, что Ал. Тимоф., не умея играть в карты, садится показывать хорошим игрокам; да, так кажется должно уживаться с людьми, а я всё-таки не так думал и думаю: кого любишь, нельзя смеяться за-глаза.
Среда, 21 VII, 1848. — Весь день работал, кроме того, что утром несколько времени и за столом и чаем читал «Современник»; прочитал в июльской книжке 8-ю часть «Домби и сына» — хорошо, но вполне определить не могу, потому что читал, развлекаясь говором. — Ждал Василия Петр.,— не был, завтра узнаю, чего. Вечером был у Раева в 10 ч. по обещанию принести «Débats»; отнёс. Работал около 10 часов, обделал О и разобрал по слогам П. Думал, хотя без чувства, о Вас. Петр. и мало, более всё вообще и точно ли высшей натуры Над. Егоровна. Говорил о положении женщины с Ив. Гр. и Любинькою. Любинька говорит: «Бедные женщины, потому что всегда в зависимости от мужа». Значит, она хорошо чувствует в этом отношении то же, что и я. Ив. Гр. говорит: «Пустяки, стоит наравне с мужем». Он не понимает этого угнетения, которое нельзя показать пальцем перед судом, но которое ясно в каждом слове и движении сочетанных браком. Я говорил за, он — против, довольно много и умеренно к общему удовольствию. — Вчера забыл записать 20 коп. сер., отданные швейцару за письмо. День почти пуст, потому что занят делом. Ив. Гр. не надоедал, кроме только, когда читал — смешил.
Четверг, 22 VII. — В половине первого пришёл Вас. Петр. по дороге к Залеману и священнику Казанскому, просидел с полчаса. Говорит: «Нахлынули родные, я ушёл и не буду обедать дома». Взял с него обещание зайти на возвратном пути; он долго отказывался, наконец, согласился и зашёл, в 3¼ часа; всего в оба раза просидел с 1½ часа; тут он был весел, потому что застал Залемана мать одну дома и высказал ей, почему не отдает долга, говорит — «не могу»; говорит: «точно гору с плеч свалил»; она говорит: «Володя мне говорил уж: он не ходит потому, что совестится, что не отдал». Приняла она его с большою радостью. После Казанский предложил ему учить детей своих, которые в семинарии, на вакации; хоть немного, говорит Вас. Петр., всё лучше, чем ничего. Казанский достал ему «Ревизора» и достанет «Мёртвые души»[60] , это также весьма было приятно ему, он был весел; я обещался прийти в 6 час., но завлекся работою, между тем пришёл Ал. Фёд., принёс газеты, когда я хотел уйти, и он хотел: «я, говорит, хочу посидеть с вами», и просидел до 8½. — Я пошёл-таки, просидел до 10¼,— пошёл тотчас, как ушёл Ал. Фёд. Поговорили несколько, после я стал читать последнюю часть «Разъезда из театра» Гоголя из 4-й части, которая у Вас. Петр. лежала,— пьеса, которую он не [50] читал. Надежда Егоровна была в чепчике спальном, он к ней не идёт, но всё-таки мила; смеялась, не знаю, над картинками «Иллюстрации»[61], которую пересматривала, или над гоголевскими судьями; кажется, несколько раз над судьями; если так — хорошо, значит, понимает. Он говорит: «Я вас с нетерпением дожидался в 6 часов, был один дома».
День прошёл ничего, чувствовал только головою, кроме того, когда был у них, было несколько приятно сердцу. Списал П до слова «посѣкаеми», работал часов 5.
Утром читал «Тома Джонса» в «Современнике» — чрезвычайно хорошо, должен перечитать ещё, как и «Домби». В «Débats» при Ал. Фёд. пробежал (они 9–14 июля) объяснение Луи Блана против «Débats» на его оправдание в участии в бунте 25 июня[62] и ответ «Débats»: как неизмеримо выше он их по уму и мыслям! Ответ «Débats» сделал на меня неприятное впечатление: «Droit du tгаvail[63] говорит, что всякий делай, что хочешь, а не то, что государство, как вы говорите, должно дать работу тому, который не имеет её» — хорошо! [Не] думал почти ничего, более о Вас. Петр. — Половина первого. — Да, последние дни утвердился в мысли, что в груди у меня перемена: пишу много, а усталость если и чувствую, то в плечах, а не в ней. Любинька сильно жаловалась на боль при отдирании во время перемены перевязки на больной ноге (пальце) мне, что заметно будут от них помехи.
23-го VII. — До 7 работал с лёгкими (всего с час) перемежками чтения июльской книжки «Современника». Ждал Вас. Петр., который обещался быть. В 7½ пришёл и в 8 пошли, потому что он говорит, должен быть дома (он был у Казанского), а мне должно было зайти к Стефаницу Любиньке за сассапарельной эссенцией и в университет за письмом, которое обещался взять ныне Ал. Фёд., который думал, что там будет написано о Петре Фёд. Вас. Петр. проводил меня к Стефаницу (в Казачий переулок) и после до Каменного моста, потому что верно ему хотелось говорить: «Я,— говорит,— ныне более обыкновенного угрюм,— тесть говорил Наде: что Василий не учит Васю? — Я говорю ей, чтобы она сказала, во-первых, должен сказать об этом ему сам; во-вторых, он не возьмётся, потому что время нужно ему самому, а денег брать с родных не годится. Надя, кажется, начинает понимать наши отношения и что это не годится. Да, понимает, а если и не понимает — ничего; невыносимый человек этот тесть, невыносимый. Прекрасно делает с ним Ник. Самойлович, теперь они не видятся: тесть присылал за деньгами, он сказал — нет, и вообще хорошо, что он так прямо и резко отвечает ему, а то вот предлагает стать на одну квартиру, и когда я говорю — не стану, видит в этом нерасположение, а я говорю, что далеко квартира и пр., и не говорю настоящей причины, а должно высказать; это, говорит тесть, будет выгоднее жить вместе, расходы пополам; так бы и сказать: ведь нас [51] двое, а вас восьмеро. «Да,— говорит,— выгоднее, сколько ведь у вас выходит?» — «Два-три рубля в день», говорю я. — «Два-три рубля? Что это? Лакомства?» и с таким видом, выводящим из терпения. Да нет, я воспользуюсь случаем, когда он будет у меня один, а Надя у них, и выскажу ему; потребую, чтоб возвратил салоп, бельё, чайник, кофейник, главным образом, потребую для того, чтобы показать, что я не такой человек, каким он меня считает; скажу ему тоже, что не по мне и это его свинство: войдет и полчаса стоит в шапке и с таким гордым видом, как будто так и следует». — Я, пока говорил Вас. Петр., всё время молчал, только вздумал было, в намерении принести пользу Надежде Егоровне, утвердить, примером неверной оценки им с первого раза тестя, убеждение в нём, что нельзя с первого раза узнать человека и что слишком часто мы ошибаемся,— мнение, которое я постоянно поддерживаю перед ним, потому что так должно и потому что это задушевное мнение. — «Нет,— отвечал он,— я его так и с первого раза оценил: пошлый и чрезвычайно ограниченный, хотя и добрый человек; он свинья, и этим объясняются все его поступки».
Мы подходили к Садовой, когда он стал говорить, переменяя несколько предмет и наведя разговор на то, что верно ещё более интересует его и о чём хотелось ему говорить сначала, но увлеченный рассказом: «А что более всего меня тревожит, это совершенное равнодушие к жене». — «Почему? Что же, влюблены в другую?» — «Нет, это пустяки и я не знаю, могу ли уж влюбиться, а то, что этак, пожалуй, я и марш: ничего не делает, сначала я заботился о том, чтобы ей не было скучно одной, теперь уж оставлю, как хочет, а кажется, могла бы видеть, что я целый день что-нибудь делаю». — «Эх,— говорю я,— это делается медленно, и это пустое препровождение времени у слишком многих людей: напр., Ив. Гр. ничего весь день не делает, а, кажется, человек не то, что Надежда Ег. по умственной ступени (это, кажется, несколько произвело на него впечатление), и Любинька,— как больна, не встает, а давеча проходили похороны — кричит, а тащится к окну». — «Да, ещё: когда одна — ничего не делает, когда я тут или кто ещё — шьёт, да и только». Это уж на меня подействовало, хотя я не изменился наружно; это нехорошо, это притворство; но тотчас же вспомнил круг, в котором жила она, его привычки и пошлость, и снова извинил её, а теперь приходит мысль: ничего не делает,— а что делается внутри? Может быть, думает и тоскует, может быть то, может быть другое, а когда человек здесь — естественно, внутренняя жизнь сощемляется и садится от нечего делать за работу. «Она с душком»,— начал было говорить он, но здесь был угол и он говорит: «Нет, дальше не пойду, жаль её заставлять ждать пить чай, теперь будет не совсем приятно ей, если меня так долго не будет, я давно из дому».— Что за человек! И это ещё, когда он совершенно равнодушен! А какое счастье быть любимой им! Боже, какая сила чувства, какая сильная, нежная, великая душа! Мнение моё о нём, если можно, ещё возвысилось после этого. Велел [52] приходить завтра. В университете получил письмо Марье; Ал. Фёд. заходил сказать на минуту, что ничего нет. Письмо папеньки довольно подействовало своим уверением, что «не будет для меня тяжёлых дней в жизни» — это в ответ на поздравление с ангелом, верно я желал, чтобы их не было — «я шёл тесными вратами и не стыжусь себя». Слава богу! Есть на свете люди, такие как папенька, и слава богу, что такой человек мне папенька! Любиньке была вложена записка от Варвары Дм. Ступиной и Зарубаевой, я не читал её, когда увидел подпись Зарубаевой; после спросил у Любиньки, можно ли прочитать; в письме Алексея Тимоф. к Ив. Гр. было о смерти Андреева; Любинька сказала мне, читая письмо с сожалением,— это хорошо подействовало на мнение о ней у меня: почему не всегда и не про всех так? — Грудь, когда я воротился из университета, была несколько тяжела,— от ходьбы и флакона с эссенцией или работы? Верно от первой причины, потому что теперь ничего не чувствую. Блеснула мысль, которую верно буду приводить в исполнение (потому что не хотелось бы получить что-нибудь через Срезневского при теперешнем мнении студентов о моих к нему отношениях) — отправить словарь не к нему, а прямо в Академию. Чувствовал только головою. Кончил П и отделал Р и начал разбирать по словам С — разобрал 6-ю часть этой буквы. Работал 8½ часов.
VII, 24. — Утром несколько читал «Тома Джонса» во второй раз и мелкие статьи в «Современнике». Узнал о смерти Фон Швейден (Мариной), бывшей Любинькиной подруги, когда ещё были дети обе; они перестали видеться так давно, что Любиньке было ещё столько лет, что она и не может сказать, сколько именно; с тех пор я ни разу её не видел и никогда о ней не думал, даже не могу теперь припомнить её лица, совершенно не могу, даже цвета волос, а между тем это подействовало на меня: я работал и продолжал работать, но выкатилось 3–4 слезы: дай тебе бог царство небесное! Так сильно, верно, воспоминание о детстве. Мне верно было не более 6 лет, когда это знакомство кончилось, и она явилась мне теперь в таких чистых, ясных, хотя совершенно неопределённых воспоминаниях и поэтому-то верно и дорого и свято для нас [то], что соприкасалось с нашим детством: мы тогда чисты, святы, не подозрительны, и поэтому всё представляется нам и чисто и свято, так верно и здесь. — Прости навсегда! Известие ни о чьей смерти на меня так ещё не действовало, хотя и это подействовало более прискорбно, чем сильно опечаливающим образом. Я совершенно остался в прежнем, кажется, расположении духа, но всё-таки принял это к сердцу, как никогда раньше не принимал, даже о Фёдор Ивановичевой или бабенькиной[64]: их я знал большой тоже, и они являлись мне людьми с недостатками, a эта как была тогда, так и осталась в воспоминании ангелом.
Проработал до 5¾, после стал собираться к Вас. Петр., как обещался; пока чистил сапоги, Любинька вовлекла меня в прения с Ив. Гр. о полезности наказаний (главным образом, телесных [53] в школах),— он говорил да, я говорил нет, но довольно мирно и довольно, кажется, с удовольствием. До 9¼ просидел у Вас. Петр.; когда шёл туда, встретилась Над. Ег., которая шла за Алекс. Ег., чтобы идти гулять; я пошёл к Вас. Петр. почитать, пока не воротятся, Гоголя (сначала «Ревизора» я читал). — Немного после пошли гулять через мост на Семёновский плац, через него мимо железной дороги к Вас. Петр.; на дороге я говорил о гоголевой «Переписке»[65], что все ругают «я первый», что это не доказывает тщеславия, мелочности и пр., а напротив только смелость, что первый высказал то, что думает каждый в глубине души; памятник? Да ведь назвали бы дураком, если [б] не знал он, что в 10 раз выше Крылова, а ему ставят памятник, «Мёртвые души» нехороши и обещает лучшее? Это притворство, кривляние, чтоб хвалили? Это назвать всех дураками? — Нет, просто убеждение, что исполнение ниже идеи, которая была в душе, и что мог бы он написать лучше, чем написал,— мысль, которая у всех. Что Россия смотрит на него? Естественное и справедливое убеждение и нельзя не иметь его. Вас. Петр. согласился, что этим критикам потому это кажется сумасбродством или высшей степенью тщеславия и мелочности, что не привыкли к этому и сами неспособны питать таких мыслей, поэтому не верят и другим. А Гёте, я говорю, делает то же, что Гоголь. Что Гоголь многого не понимает, как говорят, хорошо? Гёте не понимал Байрона.
О своих делах Вас. Петр. не говорил ничего; пришедши, пили чай, разговор был общий (и Над. Ег. участвовала) и довольно ничтожный, довольно обыкновенный, говорили анекдоты и проч. Странно, что я у них одних не скучаю и мило мне видеть их ласки друг к другу, между тем как у своих наоборот. Над. Ег. в первый раз поцеловала при мне Вас. Петр. (раньше целовала часто, только в другой комнате) ; у них всегда сижу спокойно и доволен,— не так как у других, жалея о времени, если и выгонит из дому неспокойное состояние духа. Пришедши домой, работал около 2 часов, всего будет около 8 часов; списал до конца слога си, завтра хотел бы кончить переписку словаря и начать выписывать места, где находится слово.
VII, 25, воскресенье. — Весь день просидел за работою, которую, думал, может быть, кончу к обеду; чувствовал некоторое утомление и лень (чего раньше не было), оттого ли, что надоело, или вернее потому, что вчера, да и дальше, долго не спал. Мелькнула мысль, не принести ли как будто чужое, пославши по городской почте, письмо Вас. Петровичу, в котором предупреждают его о предосторожности, говорят, что я влюблён в Над. Ег.,— может быть возбудится ревность и возбудит любовь, если догадается, что это я, и спросит, зачем,— скажу: испытать, как далеко простирается ваша доверенность ко мне. Довольно думал об этом. Заметил ещё резче, что у Любиньки навязчивый и капризный, так сказать, характер — это относительно Ив. Гр., которого она раздражает тем, что не отвечает на его заботливо-неуместные вопросы: [54] «что ты?» — как будто сам не видит, что именно. Действительно, может надоесть, но она и про него не хочет понимать, что это от заботливости. А может быть это и потому, что она думает, что уж надоела ему болезнью и что эти вопросы внешнее инстинктивное выражение скуки.
Говорил с ним о дружбе, в которой он сомневается: «Я,— говорит,— более способен к тесному приятельству». Окончательно (еще раньше этого разговора, который после обеда, а то до обеда) утвердился в мысли, что Варв. Дм. Ступина и Анна Андр. Зарубаева женщины замечательные, потому что вот все дружны так долго, и так дружно, что Варв. Дм. говорит: «Несмотря на свою гордость, я пойду в няньки к Анете, так люблю её». Любинька сказала это, кажется, с насмешливым видом,— неприятно видеть такое пристрастие к себе и такую ограниченную несправедливость к другим. Действительно, должно быть как можно более осторожно в выражении своих мнений, которые считаешь благородными, напр., о дружбе, любви и пр., и особенно не должно высказывать, если есть у тебя подобные отношения, которые в твоих глазах придают тебе человеческие достоинства, а в глазах большей части тех, которым будешь говорить, сделают тебя только смешным. — В половой любви, говорит Ив. Гр., нельзя сомневаться, дружбы может быть и нет. Кроме того, где Любинька огорчалась от своего характера, сколько раз оскорблял он её и по своему неуменью: я, кажется, тоже. Какая неловкость! Он, напр., наводит на мысли о Верочке, а после недоволен, что она плачет; да он смеётся над слезами вообще, поэтому и она стесняется перед ним в своих чувствах; это тяжело — и не хотела бы плакать при нём, как говорит, поэтому. — Работал часов 11 или 12, кончил С разбирать, и списал Т и У. — Половина первого. Весь день был совершенно спокоен, кроме некоторой скуки за работою или утомления.
Понед., VII, 26. — Утро работал всё, и к 3 часам было почти кончено, в 4 часа кончил и было лёг почитать «Героя нашего времени»[66] — пришёл Ал. Фёд.; утром был Вас. Петр., сказал, что тесть заболел холерою; довольно жаль, взял «Современник», я поэтому не могу перечитать снова «Тома Джонса» и «Домби», и принёс на возвратном пути «Героя нашего времени» и некоторые листки «Иллюстрации». Мне было досадно, когда после его ухода Любинька не тотчас бросилась на Лермонтова, а, как это обыкновенно делается, стала перебирать картинки в «Иллюстрации» и слегка перечитывать некоторую статью, хотя сама раньше читала её и решила, что это вздор, а между тем так говорила, что ей так хотелось бы прочитать «Героя нашего времени», что я думал — тотчас на него бросится. Пошедши с Ал. Фёд. вместе, пошли — я к Вас. Петр., который звал, он — домой. Когда он сидел у нас, играли в карты, я снова заметил в себе то, что бывало раньше,— что это довольно приятно для меня и я могу, может быть, сделаться любителем этого, потому что люблю в сущности азартность.
Утром приходило в голову, что письмо, о котором думал вчера, покажется бог знает как; что, если он не скажет мне ничего? Любви через ревность не возбудить, а только подозрение против себя (а теперь вздумалось — и против неё), и он начнёт чуждаться, между тем как это решительно неприятно было бы для меня, у которого теперь самое большое наслаждение — слушать, как говорит он хоть сколько-нибудь откровенно. — Был у него в 7–10, когда Над. Ег. не было, уходила к тётке; читал «Ревизора»; и только было начал говорить о том, что жалеет, что женился, а то бы ушёл отсюда, она воротилась. Ныне была со мною ещё ближе несколько, говорила более, чем раньше: она совершенный ребёнок, потому что не понимает, что годится, что не годится по условиям общества, но чрезвычайно мила и жива. Я был у них совершенно доволен, но такого благоговения и вдохновенного наслаждения перед Над. Ег., как существом не от нас пошлых, как это бывало в первое время после свадьбы, не чувствовал; мелькала яснее мысль, что очертание между подбородком и шеею несколько грубовато у неё — должно посмотреть внимательнее; некоторые движения (это я тотчас заметил после свадьбы) неграциозны, но это не от неё, а от неумения держать себя и неизучения грациозности своих движений, но решительно должен сказать по прежнему, что это существо высшего порядка; что ореол благоговения пропал — в этом виноват Вас. Петр., который всегда так говорит о ней, как о её отце.
Мелькнула мысль и утвердилась, что может быть времени на словарь будет нужно слишком много, так сколько бы ни нужно было, может 1½, 2 года, буду делать и верно не утомлюсь, вообще, может быть, только к окончанию курса будет работа эта готова,— делать, сколько бы времени ни понадобилось, но делать хорошо и аккуратно, это необходимо. Так может быть к окончанию только курса явлюсь я с нею, но в более обширном виде, чем думал: весь Нестор, Лаврентьевская летопись, может быть, и все другие древние и замечательные по языку. Вечер весь не был посвящен работе, завтра за неё. Читал до обеда несколько «Débats» — проект закона о судебной организации, а теперь «Героя нашего времени» и этот закон.
VII, 27, вторник. — До 10 час. писал письмо, в котором написал о картине, изображающей Пия IX, похоронах д’Афра и Кокреле; после пошёл в университет, оставя письмо, которое они не кончили, отослать им; там повестка на 58 руб. сер., не обрадовался сердцем, головою довольно слегка — отдать Вас. Петр. Через ¼ часа, когда уже шёл домой, сказавши швейцару, чтобы отдал подписать — мне самому являться не хотелось — рассудил, что это не мне, а Пластову; это произвело мало перемены в расположении. Пришедши [домой], стал связывать тетради; тут была хозяйка; после начал было вносить, читая медленно места, где какое слово, тотчас увидел, что мелкие листки, много хлопот, когда должно переворачивать их; вздумал списать на большие и теперь переписываю. Более половины кончил до обеда. [56]
Когда читал несколько «Княжну Мери», вздумал переписать её; в 11 ч., когда легли, начал переписывать, до этого времени — час — переписал до слов Грушницкого о Лиговских.
Вечером был разговор с Ив. Гр. о великих писателях, их слабостях и пр.; он говорит: «Коли Байрон пьяница, так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель фигляр, между тем как правитель не то». — «Нет,— говорю я,— это те, о которых говорится — вы есте[67] соль земли, это рука, двигающая рычагом, который называете вы правителем, и странно считать её за ничто, уважая рычаг, и если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывает у нас: Байрон пил не потому, почему пьёт Пётр Андреевич». — «Вздор,— говорит,— всё одно, издали они кажутся велики, вблизи всё равно, что мы». Он отвергает их важность для человечества, я утверждаю её. «Басня Крылова о разбойнике и писателе, которую приводит он (она и раньше являлась мне, как неприложимая к делу, влияние всегда благодетельно у великих писателей),— говорю я,— неприложима, хотя вы её приводите; мне досадно чрезвычайно видеть, что мы смеем судить о них, мы, которые ничто перед ними, это Западная Европа».— «И,— говорит,— они глупцы, потому что делают ошибки». — «Да мы не падаем, потому что не ходим, хоть, напр., в области богословия. Канту в аду места не будет, а мы православные, и поэтому бог должен спасать нас, как должен был давать победу евреям, потому что у них был кивот завета. Что мы сделали?» Он говорит: «В области науки — ничего, потому что вообще ещё должно раньше воспитать народ в нравственности». — «Хорошо мы воспитывали его в продолжение 900 лет! Это уж показывает, что мы ничего не сделали, совершенно не жили, что мы не младенцы, а зародыши, и мы сравниваем себя с ними и прилагаем себя к ним и переносим их понятия и события на себя!» Разговор был довольно живой, хотя умеренный; у меня задрожала левая часть верхней губы, когда я сказал, что чтобы увидеть, что его суждение справедливо, стоит только взять его вообще и приложить к спасителю — он будет фигляр тоже, и других высших побуждений тоже у него не будет,— конечно я выразил это осторожно,— а Пилат и Каиафа были правители, следовательно, по-вашему, люди хорошие и достойные уважения. Вы, я говорю, однако не подумайте из этого, что [я] рационалист — где, куда,— это всё неприложимо к нам».[68]
Весь день почти ничего не делаю: 1½ [часа] писал письмо, 1½ — в университете, 1 [час], пока был доктор у Любиньки, не хотелось, после — 2 в бане, 2 разговаривал, час читал; всего было: до 1½ ничего не делал, после от 5¼ до 7¼ в бане и говорил, так что только в 10 сел за переписку словаря. Обещался Любиньке отслужить завтра панихиду по Верочке на Волковом, сам назвался. Ив. Гр. она верно не будет просить — знает, что не сделает, а если сделает, то или скажет, что не стоило б собственно, или насмехнётся; а завтра должно быть ещё в почтамте. Теперь ложусь читать «Героя нашего времени». Расход — купил конвертов на 15 к. [57] сер., 10 к. за письмо, 17 в бане = 42. Да вчера табаку 15 к. cep.= 57 сер. Три четверти первого.
VII, 28, среда. — Как встал, и по обыкновению поздно, поленился идти в почтамт — ведь это Пластову, а не мне; да может быть если бы и мне, не пошёл бы, так равнодушен; только то заставляет дорожить деньгами, что Вас. Петр. нужны. Докончил переписку первых листочков словаря, переписывал до обеда и несколько после «Героя нашего времени», но на 26 стр. закапал и бросил, после вздумал, что можно [вывести] крепкой водкой, поэтому ходил в аптеку и к Вас. Петр. поздно вечером, но в аптеку не зашёл, потому что забыл дома пузырёк, а платить за него не хотелось; у Вас. Петр. не раздевался даже, только спросил о здоровье тестя,— «как раньше», говорит; я сказал, что меня дожидается Раев, и ушёл, хотя оставляли; как раньше, всё думаю — то ли идти, то ли нет, как когда был маленький ещё.
День прошёл кое-как, как проходят дни, когда нет определённого занятия. Решился перечитывать, развернув словарь на одном листе и подчёркивал в книге, вписывать цитаты слов, которые на этих двух страницах; кажется, это будет скорее, чем по порядку вносить все слова: слишком много времени идёт на перевёртку листов. — Среди дня был расстроен отчасти мелочью,— напр., [тем], что брали карандаш для записывания выигрышей в пикет, когда он был нужен для подчёркивания, отчасти мнением, которое вчера слышал от Ив. Гр.: «писатели — фигляры, великий писатель — великий фигляр»,— это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека, и больно видеть близ себя такого человека. Вздумал, что лучшего мужа не нужно Любиньке, а ему лучшей жены: добры, хороши оба, но до известной степени и оба ограниченным образом пристрастны к себе и пошло резки в суждениях о всём порядочном в других.
Вспомнил, идя от Вас. Петр., что я совершенно тот же, как мальчиком был: тогда расплакался о том, что «богатыри так трудились для блага нашего, а мы не хотим даже и знать их, ценить их заслуги и подвиги»,— теперь это же самое волнует меня: они наши спасители, эти писатели как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами — жалкая, оскорбительная неблагодарность, близорукость, пошлость. Это несколько волновало, и я был недоволен.
Писал среди дня, от этого не хотелось к вечеру, когда воротился, ничего. Странно, что ходил узнавать о здоровьи тестя Вас. Петр. Правда, думал равнодушно, но всё [же] думал о нём несколько, между тем как о бабиньке не думал и не пошёл бы сам собою узнавать о здоровьи. Значит, я в самом деле люблю Вас. Петр., когда и это занимает меня. Панихиду служить Любинька посылала Марью. Любинька призналась (это когда Ив. Гр. ходил гулять), что её мучает, что она в тягость маменьке, говорила: «Я и не думала раньше, что в состоянии так любить человека, как люблю [58] Ив. Гр.». Я то же самое: не любил Вас. Петр. и думал, что вовсе нет у меня любви. «О Верочке, говорит, только и думаю».
Дочитал «Débats» до 15 июля, особенного ничего не заметил, только всё более утверждаюсь в правилах социалистов[69]. — Несколько читал «Княжну Мери». В почтамт пойду в субботу, когда получу письмо к себе, в котором, может быть, будут деньги, так чтоб не лезть два раза в глаза экспедитору. Вносил на первую и последнюю страницы словаря, дочитал до 82 стр. Хочу кончить эту часть работы, вноску слов, в следующую пятницу. Дай бог.
29 [июля], четверг. — Сделал цитаты для полулиста (первая и последняя страницы), это заняло главным образом до 6 часов; в промежутки читал несколько «Героя нашего времени» — 1-ю часть, «Тамань» всю; более чем раньше понравилась, но новая чрезвычайно лучше; блеснула мысль о зависти к Печорину, который видел и испытал любовь столько раз, что теперь даже довольно привык к этому, чувство неудовольствия, что не был ещё в делах жизни и борьбе её, поэтому дитя. Утром ходил в аптеку за крепкой водкой для вывода чернил, её не дали, а дали щавельной соли, которую должно разводить в воде и которая прекрасно вывела пятна из «Героя нашего времени». Среди дня томился желанием идти к Вас. Петр. — соскучился по нём до того, что (как идти нельзя было, потому что сказал, что не будет) желал, чтобы пришёл Ал. Фёд. Он в 8 часов принёс «Débats» до 21 июля, скоро ушёл; я стал читать их и позабыл почти желание видеть Вас. Петр. Вздумал, что я сам виноват, потому что не приглашаю усиленно его. — Прочитал половину «Бэлы». Показалось, что там есть в речах, которые приписываются Азамату и Казбичу, реторика, которой решительно не должно и которая не идёт к Максиму Максимовичу, который их пересказывает, однако, лучше должно знать горцев. Это пышное высказывание чувств мне кажется приторным и неверностью; описания Бэлы (кажется) и лошади Казбича не совершенно чисты от этого. Но всё же мне понравилось более чем раньше. Другое дело «Мери»! Это удивительно! Теперь буду списывать снова «Мери», не знаю, много ли спишу. — 11 часов.— Час ночи: списал до конца 5-й страницы своей и ложусь. Хорошо!
VII, 30, пятница. — В 10 час., когда Ив. Гр. ушёл и я писал «Мери», принёс тот же, который раньше, сторож повестки — ту, которую я видел раньше и считал Пластову, и ещё на 30 р. сер., которую я почёл тут своей. Ничего особенного. Шёл и думал бог знает о чём-то; деньги само собою думал Василию Петр., письмо подменить письмом своего изделия. Это думал очень спокойно, даже лениво, как предмет сам собою следующий и о котором нечего говорить. — Взял письма и пошёл было домой, не смотря на них, но, ступив несколько шагов, вздумал прочитать письмо своё, зашёл в переднюю отделения для приема простой корреспонденции и стал читать: «20 руб. Любиньке, 10 — тебе». Итак, не должно и не нужно скрывать, это меня несколько обрадовало даже. Пришёл, [59] подаю Любиньке письмо, смотря при этом на другое,— оно не Пластову, а Ив. Гр. из дому. До обеда большею частью писал Лермонтова, сидя в зале, после всё вносил цитаты, теперь второй лист (бо—В), прочитал до конца 98 стр. Лермонтова, списал до 80-той почти, у меня до конца 8 стр. (4 листа), превосходно!
Вечером был у Вас. Петр. (в 8¾), при прощании сказал он: «То ли дело, когда вы жили холостяком — всегда, когда хочешь, заходишь». Это меня утвердило решительно в мысли, что он стесняется Любиньки и Ив. Гр., без этого бывал бы по прежнему часто [70]. Шёл и думал всё об этом прежде всего: скажу ему завтра (он должен прийти), что, если он не будет ходить по прежнему часто, я схожу, сроку ему для испытания месяц; после прибавилось другое: «Если вы эту неделю не будете часто бывать, в следующем письме напишу домой, что схожу (чтобы узнать их мнение об этом и не слишком ли огорчатся), и как получу оттуда ответ, перехожу»; теперь окончательно, кажется, утвердился в этой мысли, что, однако, решительно не стоило никакого раздумья и колебания; если так, напишу домой почти всё так, как есть; попробую это, вместе и полагаются ли они вполне на меня и можно ли с ними говорить откровенно. Ему, конечно, сказал о деньгах; он был весьма весел, кажется, потому, что почти уговорил Казанского отдать детей в гимназию и будет приготовлять их в таком случае. Тесть сидел у него.
Теперь прошла лень и, кажется, начну писать снова «Мери». Пятна чернильные выведены хорошо, масляные только гадят первые страницы.
В тот раз, когда я читал «Ревизора», я спросил у Вас. Петр.: «Правда ли, что я гадко читаю?» Он говорит: «Нет, напротив — хорошо». Я этому почти верю, потому что думаю, что начал читать с некоторым чувством, а не совершенно по-дьячковски, как читал я, говорит Михайлов.
Утвердился постепенно в мысли, как в самом деле важны повести и романы для знания и суждения людей. Ив. Гр. и Любинька решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях.
К Над. Ег., как я и раньше замечал, не идёт ни ночной чепец, ни эта голубая узенькая повязка вроде бахромы, опоясывающая спереди чепец, которую она часто надевает; смотрю, правда ли, что лицо грубое — неправда; нос чрезвычайно (в профиль) нежный и изящный, губки тоже.
Вчера Жюль Жанен в фельетоне «Débats» заставил улыбнуться насмешками над Прудоном; хотя я не люблю и не хочу никогда смеяться над нововводителями, но не мог не улыбнуться, читая слова, приписываемые ему «Débats», будто бы сказанные им в бюро: «Христианство s’use[71], собственность s’usera»[72]; может быть, её станет на 200–300 лет и пока я её принимаю, хоть это [60] дурное учреждение — в сущности я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: chacun produit selon ses facultes et recoit selon ses besoins[73],— это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всегда будет всё, чего ему захочется, и потому предварительно захватывать и хранить будет не для чего. Ламартин молодец, по его речи в бюро иностранных дел, которую он напечатал, не зная, что устав этого бюро воспрещает публичность. Кормнен заставил от души похвалить себя своими ловкими сарказмами над Национальным Собранием в защиту того, чтоб президента выбирал народ: он, говорит, даёт вам право отбирать у себя деньги — конечно, для употребления в пользу общую, то ещё не следует, чтобы он отдавал вам все свои права [74]. Остряк, резкий человек! молодец! — 12 часов, ложусь.
31 июля, суббота. — Глаз, который начал распухать вчера, нынче всё более и более распухает, это ничего, потому что почти не болит, только немного слышно, что нарывает. Утром докончил (около 2 часов) второй полулист (до В) и исправнее, чем первый; потом стал писать «Мери» в одной комнате с Терсинским, положа книгу как будто держа поставленного Нестора; не знаю, заметил ли, что я взглядывал не в Нестора. В 6 часов пришёл и с полчаса посидел Вас. Петр. Говорит: «Надя перестала любить своих родственников, потому что поняла, что они дурно поступают с нами, и ныне при мне отказала им (в чём именно из мелочей, я уж позабыл — моё примечание) в… они беспрестанно присылали то за тем, то за другим; ужасно недовольны мною — хоть бы, говорят, теперь мог порадоваться, что тесть выздоровел; глупо я сделал, что женился — вот видите, образование ничего, я скорее согласился бы жениться на простой сельской девушке без всякого образования, чем на такой, которая набралась ложных понятий и взглядов — я сам тоже»… Далее он не стал говорить эти мысли, а, очевидно, думает, что природа обидела Над. Ег. в нравственном и умственном отношении. «То ли дело,— говорит,— свобода, теперь бы я ушёл куда-нибудь, всё лучше — и соскучусь по ком-нибудь и захочется снова увидеть людей лучше тех, которых встречал на дороге, а то тут такое однообразие, монотонность и сам глупею. Вот видите, я думаю, что я делаюсь совершенно бревном, и всё, что есть во мне ещё человеческого, погаснет; ну, есть же у людей надежды, мечты, у меня ничего не будет». — Я отвечал ему, что с ним этого никогда не будет, так как я думаю, что, конечно, может быть, что раньше ещё более он был жив, но что и при нынешнем его спокойствии я не встречал никогда человека такого пылкого, как он. Он говорит: «Ошибка, что женился, ошибся во всех расчётах». Жаль мне и его, и её, жаль, но ныне только головою, и сердце не ноет. Я сказал ему, что если он не будет часто ходить, схожу [61] отсюда. — «Это,— говорит,— не умеете вы ценить спокойствия». В понедельник придёт вечером. А может быть придёт и завтра, потому что «Мёртвых душ» не получил. Был Ив. Вас.; был Залеман в это же самое время — заходил в надежде застать здесь Вас. Петр., сказать ему, что не будет дома вечером, потому что именинница сестра, и не достал «Мёртвых душ», а уж до субботы; просил сказать Вас. Петр., что он непременно ждёт его в среду в 7 час. Вас. Петр., странно, до сих пор не может приучиться к моей физиономии и подозревает, что я в нерасположении духа и что принимаю с ним натянутое положение,— напрасно стараюсь уверить его в противном; говорю я ему: «Поверьте, что если бы я притворялся, то вы не узнали бы, потому что мне ничего не стоит притворяться». Действительно, это так. Отдал ему 10 р. сер., он говорит: «А вы как?» — не беря их. — «Да разве я не рассчитываю? Само собою, рассчитываю и очень хорошо». — Взял. Думаю, не видела ли то, как он брал деньги, Марья в окно из кухни: в это время она входила туда брать на стол самовар.
«Мери» списал до конца первой страницы моего 6-го листика. Времени в самом деле пропадает много от Терсинских, а всё потому, что сначала вообще не умел поставить себя. Как бы действительно не понадобилось сойти. Любинька обиделась тем, что я стал развивать сказанную ею шутку, которая, я думал, понравится ей,— глупая болтливость; всегда я стараюсь удерживаться, не говорить ни слова, а между тем всегда ввертываю своё словцо и по большей части некстати, т. е. лучше бы не говорить. Она мне снова не нравится, как не нравилась раньше по своему характеру, когда мы жили дома. Действительно, перешедши к ним, я стеснил себя во многом — от своей глупости и от их взгляда на вещи или, лучше, непонимания вещей.
(После некоторого времени, просиженного там без особых мыслей, несколько секунд): я действительно глуп,— напр., как сделал так, что до сих пор они не понимают, что всем у одной свечи, как теперь сидим мы, сидеть нельзя, что вообще, находясь в одной комнате, мы друг друга развлекаем, а что мне, конечно, этого вовсе не хотелось бы. Да, сейчас вздумал — не высказать ли это косвенным образом при разговорах о привычках и проч., особенно с Ал. Фёд., и сделать так, чтобы он, который это всё хорошо знает, высказал это про меня? Это глупо и смешно прибегать к этим гамлетовским околичностям, но это всегда было в моём подлом характере, и верно я так сделаю. Теперь пишу совершенно в бесчувственном состоянии, хотя по эпитетам можно бы думать, что я расчувствовался. Нет, это так. Вот что значит теперь много дела — переписать «Мери» и Нестора, а я ни одного не делаю, но Нестора потому, что завалился карандаш за диван, на котором сидит Любинька, и хотя она предлагала встать, но, как всегда, я сказал, что не нужно, а «Мери» потому, что под их глазами не хочется. Стану читать что-нибудь. Да и того хорошенько нельзя. Половина десятого. [62]
Августа 1. — День этот ничем особенным не был замечателен; с утра всё время, когда работал, я списывал «Героя нашего времени», списал до 173-й или 174-й страницы; писал снова, как [будто] пишу Нестора. Печорин действительно человек, в котором много дурного, серьёзно, напр., слова его Вере: «что ж, ты любишь мужа? он молод? хорош? особенно верно богат и ты боишься?». Его сердце в самом деле в некоторых отношениях очерствело.
Пишу это, сидя с одной свечой с Терсинскими, поэтому будет это не так связно. Утром часа два просидел Ал. Фёд.; вечером довольно долго читал «Débats»; нового, кажется, не встретил ничего, кроме того, что писал. День прошёл решительно мёртво и без всякой пользы.
Стану делать обзор своему положению в эти 2½ недели со дня моего рождения.
Отношения мои. Самые важные и интересные для меня — к Вас. Петр. и через него к Надежде Ег. В его положении самое важное — его отношения к жене его, и мои мнения о ней, кажется, остались в продолжение этого времени без всякой перемены; он продолжает считать её девушкою (хоть так назову за недостатком слова) слишком простою по уму и сердцу, в которой мало высшего и в которой есть душок, как он выражается. Мне она по прежнему нравится более всех женщин, которых я знал когда-либо, не знаю хорошенько, справедливо или нет, но почти уверен вполне, что справедливо: эта непринуждённость, прелесть — она делает неловкости, заметные даже для меня, но каждый звук её голоса идёт как бы из души и выказывает душу, свободную от тех мелких недостатков, которые всегда как-то проявляются в каждом движении, особенно у женщины, которые можно назвать, если угодно, мелким кокетничанием женщины самой перед собою и которые выказывают натуру пошлую. Признаюсь, напр., когда Любинька или Анна Дм. говорят: «Пожалуйте, милости просим», или что-нибудь подобное, в каждой ноте голоса есть для меня что-то неприятно задирающее и отталкивающее, и это с первого раза — во всяком случае так теперь помнится мне (подтверждается примером дочери наших хозяев) — видно мне в женщине. В ней нет этой пискливости и, как бы это назвать, этого неприятного оттенка голоса, который придаёт словам выражение натянутости и нерадушности. Два-три раза из того, как я был у них, мне блеснула мысль, что она не так хороша собою, как раньше я воображал; в самом [деле], чепчик ночной или эта голубая повязка к ней не идёт; что в её лице действительно не довольно выражения и что оправдывается мнение о ней Ив. Вас. и Залемана — простое русское, обыкновенное лицо. Нет, после чувствовал, что это вздор,— а между тем едва ли чувство преданности и глубокого благоговения, которое я раньше питал к ней, может быть, ослабевает во мне и заменяется чувством: «так себе, ничего», которое после может превратиться в «да, точно, на лице есть, что не из аристократии». Не знаю, что в этом виновато: то ли, что я всегда принимаю людей с первого раза [63] слишком к душе и ставлю их слишком высоко, а потом приходится их сводить с пьедестала, на который сам возводил их,— следствие энтузиастичности, наклонности ценить хорошее в каждом и, главное, непроницательности, которая заставляет только после долгих суждений и опытов замечать то, что другим, более опытным, с первого раза бросается в глаза, или это следствие того, что Вас. Петр. постоянно говорит о ней с сожалением, а я слишком высоко ценю его авторитет и слишком недоверчив к себе вообще, а особенно уж когда он не согласен со мною? Я более наклонен сказать, что это от последнего. Да, она более не обвораживает меня, а между тем я знаю, что стоит только поставить себя в известное положение, поговорить о чём-нибудь серьёзном с нею, чтобы снова очароваться. Но особенно звук её голоса решительно отнимает у меня возможность считать её женщиной пошлою и принадлежащею к дюжинным.
Вас. Петр. — Я всё более и более, кажется, люблю его; между тем теперь снова, признаться, как-то не мучусь из-за него сердцем, снова нашёл спокойный период времени: думать думаю, а тосковать — почти нет. Признаюсь, мне всегда совестно, как я получаю письма от своих, что я о них менее думаю и забочусь, чем о нём, и убеждаю [себя], хотя не слишком долго, с упрёками каждый раз, более думать о них, а между тем думается о нём.
Наши. — Мнение моё о папеньке понемногу, но постоянно всё подымается, всё более и более ценю его: христианская кротость, смирение, непамятозлобие, много того, что у Альворти в «Томе Джонсе» — непоколебимое благородство; я более и более сознаю сходство между им и мною в хорошие моменты моей жизни или во всяком случае между тем, что я сам считаю за хорошее в человеке. Маменька между тем едва ли, бог знает, не сходит на степень обыкновенных женщин: необыкновенная, решительно материнская, только в высшей степени, привязанность ко мне, большая, сильная любовь к папеньке — это вещи необыкновенные, но в отношении к другим она едва ли не стоит ниже папеньки по своим действиям и суждениям — более пристрастна. Однако я сам не знаю, справедливо ли это; в последнем, кажется, много участвуют рассказы Любиньки и намёки Ив. Гр. про их отношения раньше и во время свадьбы — слова, в которых всегда проглядывает недовольство.
Я, признаться, мало о них думал, менее чем о Вас. Петр. и себе; конечно, жизнь готов отдать, и мысль о них может удержать меня от дурного — «это их огорчит», но ведь это потому только, что мне теперь ничто не доставляет обыкновенно слишком живого удовольствия из того, что в моей власти.
О Иване Гр. и Любиньке мнение. Видимые отношения тоже с их стороны кажутся ничего; [а] я постоянно как будто жду стычки; как-то хочется предполагать в них, что они недовольны тем, другим во мне, и даже отчасти желается, чтобы было высказано с их стороны, чтоб дать отпор и разойтись с ними или [64] определить отношения. Вот хоть теперь: говорят между собою, Любинька хочет есть постное, он — нет, и, кажется, главное для себя, но отчасти и потому, чтобы не расстроить её; скука и гадость (я это говорю не в неудовольствии) слушать эти прения. Он ей надоедает своими толками об этом — неделикатность удивительная, с её стороны тоже. Странная непонятливость, особенно у него — говорит так, что постоянно не так, как бы должно, чтобы производить благоприятное действие на неё, и если она не всяким огорчается (хотя огорчается довольно часто, и часто справедливо, а не от несносности мелочного характера), то это от любви к нему, предполагает, ему не видно. Она тоже его [огорчает], но он более скрытен, и я менее знаю его,— да ведь обыкновенно это он читает наставления и ведёт разговор, а не она. Мне почти совестно в душе перед ними, что в сущности я не чувствую никакого расположения к ним; да ведь по-настоящему они ко мне ещё менее, если сравнить с тем, что говорится ими (хотя он не говорит, а только по Любинькиным словам должно угадывать) об Ал. Тимоф., который, конечно, так же близок к нему, как я к ней. Мне [кажется, что] эти люди в сущности никого не любят, кроме нескольких, к которым бог знает почему привяжутся — потому что это брат и сестра — да ещё непонятная любовь, которая заставляет одну предполагать в женихе, а другого в невесте половину своей души. — Однако он мне кажется довольно порядочным эгоистом и любит её менее, чем она его, хотя может быть её любовь и проистекает от безделья и оттого, что он надел на неё чепец и вывел из-под власти маменьки и тётеньки. Она его сильно любит, у него — любит, как я; такая любовь называется — так, между прочим; «возлюбиши жену твою»,— ну, почему и не любить — сердце мягкое у него, он и заботится о ней, но оставляет её скучать, а сам уйдёт к своему приятелю какому-нибудь,— нет, это не истинная любовь в моём смысле, а вообще пожалуй и любовь. Вас. Петр. вон вовсе не чувствует ничего к жене, а заботится о ней гораздо более, чем он. То-то и есть, что у одного так велико, что ему кажется пламя вулкана, то у другого даже незаметно, так велика его душа.
Теперь о себе. — О своей будущности думаю мало, как-то беспечен[75]. Составляю словарь, иногда подумываю, что место и возможность жить получу через Академию за это, иногда что через Срезневского, иногда что через Никитенку, с которым сближаюсь на педагогических лекциях. Занимает мысль о том, что нужно достать свидетельство, чтоб не платить денег[76], и тяготит, что вот прошла вакация более чем в половину, [а] я ещё ничего не сделал по этому делу.
Теперь о науках и умственном мире. Но это когда останусь один, чтобы было связнее, а теперь снова пишу «Мери».
2 августа, понедельник. — До 2¼ писал «Мери», всю кончил; после до конца вечера (теперь 11½) провёл так, как проводил обыкновенно раньше — читал, ничего не делал особенного, то то, то другое; читал «Героя нашего времени» — удивительно хорошо; [65] всё более и более нравится; за словарь примусь с завтрашнего дня, теперь ничего не делал по нём. Писал письмо Саше об экзаменах. Любинька говорила: «Я думаю не шутя, что надоела Ив. Гр. и что он скучает со мною». Нехорошая мысль, которую я подозревал в ней с неделю по некоторым её выражениям в этом роде, которые, может быть, другой принял бы за шутки. Это так жаль её, бедную! Такое состояние самое грустное, тяжёлое. Доктор сказал, чтобы есть скоромное; это её огорчило снова, но оправдало, я думаю, в её глазах Ив. Гр. День у меня прошёл хорошо, без неприятности, читал спокойно, лёжа в зале; ждал Василия Петровича, и когда не пришёл в 7–8 часов, несколько беспокоился головою.
Продолжение вчерашнего. Обзор моих понятий.— Богословие и христианство: ничего не могу сказать положительно, кажется в сущности держусь старого, более по силе привычки, но как-то мало оно клеится с моими другими понятиями и взглядами и поэтому редко вспоминается и мало, чрезвычайно мало действует на жизнь и ум. Занимает мысль, что должно всем этим заняться хорошенько. Тревоги нет. Блеснула мысль: «без религии нет общества», говорит Платон и мы за ним,— да ведь у него самого не было положительной религии, поэтому он под этим словом, конечно, разумел совокупность нравственных убеждений совести, естественную религию, а не положительную. История — вера в прогресс. Политика — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идём в сравнение с ними, они мужи, мы дети[77] ; наша история развивалась из других начал, у нас борьбы классов ещё не было или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан особенно, после Леру увлекают меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшими, если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно почти и спорить. В этом убеждают «Débats», которые только голословно высказывают свои убеждения, не будучи в состоянии развить и доказать их; они даже неспособны и к жару почти, а только к жалкой иронии, которая может в глупую минуту вырвать улыбку, но ничего более. Литература: Гоголь и Лермонтов кажутся недосягаемыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь. Защитники старого, напр., «Библиотека для чтения»[78] и «Иллюстрация», пошлы и смешны до крайности, глупы до невозможности, тупы непостижимо. Чрезвычайное уважение к людям, как Краевский[79], который более сделал для России, чем сотня Уваровых и ему подобных, красующихся в летописях отечественного просвещения.
Мысли: Вас. Петр. и Над. Егор. более всего; свидетельство о неплатеже денег в университет, несколько; отношение моё к студентам — уничтожение неблагоприятного о себе в них мнения; словарь; как выйти из денежного положения, заплатить деньги Терсинским, если Воронины не возобновят новых уроков. Более ничего. [66] Любострастия меньше чем когда-либо, хотя по ночам приходят глупые мысли, напр., спать нагим, как я это и пробовал делать эту ночь; кажется, усиление стремления полюбить женщину, т. е. девушку, но любовью чистою, платоническою, смешною, но цель которой жениться на ней; вместе с этим боязнь ошибки и разочарования. Это довольно занимает, семейная тихая радость.
3-го [августа], вторник. — Писал письмо, которое отнесла Марья; писал Саше об экзаменах. После писал словарь (цитаты), почти кончил Ва — все; пришёл в 7 час. Вас. Петр., просидел до 8½; после я пошёл проводить — много говорил, и говорил от души, о Лермонтове, о Пушкине, которого он считает лёгким; говорит: «Раньше я считал Лермонтова дитятею перед Пушкиным, а теперь нет». Он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию, и не шутя думает об этом: «Элементы,— говорит,— есть, ведь подымаются целыми сёлами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да ещё разорить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего ещё нет». Мысль [участвовать] в восстании для предводительства у него уже давно. «Пугачёв,— говорю я,— доказательство, но доказательство и того, что скоро бросят, ненадёжны». — «Нет,— говорит он,— они разбивали линейные войска, более чем они многочисленные».
«Странный,— говорит,— вкус: Над. Ег. нравится не то, что должно бы». Я объяснял и оправдывал примером собственного развития: человек на другой ступени развития так странен и непонятен для нас, что мы не поймём его, если не вспомним себя на этой ступени развития, да и себя почти не помним. Ал. Фёд. вошёл на двор, сказал, чтоб я взял на завтра «Мёртвые души» и приходил нынче вечером почитать газеты; в комнату не пошёл, потому что, говорит, расстроен. Я этому поверил, хотя может быть справедливо говорит Вас. Петр.: «Он не пошёл потому, что видел меня». Когда пошли, я сказал снова: «Если вы не будете ходить, схожу — не считаю за нужное об этом распространяться, напишу домой — и только». — «Хорошо,— говорит,— лучше буду ходить, но я могу повредить мнению о вас Терсинских и огорчить их тем, что вы меня больше любите, чем их». — «Мнение их обо мне меня не интересует, как и я ими не интересуюсь, огорчиться они этим не могут, да едва ли в состоянии заметить, потому что едва ли предполагают; права судить себя я не признаю и не предполагаю ни за кем, кроме папеньки и маменьки, да и то потому, что они серьёзно могут огорчаться и радоваться мне».
В самом деле у меня нынче была тоска по нём, хотя только в голове, в сердце не так много, но в голове сильно, несколько мешала занятиям, и в голове моей было беспокойство. «Единственное, что мне доставляет наслаждение, говорю, кроме книг, это свидания с вами». — «Но я отнимаю у вас много времени». — «Раньше я думал бы так, теперь я знаю, что время, проведённое с вами, для меня, чтобы говорить без гипербол, в семь-восемь раз [67] полезнее, чем за Нестором или т. п.». — Это мы говорили по дороге мимо казарм и по Семёновскому полку (разговор начался: «как ваши отношения?» — я сказал, что отдал 45 р. сер. и что более ничего). А перед этим, когда шли по улице, ведущей до казарм, говорил главным образом о жене: «много благородства», говорит. И, сидя у меня, говорил: «Душа добрая, нежная, сердце способное любить, образованья недостаёт ей, молода; перейдём, говорит, к вещам не поэтическим: как муж, я пас, не потому, чтобы не было сил, а потому, что нет охоты, а она кажется сладострастна. Зайдёмте ко мне». — «Нет». — «Почему?» — «Так». — «Потому что не одеты?» — «Очень странно, что вы отгадали, потому что обыкновенно не отгадываете». — «Это ничего». — «Ну, нет же». — После зашёл к Ал. Фёд., прочитал газеты наши 24 июля — 1 августа. Во Франции идут назад, следственное дело разыгрывается, Ледрю Роллен, Луи Блан попадают под следствие. Это меня огорчило[80]. Взял «Мёртвые души». Вечер прошёл весьма хорошо. Люблю Василия Петр., люблю.
4 [августа], среда. — Утром в 11 час., только напился чаю, отнёс Вас. Петр. «Мёртвые души» и не остался у него, сам не могу сказать хорошенько, потому ли, что знаю — утром не вовремя (кажется, это говорил), или потому, что думал, что один он лучше любит читать. В 7½ часов [он] принёс их, посидел с полчаса. Я до того времени писал словарь, кончил 108-ю страницу — Все-два — и говорил отчасти с ними; они меня удивили, т. е. Ив. Гр. — раньше я всё-таки думал, что играют в карты потому, что кроме нечего делать, теперь есть что читать, а он всё играет — как это так пусто время у человека? — после стал раскладывать гранд-пасьянс, она сидела подле него — решительно Маниловы со стороны праздного пустого воображения, говорят о вздоре всегда. Вас. Петр. говорит: «Тяжело быть у Залеманов (к которым он шел), теперь обязан им и велят приходить, нельзя не прийти; неприятное чувство быть обязанным». Теперь с 8 час. читаю «Мёртвые души» и не совсем ещё понимаю характеры, не совершенно дорос до них, поэтому мало и пишу. — 11¼.
5 [августа], четверг, 12 ч. утра. — Вчера дочитал до Плюшкина, ныне утром до визита дамы, приятной во всех отношениях; характера Коробочки не понял с первого раза, теперь довольно хорошо понимаю; связь между медвежьим видом и умом Собакевича и теперь не так ясна, но утром нынче, когда я шёл, расставшись с Вас. Петр., прояснилась несколько более, чем раньше: так он и во внешности так же твёрд и основателен и любит основательность, как и внутри,— он основателен и всё делает основательно, поэтому и избы знает, что выгоднее и лучше строить прочнее, да уж заходит за границы — итак это связано, как внешнее и внутреннее. Чувствую, что до этого я дорос менее, чем до «Шинели» его и «Героя нашего времени»: это требует большего развития. Дивился глубокому взгляду Гоголя на Чичикова, как он видит поэтическое или гусарское движение его души (встреча с губернатор[68]скою дочкой на дороге и бале и другие его размышления), но это характер самый трудный, и я не совсем хорошо постиг его, однако чувствую, что когда подумаю и почитаю ещё, может быть пойму. Велико, истинно велико! ни одного слова лишнего, одно удивительно! вся жизнь русская, во всех её различных сферах исчерпывается ими, как, говорят (хотя я это принимаю на веру), Гомером греческая и верно; это поэтому эпос. Но понимаю ещё не так хорошо, как «Шинель» и проч., это глубже и мудрёнее, главное мудрёнее, должно догадываться и постигать.
Сейчас мелькнула мысль, хорошо объясняющая скуку Печорина и вообще скуку людей на высшей ступени по натуре и развитию: следствие развития то, что многое перестаёт нас занимать, что занимало раньше. Это я испытываю, сравнивая себя с Любинькою и Ив. Гр., и эта мысль пришла по поводу Марьи, которая явилась рассказать что-то новое Любиньке. Записать её я, собственно, и сел. Как ни хочется прочитать все «Мёртвые души», но я не стал сидеть за ними ночи, а поступил на авось: удастся — так, нет — нет. Может быть, тут участвовала и физическая не то что усталость, а расслабление некоторое, которое есть отчасти и теперь, но помогла мысль, что они ещё будут, через Ол. Як., у Любиньки, и что я теперь ещё не совсем понимаю, и чтение это менее принесёт пользы, чем «Шинель». Утром думал понести их — не так, как думал вечером, как можно раньше, а так, чтобы иметь вероятность не застать Ал. Фёд. дома, чтобы он ушёл в департамент. Всё-таки не знаю хорошенько, поддался я этой мысли или нет. Пошёл в 10 ч.; он не ночевал дома, и таким образом было всё равно. Я оставил «Débats» и, переодевшись, отнёс Вас. Петр. «Мёртвые души». — «Я,— говорит,— почти потерял надежду получить их от Залемана; я сказал, что прочитал только половину, а он не сказал в ответ, что достанет; он стал походить на старшего брата, молол в его роде; говорит,— характеров нет в „Женитьбе“ Гоголя и что „Игроки“ ещё хуже её». Он проводил меня до мостика, потому что нужно было ему идти в лавку; оставлял меня у себя, между тем мне не должно было оставаться, как я увидел, когда не остался. Теперь должно ждать — он раньше принесёт книгу или Ал. Фёд. придёт раньше, потому что верно он нынче будет у нас.
Я взял у Вас. Петр. «Иллюстрацию» и предугадал, что [ради] этой глупости бросят «Отеч. записки» Терсинские: бросили, чтобы пересмотреть картинки, Любинька на целый час, а Ив. Гр. и теперь читает её, а не «Отеч. записки», которые читал раньше. Дети, особенно он, по литературному развитию. Третьего дня, когда он принёс «Отеч. записки», и раньше у меня утвердилась мысль, которая была и раньше: не показывать им, что читаю книги, взятые ими, а не мною, и если читать их, то разве когда они лягут спать, чтобы не видели,— несколько детски, но так и быть,— чтобы после на меня ничего не могли свалить или не могли быть в неудовольствии, когда книги будут запачканы и Ол. Як. что-нибудь скажет. Вчера до ужина, читая «Мёртвые души», был [69] сильно не в духе оттого, что должен сидеть вместе с ними и развлекаться их разговором. Много маниловского в них чрезвычайно, т. е. особенно в Ив. Гр. [много] сходства с Маниловым.
Двенадцатого половина. — В 5½ зашёл Вас. Петр., принёс «Мёртвые души». Я стал читать, затворившись в спальне своей; потому что день этот мыли полы, и Терсинские, и я вышли в зал. Дочитал почти, когда он воротился от Казанского. Я стал читать вслух, дочитал; после стал читать с 360-й страницы, мы сидели одни; после, когда стали пить чай, я продолжал читать для всех — совещание чиновников, капитана Копейкина и проч., до лирического места о выезде Чичикова. После Вас. Петр. встал, я пошёл проводил его до Гороховой. Дорогой говорил о Гоголе только. Придя ко мне, он сказал: «Счастливы вы, что не уважали [никого] кроме Гоголя и Лермонтова,— „Мёртвые души“ далеко выше всего, что написано по-русски». После дорогою тоже говорил, что предисловие не кажется ему странным, напротив — вытекает из книги и что он ничего не видит смешного в этом,— это меня обрадовало. — «А эти господа, которые осуждают,— говорит он,— ничего подобного не чувствовали, поэтому не понимают (так в самом деле) и (новая мысль для меня, с которой я совершенно согласен), напиши он это же самое короче, другими словами, все бы говорили, что это так; хоть просто бы сказал: «присылайте замечания». — Так, в самом деле высказался из сердца и поэтому смешно. — «Да,— говорит он,— следовательно, гордости, самоунижения, вообще тщеславия здесь никакого нет». О младшем Залемане и давеча и теперь говорит: «Очень глупеет и пошлеет и будет как старший брат»,— он насолил ему замечаниями своими о «Мёртвых душах» и «Женитьбе» и «Игроках».
После зашёл к Ал. Фёд., занёс «Мёртвые души»: ему не было очень надобно; когда прочитает, снова хотел дать; говорил он со мною от души и [был] очень рад. Давал прочитать два циркуляра, писанные начальником их отделения Струковым, который пописывал [81] довольно [не] глупо, как говорит Михайлов; действительно, эти циркуляры (о поощрении садоводства через раздачу земель под сады сельским учителям и через поощрение духовенства ко введению у себя улучшенного земледелия) хорошо написаны, с толком и знанием дела, как это пишется за границей. Воротился в 11 часов, не велел подавать себе ужин, так как Ив. Гр. уже поужинал, несколько времени смотрел глупую «Иллюстрацию», теперь ложусь спать. Докончил Все — два и дописал до 85-й стр.; полулист, который составился из (расшитых) Два — Дѣтiй и Землѣ — Игумена — союз и буду особо выписывать. — Завтра вечером у Вас. Петр. — Ал. Фёд. сделал довольно хорошее впечатление, как говорят. Добрый человек в сущности и благородный и кажется, почти я совершенно уверен, расположен ко мне. «Мёртвые души» не так были к спеху, как я думал; вообще я из пустой деликатности [70] тревожу всегда себя и других. Ему особенно понравилась страница 171-я: «Каждому человеку блеснет что-нибудь не похожее на то, что видит он каждый день, и надолго останется светлым гостем в его душе» — по случаю встречи Чичикова с губернаторскою дочкою. Посылал снова за табаком.
6-го [августа], половина третьего. — Затруднялся, как же я пойду вечером к Вас. Петр., когда Ал. Фёд. обещался прийти; особенно когда Иван. Григ. сказал шутя, что вечером, шутя[82] не будет дома, если застанет у себя Яхонтова или другого кого, к кому пошёл. Но Ал. Фёд. был в час, Ив. Гр. воротился, и всё пришло в порядок. Думал — когда сходить за письмом: перед тем, как пойду к Вас. Петр., или завтра? Любинька спросила, пойду ли ныне, и я отвечал, что пойду. Так всегда решается, как в самых пустых, так и в самых важных делах. Докончил Дважды — Игумена, теперь начну Дѣтiй — Землям». Готовлюсь обедать.
10 час. вечера. — Сейчас воротился от Вас. Петр. В 4¾ начал собираться в университет и к ним; в 5¼ готов, пошёл в университет, получил письмо из Аткарска, от своих и Корелкина, дал 20 к. сер. На дороге купил карандаш. Когда шёл оттуда, смотрел шар, на котором поднимался кто-то из 1-го Кадетского корпуса. Вас. Петр. не застал дома, как и ожидал, а встретил на дороге у железной дороги. Воротились. «Мы нарочно ходили все здесь, чтоб вас встретить». Когда вошли и Над. Ег. вышла на секунду, он сказал: «Какая капризница, раскапризничалась, что я шёл в другие улицы, а ходили не по одной». Я, разумеется, отвечал, что так и должно быть и что это естественно. — Зачем он так делает? — это может и в ней поселить неприятное чувство ко мне, и ему нехорошо. — Когда шли (у угла на повороте с проспекта во 2-ю линию, когда идешь мимо казармы), мне мелькнуло чувство, что нехороша у неё походка — голову слишком вперёд держит и между плеч яма, а когда вошли и я посмотрел, когда входила в комнату,— что не слишком хороша, а так себе, как говорит Вас. Петр. Не знаю, утвердятся ли эти мысли и начало ли это переворота в моём мнении о ней; это довольно вероятно; вообще часто случается, что с первого раза — преумный человек, чем далее, тем более приближается к не слишком умному, а после и пошлому человеку. Но скорее это вздор, произведённый случайностью какой-нибудь или словами Вас. Петр.; однако странно.
Когда сидел, она читала «Героя нашего времени», мы говорили о «Мёртвых душах», я всё более и более чувствую величие их, и точно, это глубже и многообъемлющее всего другого, даже «Героя нашего времени», хоть этого последнего более понимаю, чем их. Он говорил о том, что характер Чичикова не понятен,— это меня удивило; спорить я не стал, потому что сам не умел совершенно его определить, а между тем чувствовал, что он определённее всех. (Сейчас Любинька спросила: «Что это такое?» Я с секунду не мог прибрать слова, это время прошло в произнесении слов: «это как бы тебе сказать»… и тотчас сказал: «Не то, что университетские [71] записки, а приготовление для них». — «Так я тебе не мешаю ли?» «Нет, ведь это пишется на память и большого соображения не нужно». Это показывает, что она не знает, что о чём теперь не начинаю говорить сам, о том не должно спрашивать и что они не подозрительны в этом отношении, в отношении к предположению в другом склонности молчать и скрываться. — Я доволен, что тотчас спокойно, не смешавшись и не показывая особенного внимания, отвечал ей.) После нашёл, что он не читал с того места, где заставили меня читать, с 360-й страницы, и как я тогда вечером не дочитал до жизнеописания Чичикова, то он не читал,— а между тем сказал, что прочитал. Это и то, что они ходили по той улице, где ждали меня, показало мне, что в нём не менее, чем во мне, этого старания, если что делаешь для другого или в этом роде вообще, то не показывать вида, например, сказать, что обедал, когда не обедал, и проч. Это тонкие деликатности, сказал бы я, если бы не приписывал этого чувства и себе, однако скажу и теперь. Я рассказал жизнь Чичикова, тотчас встал и пошёл. Она, когда я рассказывал, слушала,— значит, несколько понимает. Любинька в письме от своей маменьки нашла желание кольнуть Ив. Гр.: «а я думаю, что там не ждут, и в следующем письме жду, что вы уже определились». — Когда я сказал, что это вообще для того, чтобы написать что-нибудь в том роде, в каком всегда принято писать в подобных случаях, она не согласилась.
11 часов. Ал. Фёд. говорил Лободовскому заходить и поэтому мой расчёт, что уже не будет нынче, оказался неверен. Что Любинька так спросила, чтò я пишу,— показывает, что беспокойство моё происходит, может быть, только оттого, что они не знают, что это может быть беспокойство, а если узнают, то прекратят, но как передать? Сказать прямо нельзя, кажется, по Любинькину характеру, который в этих мелочах обидчив.
11.40. — Дописал 84-ю страницу Дѣтiй — Землям. — Ив. Гр. воротился; когда спросили, хочет ли ужинать, сказал нет; когда после этого меня спросили, я тоже сказал нет, потому что не хотел, чтобы могли сказать: там только обедал, а здесь и ужинать хочет. Карандаш подчёркивает славно, и это меня радует.
7-го [августа], 11½ утра. — Думаю с тоскою о том, что если Над. Ег. В самом деле не такова, как мне казалось, а такая, как Вас. Петровичу, и если, как вообще я с первого раза принимаю людей обыкновенных лучше, чем они есть, и только после разбираю, что это люди не необыкновенные, так и здесь.
Сижу, как обыкновенно, за Нестором.
6 часов. — После обеда в 4 часа пришёл Вас. Петр.; сидел 1¼. «Я,— говорит,— человек неспособный к семейной жизни». Я говорю, что часто бывает, что именно того-то мы в себе и предполагаем недостаток, чего в нас весьма много. — «Нет,— говорит,— например, приходит тесть, говорит — собирайся; я смотрю на него: «что же собираться, да куда?» — «К тётке на Крестовский»,— и был весьма изумлен, что я сказал, что не пойду; в са[72]мом деле,— вообще это-то именно и раздражает нас: человек ничего, только совершенно различным образом от нашего смотрит на вещи, чем мы, и через это делается нам несносным, между тем как мы ему сами также делаемся чудны. А она прекапризная,— вчера до 11 ч. не говорила со мной из-за того, что я не пошёл по другим улицам,— я говорил это спокойно, как обыкновенно,— я тоже; наконец, сама же подошла и стала играть и говорить». (Эти слова подействовали на меня хорошо: в самом деле, сердце мягкое весьма.) Я сказал, что он сам неправ и что с её стороны это естественно и другого нельзя ожидать и так вообще не должно делать. — «И странно,— говорит,— что не читала Лермонтова». Я сказал: «Напротив, при мне читала, и когда я вошёл, была положена карта на 130-й странице; ведь это положили не вы?» — «Нет». — «Так она перестала читать с этого места. Да, должно быть осторожным в таких случаях,— сказал я: — как давеча я: вижу, Любинька сидит, не читает «Отеч. записки»,— и осудил в душе и приписал это опошлению строго и серьёзно. После прихожу — лежат «Отеч. записки» перед нею, на открытой странице таблицы, гляжу — статистика Петербурга Веселовского. — Разве ты все повести прочитала? — Все. — Итак, я глубоко виноват перед нею». — «Семейная жизнь,— говорит он,— начинает несколько надоедать, что-то кажется пошловато»,— это выражение в первый раз я слышу,— «и я не создан, для семейной жизни; никогда не было у меня времени счастливее того, как когда я путешествовал, и на следующее лето я, если бог даст, выеду отсюда; скажу, что в Ригу на две недели, а сяду на петергофский пароход, оттуда пешком в Варшаву». Довольно грустно для меня это, но чувствую головою, тоски нет.
Вас. Петр. не думает, чтобы Гоголь был православный в душе, я, напротив, думаю, т. е. не о православии, а о том деле, верующий ли он в откровение и проч., или только человек, как все великие люди, крепко верующий в промысл, или христианин в старом смысле.
Кажется, В. П. по себе судит о других: я нет, следовательно, и другой нет,— мысль, от которой не удерживаюсь и я, только в другом приложении: я верю в прогресс и то, что мы питаемся крохами Запада и дети перед ним, следовательно, и все люди умные тоже, и Иннокентий лжёт, если говорит: «С нами бог, а кто с вами — не знаю»[83].
9¾. — Вас. Петр. говорил ещё о Воскресенском, профессоре химии: «Пошлый, грубый человек; жаль, что вышел из университета и негде будет его встречать, а хотелось бы чаще смущать его и припоминать ему его подлость; когда я вошёл в первый раз в его аудиторию, он смутился заметно и смешался, я не сводил с него глаз».
Думаю я теперь о папеньке по поводу приписки в письме: «Пусть холера идёт туда, где не жалеют жизни, режутся»: человек, чуждый партий и даже не знающий их,— что было бы, если по [73] его мнению, конечно глубоко беспристрастному, устраивать дела? Мог ли бы он отказывать в droit du travail[84], над которым так безжалостно смеются и которое истинная причина переворотов (т. е. пауперизм)?
Когда я говорил о Над. Ег., что не читает Лермонтова и пр., что читает «Иллюстрацию» и проч. против него, и сказал: «Это так естественно по степени её развития; это вещи такие, что вы не вправе огорчаться», или что-нибудь в этом роде, он сказал: «Да огорчаюсь-то вовсе не я, а вы». Не знаю [как] первое, а последнее верно: если он сказал это не нечаянно и не в шутку, то трудновато обманываться ему и в другом,— в самом деле, это как бы личное моё дело, так я говорю об этом и думаю всегда, и когда расположен — чувствую. «Меня удивляет,— говорит он,— моё совершенное равнодушие к ней: я думаю, что я люблю её как одну мою двоюродную сестру, которую весьма люблю,— нет, менее».
10.40. — Дописал Дѣтiй — Землям и написал И до конца 104-й стр.; часто работу прерывал на несколько минут разговорами с Терсинскими. Спина устала, грудь нет.
8-го [августа], воскресенье. — День ничего, несколько получше других дней. Утром был Ив. Вас., звал к себе, после Ал. Фёд., с которым условился идти ныне в 4 (после, в 6, я хотел идти к В. П.); сначала я отказывался идти ныне, потому что Ив. Вас. звал на завтрашний день, но Ал. Фёд. сказал, что ему должно будет быть у вечерни, чтобы отслужить панихиду, которую не успеет, как думал, отслужить в обедню, но успел, и поэтому теперь можно идти. Ему хотелось ныне, и я согласился, только сказал, что долго не могу сидеть, должен уйти. — «Куда?» — Я сказал, что к Славинскому, потому что из деликатности (что нужды было говорить, как понимаю свои чувства — где хорошо — хорошо, где маниловщина — маниловщина, где худо — худо) стараюсь не дать ему заметить, что я с Вас. Петр. более близок и чаще вижусь, чем с ним: конечно, глупость, но мне кажется, что это могло бы огорчить его, и поэтому я старался скрыть.
В 4¼ пошли к Ив. Вас. на новую квартиру. Он уже напился чаю, но тотчас же велел поставить ещё. — Признаюсь, это гостеприимство,— во-первых, напился уже, во-вторых, теперь это было ещё рано, и мы собственно должны бы ждать или уйти так,— это понравилось и даже как-то хорошо расположило меня в его пользу и вообще придало хорошее расположение духа и вместе с этим, когда я сравнивал это с тем, как бывало в подобных случаях поступали у нас дома и теперь поступают Терсинские: что «кормить всех, не накормить»,— то я как-то отдал ему и Ал. Фёд. и другим, им и мне подобным, [предпочтение] перед этими господами семейными людьми, и это расположило меня на час или два смотреть идиллически на такую жизнь холостую, открытую, весьма радушную и почти никогда [не] скряжническую. [74]
Пошёл к В. П. в 6 ч., предчувствовал как бы, что опаздывать не годится, и как бы предчувствовал, что они, т. е. Ив. Вас. и Ал. Фёд. это узнают, куда я, а между тем, когда сидели за чаем, Ал. Фёд. спросил: «Это что за картинка? Ваша или их?» (То был женский портрет, висевший над чайным столиком, верно какая-нибудь знаменитость или какой-нибудь идеал, скорее первое.) Ив. Вас. отвечал на это, обращаясь ко мне: «Посмотрите, есть сходство с Лободовскою». Я, когда это имя услышал, как-то вздрогнул сердцем, как это всегда бывает, когда услышу, что заговорят о том, что задевает за живое,— впрочем, таких предметов весьма мало,— но сердце вздрогнуло. Я поглядел: точно, есть — нос и части около носа, что я мельком заметил и раньше, когда посматривал так мимоходом.
Странно, что я всегда вздрагиваю, когда что-нибудь подобное относительно её, напр., раз, когда показалось, что навстречу мне идёт она,— и вот в этот же раз, когда я ныне [был] у Ив. Вас. и смотрел в окно, и мне показалось, что она с Пелаг. Вас. прогуливается и т. п. Значит, я этим сильно интересуюсь? Я думаю, подобным образом вздрогнул бы я при встрече у кого-нибудь с Краевским или при начале знакомства с Гоголем, или, в другом роде, при свидании с попечителем,— мне неприятно однако сближать его и Над. Ег. А между тем, когда я бываю у них, ничего, решительно ничего; иногда и довольно часто я радуюсь и наслаждаюсь; когда руки наши дотронутся, снова решительно таким образом ничего, всё равно, мои и её или мои и Вас. Петр. руки встретились, да и вообще никакого смущения.
Когда я пришёл к ним, он сказал,— когда она вышла из комнаты,— кажется от неудовольствия,— что она сердится оттого, что он не пошёл гулять (потому что ждал меня) и сказал, что болит голова. Я стал уговаривать его идти, он — нет. Я сказал, что если так, я уйду. «Хорошо, я спрошу, хочет ли она». Вышел, воротился — «не хочет». Я подумал: или он ей не говорил, или она в неудовольствии сказала это: в самом деле это неприятно, и он нехорошо это делает, и это меня как-то стесняет. Я его заставил идти снова, она сказала: да, и он стал одеваться. Пошли; он сказал, что устал; гуляли мало; они шли не под ручку, и дорогой, особенно на возвратном пути, он говорил (что мне было неприятно) со мною и шёл подле меня, а она часто отставала, или он шёл от неё довольно далеко, потому что я шёл не по панели, а подле неё, и он, приближаясь ко мне, должен был отдаляться от Над. Ег. Но всё-таки, когда мы воротились, она перестала быть в неприятном расположении, развеселилась, играла с ним и с котёнком, и проч.
Да, как мы вышли, встретились нам — мы шли по проспекту на Обуховский — Ал. Фёд. и Ив. Вас., которые шли; это мне было неприятно: и так открылось, что я солгал перед ними. Хорошо ещё, если Ал. Фёд. заговорит об этом: я скажу, что шёл точно к Славинскому, но он попался и затащил к себе. — «А,— сказал Ал. Фёд.,— Ив. Вас. всё подкарауливал вас». — Мне неприятно и то, [75] что Ал. Фёд. увидел Над. Ег., когда она была не одета хорошо, верно и на него сделает дурное впечатление.
Когда воротились и она играла с В.П., то, между прочим, когда он стал на стул на коленки лицом к спинке, она подошла и стала нагибать стул; нагнула несколько и приложила своё личико к его груди, говоря ему в лицо (свеча стояла на чайном столе, стул прямо перед ним и свет падал на неё хорошо довольно, т. е. полусвет, потому что она была в тени за Вас. Петр., но ясный) — у них завязался разговор: «Ты убьёшь меня, матушка, впрочем убивай, будешь интереснее — молодая вдова». — «Нет, лучше пусть я умру, или, лучше, если умирать, так вместе, так что если я умру, чтобы ты не оставался вдовым, если ты умрешь, я не оставалась вдовою». Она с нежностью смотрела на него.
Обыкновенно,— по крайней мере, я это замечал на Любиньке и кажется (однако не помню хорошенько) на других,— чувство особенное нежное, особенно любовь, особенно в этом роде, каком-то идиллическом (я говорю про этот случай), гораздо полнее заставляет бросаться в глаза физические недостатки или, лучше, несовершенства лица и недостаток или ложность этого выражения на нём; это верно потому, что здесь апотеоз лица, оно проявляется в полном блеске, всё и хорошее, и дурное в нём — потому что выступает в него душа. Вообще, обыкновенные лица несносно приторны или уморительны в такие минуты, и только уважение к чувству, вызывающему это смешное выражение, заставляет не смеяться над ними, как, напр., и над кислыми и скверными гримасами обыкновенного лица, когда оно плачет; вообще всё в эти минуты выказывается на лице резче и яснее. Я смотрел внимательно, старался отыскать что-нибудь, что было бы не так, как следует, в её лице, и не мог найти ничего; оно мне показалось весьма, весьма хорошо, обворожительно, и мне показалось (однако не могло истребить сомнения у меня), что мои сомнения насчёт её красоты, решительной красоты,— вздор; что грубого у неё в лице ничего решительно нет, следовательно, однако я ещё колеблюсь сомнением. Однако радости на сердце было; но не через меру.
Чаю пить я не стал у них, хотя и говорили, и это, кажется, на несколько времени рассердило его, т. е. он думал, что я потому, что не хочется мне с сахарным песком, или, может быть, думал и то, что это по расчёту в его пользу я делаю. Она, как всегда, тоже говорила, чтоб я пил, и даже сказала было, когда ушла в другую комнату: «я не стану пить»,— верно, чтобы заставить меня или потому, что это было неприятно, или, как это сказать, что я не пью. Ушёл я в 9 часов, провёл время как обыкновенно, так что не раскаивался, что был у них; она произвела хорошее впечатление, радости, однако, не было у меня; в нём я осудил недостаток внимания к ней: не знаю, следствие ли это тягостного для него расчёта (как в отношении к Залеманам — обязан, следовательно…), или в самом деле вследствие того, что я в самом деле ему лучше её, он оказывает мне больше внимания, чем ей, и это мне неприят[76]но, напр., хоть гулять не идёт, когда она хочет и когда он ждёт меня. Завтра хотел зайти; я это, может быть, скажу ему.
9-го [августа], 8¼ утра. — Вчера вечером читал в «Отеч. Записках», в 3 или 2 № за этот год, отзыв о Луи Блане в книге автора «Ораса» и «Компаньона» (кажется, Жорж Занд)[85] «великий писатель Луи Блан и великий человек!» Хочу непременно купить его, как только смогу. Ив. Гр. не стал ужинать, я тоже. Вчера докончил И, довольно неисправно, судя по тому, что недостало 30—40. Сосчитал строки и подписал их по углам во всем Несторе и написал до конца 72 страницы — Игумене — Княжащю.
12 час. вечера. — Утро сидел за Нестором, только не всё время делал дело настоящее, а от 1 до 2 час. составлял дроби, выражающие отношение между числом строк от конца каждой страницы до начала и до конца той части Нестора, которой я теперь занимаюсь. Голова довольно разгорячилась в арифметическом смысле, и я, как говорит Амос Фёдорович, своим умом дошёл при этом до непрерывных дробей, так что только после заметил, что выдуманный мною способ есть только непрерывная дробь, делая быстро и в уме. Думал, сколько могу вспомнить, довольно живо; чувствовал нетерпение увидеть Василия Петр.; он пришёл в 4, просидел до 5, ушёл и обещался быть снова, возвращаясь, когда я сказал, что пойду с ним, когда он пойдёт покупать утюг. Говорили больше о литературе. Всё-таки он сказал: «Мне было неприятно вчера встретиться с Ив. Вас. и Раевым, особенно когда Ив. Вас. стал в струнку и показал на меня, на неё и на Раева, как будто говоря: вот видите сами, что моя правда — она не хороша». Не должно ли предполагать по этим словам, что в сущности он сам считает её, как и я, красавицею, хотя и не говорит этого, т. е. не то, что считает, а почти считает, и не то, что красавицею, а выходящею далеко из круга женщин ни то ни сё, хорошеньких только потому, что молоды. Если так — хорошо.
«Домби» окончание ему не нравится: трескучесть, говорит. «Том Джонс» в августовской книжке тоже, говорит, много слабее.
Когда он ушёл, я — бог знает с чего пришла охота делать не дело, а в сущности для него, потому, что он курит из трубки — стал чистить чубук и провозился с ним с час; после сел снова писать, дописал прежний полулист до 102-й стр. середины. Он пришёл, мы напились чаю, пошли за утюгом; когда шли около Министерства внутренних дел, я сказал ему своё вчерашнее наблюдение над лицом Над. Ег. в то время, как на нём выражалось нежное чувство; он не стал противоречить, может быть потому, что мы подошли, пока я говорил всё, к железному ряду, но скорее потому, что не наблюдал за этим и не мог ничего сказать, а ещё скорее потому, что заметил сам и то же, что я. А раньше, когда мы шли к Чернышеву мосту и были уже недалеко, он сказал снова то же, что говорил и в первый раз, когда был в 4 часа ныне: «Ныне утром разразилась на меня она упрёками и слезами, что я мало бываю дома, да когда и бываю, то всё читаю или [77] пишу, а с нею ничего». Я сказал, что этого должно было ждать, говорил в этом тоне. «Я,— говорит,— немало говорю с ней». — «Для вас немало, потому что у вас каждая минута на счету, и чтоб говорить, когда вы говорите, для этого нужна воля с вашей стороны, а не самому хочется говорить и не самому заговаривается».
Когда пошли с рынка через мостик на Крюковом канале, мимо больницы, он стал говорить, что заботится, что долго нет писем из дому: «Один зять написал, другой написал и писали, что наши пишут тоже, а между тем ничего нет; это или я что-нибудь написал, что им не понравилось и они не хотят отвечать, или кто-нибудь умер». Тотчас перешёл к тому, что он, однако, всегда был только горестью для родителей, как говорил ему и отец. Я говорил против этого — не знаю, хорошо ли я это сказал или нет, но прискорбно видеть, как он этим мучается: «Что вы приносили им более радости, чем горя, это доказывается тем, что они вас любят». — «Да ведь он говорит противоположное, сам отец». — «Да это обыкновенная фраза, сама собою выливающаяся в минуты грусти или дурного расположения, да и вы сами разве не видите, что причины, по которым они были на вас в неудовольствии или огорчались, были безосновательны? Это похоже на то, как бабушка горевала, что папенька не хотел выходить из семинарии, чтоб занять дедушкино дьяконское место». — «Да ведь они не могут рассудить того, что их неудовольствия и огорчения неосновательны». — «Могут». В это время мы подходили к квартире. Он заговорил о том, чтобы я зашёл, я не зашёл. — «Я,— говорил он мне ныне,— сам жалею, что она скучает и грустит с своими, она тоже что-то не бывает у них. Я сказал ныне — побывай у них, Надя,— она не пошла». — «А вот вы и не знаете, что это такое и отчего она в неудовольствии с ними». — «Я жалею её, но равнодушен к ней», говорит он, как раньше.
Оттуда зашёл переодеться, пошёл к Ол. Як. У него был Ал. Фёд. Мы пошли оттуда вместе. Он заговорил о вчерашней встрече: «Я поколебался вчера в своей уверенности в вас — это первый случай, когда я заметил, что и вы кривите душой, а раньше я был убеждён в противном». Он говорил это таким тоном, что в нём было видно в самом деле некоторое сожаление о том, что он разочаровался относительно меня; действительно, это, верно, произвело на него действие вроде того, как измена друга или разочарование в поэтическом воззрении на жизнь, разница только в объёме впечатления, а не роде его. Я покривил душой, как следует, и отвечал весёлым, но правдивым тоном: «Вообще я не оправдываюсь, часто случается кривить душой, где бы и не следовало, кривлю, но только здесь не виноват: я в самом деле шёл к Славинскому, Лободовский встретился мне около нашей квартиры и утащил к себе; какое бы вам доказательство? да вот: я был без шинели, значит, я был у себя до[78]ма». — Это, кажется, убедило его. Совестно мне не было пpи этом обмане, напротив, я желал, чтоб он удался вполне, потому что хоть это дело и ничтожно, но всё лучше для меня и него (Ал. Фёд.), если он останется в убеждении, что я не кривлю перед ним душою.
После, пришедши домой, стал писать письмо Корелкину в таком тоне, как некогда в Саратове писывал письма: так, ни о чём, только пустая болтовня, совершенно без всякого предмета, только, может быть, остро — смешно и умно, или глупо и более ничего, как угодно. Например, после того, как написал о начале лекций и, во-первых, о Михайлове: «во-вторых, писать уже не о ком, поэтому от лиц перейдём к вещам лучше, и как о вещах писать тоже нечего, кроме того, что сюртуки у меня износились окончательно, то напишу вам об этом и перейду к событиям. Итак: сюртуки у меня износились окончательно. Теперь перейду к событиям».
«Из того, что делается в Петербурге, я не знаю ничего, как есть; раньше знал по крайней мере, что делаются в неимоверном количестве набрюшники и перцовка, но теперь холера прошла[86], ни набрюшников, ни перцовки более не делают, чтò делают вместо них — я не знаю; в провинциях делается весьма многое,— например, в лесных местах весьма хорошо делаются оглобли и лопаты, а в безлесных — кизяки (если вы не знаете…), но эти вещи или недостойны просвещённого внимания, или, если достойны, то я не могу, без некоторого оскорбления вам и несправедливости, предполагать, что они ускользнули от вашей любознательности, а как таковое предположение необходимо для того, чтобы я решился писать вам о них, а этого предположения именно сделать я и не вправе, и не решусь, то и не могу писать вам об этих делающихся в наших провинциях вещах. Теперь долг рассказчика повелевает мне приступить к рассказу о совершающемся за границей, ограничиваясь пределами того, чего я не знаю. Итак: во-первых, я не знаю, совершается ли на Западе покупка хороших карандашей по гривеннику серебром или соответствующей ценностью своею гривеннику монете, или совершается она у нас или дешевле, или — чего не дай бог, потому, что зачем же желать дороговизны? она сокращает потребление, а следовательно, и производство — дороже: нет, я надеюсь, что дешевле; но, увы, я только надеюсь, но знать наверное я не знаю; это для меня так прискорбно, что я принуждён стереть выкатившуюся от избытка чувств слезу и обойтись посредством платка. Слезу стёр и посредством платка обошёлся. Теперь продолжаю: во-вторых, я не знаю, совершаются ли на Западе купчие крепости так, как у нас в местах присутственных второй инстанции или, может быть, и первой. Многого и другого я не знаю из совершающегося на Западе, но эти два пункта самые важные и сомнение относительно их весьма тяжело для души моей, а средств разрешить так занимающие меня вопросы эти никаких, никаких!!! О; как многого не знает ещё человек вообще, и я в особенности, из того, что знать ему было бы необходимо [79] для его спокойствия и для его блага… Грустно жить на свете после этого. Единственная моя отрада в таком грустном житье на вышереченном свете, что я надеюсь увидеться с вами к началу сентября. Ваш… Ах, да! Вообразите себе свинью. Вообразили? В таком случае можете меня и не воображать, потому что я весьма похож на неё — забыл написать вам свой адрес (это не из письма уже), для того, чтобы зашли ко мне, когда приедете…».
Это буквальная выписка.
Ив. Гр. не ужинал, я тоже, только спросил хлеба. Свидание с В. П. и слова его об отношениях к Над. Егоровне не произвели грустного впечатления, как обыкновенно это бывало, потому что теперь подают надежду. Свидание с Ал. Фёд. благоприятствовало моим мелким планам относительно лжи об обмане их, и я этим довольно доволен. Когда шёл, расставшись с В. П., думал о них, был весел, пел, как это почти всегда бывает, но не в таком весёлом духе, как теперь, и вздумал, поя песню Маргариты из Фауста — Meine Ruh ist hin[87], которую я довольно часто пою, что хорошо бы, если бы она знала её, и мысли — отчего хорошо, если бы она знала по-немецки, а главное хорошо, что он стал бы её учить и время шло [бы] у них в этом; скажу, чтобы он учил её. ¾ первого. Ложусь.
10-го [августа], 12 час. утра. — Странно, сердце снова при постоянных мыслях о Над. Ег. неспокойно, как это бывало в первые дни после их свадьбы; снова есть чувство; странно, что это такое? думаю — это вздор, от моей глупости; нет, это оттого, что действительно они оба выше, чем то, что обыкновенно видишь, и достойнее всех других любви: в самом деле, есть что-то особенное, это не глупость, а только необходимое следствие того, что я его довольно близко знаю: зная, нельзя не интересоваться ими в высшей степени и не любить их от всей души. И мне приятно это биение сердца или, лучше, не биение, а как-то особенным образом оно сжимается или расширяется и что-то в самом деле чувствуешь в нём.
Вчера Ив. Гр. попросил меня уйти в залу, чтобы свет не мешал Любиньке спать; это ничего, ни хорошо, ни дурно. Я ушёл и в первый раз с давних пор, когда кончил писать, лёг без свечи. Любинька ныне говорит: «Верно ты сам отнесёшь письма, потому что Марья стряпает». Я не хотел раньше, но уж пошёл переодеваться, как взглянул на Марью,— она стоит так. «Есть тебе время?» — «Есть». — «Ну, отнеси». Так-то всё случай,— не будь её в это время в прихожей, я бы и порол по Гороховой, а после по Невскому, потому что давно уж не видал картинок и хочется посмотреть их. Да, а о Надежде Ег. всё думается и не равнодушно.
½ 12-го вечера. — Ждал Вас. Петр. и думал; часто находили довольно продолжительные периоды, когда сердце билось неспокойно, как обыкновенно в таких случаях, что его нет, когда обе[80]щался; приходили в ум разные глупые предположения о том, что не случилось ли с ним или с нею чего, и что именно могло случиться. К чаю приехал доктор, рассказывал анекдоты, уморил; чрезвычайно хорошо говорит, и хороши, и новы рассказы. Когда уехал, Любинька сказала, что он врёт кстати и некстати. Это мне показалось досадно: удайся хоть в 10 раз хуже рассказать что–нибудь подобное Ив. Гр-чу, она была бы в восторге и не знала бы, как и смотреть на других и как заставлять их преклоняться перед таким умником. Что за пристрастие к другим в худую сторону: только мы умны, все другие дураки… — После, спустя сказала: «Вот хвалился, что это он сделал, что академикам дают чай вместо сбитня». Я говорю: «Почему ж не он? Разве весело ему возиться с больными?» (он сказал, что от сбитня больных бывало много). — «Уж слишком! Семинарист, который жил с свиньёй в одном хлеве, да сделается ещё от этого болен!» Мне хотелось сказать, что Ив. Гр. тоже принадлежит к этим господам, о которых она так отнеслась; он сам горячо вступился против этого: её слова задели его за живое. Пресмешно! Она замолчала. Через несколько времени говорит: «Вы дадите мне свечу на диван перевязать ногу?» Ив. Гр. снял и поставил. Что раньше не спросил меня,— это взбесило мою голову, впрочем, не слишком сильно, а встал и пошёл, не от сердца, которого вовсе не было, я был решительно холоден, а так; сделал несколько шагов по улице (мы все сидели у дивана, свеча горела на столе, я писал Нестора).
Когда вышел, пришло в голову зайти на двор к В. П., посмотреть в окно, что они делают, и побежал было; но стал накрапывать дождь, ветер скоро наносил тучи, и я, прошедши за переулок, который на Загородном проспекте (около 320 шагов), воротился. После ужина Любинька стала укладываться спать, сидя на моём диване, о чём она долго уж говорила. «Вы пойдёте в залу», сказала она нам. Иван Гр. с «Отеч. записками», в которых читал Прескотта[88], я с бумагами пошли; свеча оставалась на столе. Я подошёл и стал складывать бумаги на стол в зале перед диваном. — «Принесите свечу»,— сказал он мне так, как говорят людям, которыми распоряжаются; это меня более прежнего задело, но снова за голову, а не за сердце. Странно! Эти люди не понимают, пока не скажут им прямо: «пожалуйста, будьте не так, как до сих пор; если я вам спускаю, так ведь это по снисходительности, которую всякий человек чувствует, если только он порядочный человек, к людям, которые гораздо ниже его по уму». А до тех пор они это перетолковывают как выражение уважения. Всё-таки свечу я принёс.
Любинька устроилась, он читал. Тут-то, когда дело было кончено, он стал приставать к ней с нежными, но чрезвычайно неуместными заботами: о том, что ей здесь будет неловко, на постели лучше,— как будто не знает, что если неловко, она сама увидит и перейдёт снова туда, а всегда человеку должно дать испытать то, что ему кажется лучше: может быть, в самом деле лучше, а если [81] и хуже, то теперь ему кажется лучше и будет век казаться, если он не испытает, и не позволить ему сделать это значит сделать ему неприятность. Она с прискорбием несколько времени отговаривалась, наконец, по своему характеру вышла из терпения отрицательным образом: взяла, перешла на постель и принялась плакать. В самом деле, она не может улечься на постели от своих болячек и спать, а на диване надеялась спать сидя и давно об этом мечтала. Она стала плакать, он пришёл и сел читать Прескотта, сделавши своё дело — настоявши на том, чтоб она поступила так, как ему кажется лучше, а ей хуже. Я несколько жалел о её слезах, но, глядя на него, мне было пресмешно, и я даже несколько раз на секунду улыбался.
Кончил прежний полулист и дописал до конца 110-й страницы Ко–Меѳ.— Вчера у меня в доме В. П. говорил о Сидонском, как умном, но своекорыстном, тщеславном, пошлом человеке, но который постоянно занимается, о Казанском, как ужасном негодяе: «Что, кажется, мне сделал человек? а так бы и убил его, когда он напустился на жену и детей за то, что один из детей уронил чернильницу». Говорил и о Шатобриане и Дюма.
11 [августа], 5 час. 20 мин. — Сейчас ушёл В. П.; разговор нашёл на то, что я или он (оба кажется) сказали, поправляя у себя в штанах: скверно, что нам дана эта вещь. — «В 42 году моё положение весьма бы улучшилось, если бы я не был сам виноват. Жил я у помещика Мирного; человек почтенный, но я связался с его женою. Но разве один Иосиф Целомудренный мог бы устоять, я не устоял. Он узнал и хотел меня высечь — и высек бы, если бы она не предупредила меня. Я бежал ночью; в четырёх верстах была приготовлена лошадь, а должно было проходить по местам, где паслись стада, собаки, страшные, сейчас разорвут, ночь ужасная, тёмная, должно было пробираться с величайшей осторожностью; пробрался. Приехал за 25 верст к жиду, который обыкновенно приезжал к нему лудить, чинить посуду и проч.; он верно что-нибудь догадался, потому что запер меня и сказал извозчику, что не раньше отпустит, как когда ему сообщат ответ от Мирного, что это такое. Ночью я спустился и убежал, и 200 верст дошёл домой с одним чемоданчиком без денег. А у него дети готовились в корпус, и он хотел ехать вместе с ними и говорил: «Тысячи, двух не пожалею, чтобы вас приняли в университет». — «Что ж, разве она весьма молода?»— «Не молода уже, лет 35».— «И слишком хороша?» — «Ни сё, ни то, разумеется, ничем не хуже моей Нади»…
С этим он и ушёл к Казанскому.
Это: «разумеется, ничем не хуже моей Нади», поразило меня, даже теперь задевает за сердце серьёзным образом. Итак, мало надежды, что его мысли о ней переменятся и, кроме того, они так дурны, как я и не предполагал. Когда он ушёл, перед тем, как я сел, пока я брал в руки перо писать это, мне даже мелькнула мысль: боже, неужели этот человек уже так много видел и проч. [82] в таком роде, не хочется сказать износился, а приелось ему, что он уже не в силах, т. е. не хочет понять это простое, милое создание, которое досталось ему законным образом? Я не думаю, чтобы эта мысль у меня удержалась господствующей, потому что я вижу, что он вовсе не износился, как говорит, не истёрся — свеж и юн и чист даже, чище гораздо меня,— но грустно видеть то, что он её так низко ставит; весьма грустно,— для сердца, а не для головы.
Теперь стану писать о предыдущем времени дня. Ходил в университет, главным образом, узнать, есть ли к нему письмо. Так это беспокойство его насчёт того, что он не получает, заняло меня? Разумеется, нет. Оттуда шёл по Невскому смотреть картинки. У Юнкера много новых красавиц; внимательно, долго рассматривал я двух, которые мне показались хороши, долго и беспристрастно сравнивал и нашёл, что они хуже Над. Ег., много хуже, потому что в её лице я не могу найти недостатков, а в этих много нахожу, особенно не выходит почти никогда порядком нос, особенно у этих красавиц, у переносицы, и части, лежащие около носа по бокам, где он подымается; да, это решительно и твёрдо.
Ночью (неприятно писать это на той же странице, где говорится о Над. Ег.) я проснулся; по прежнему хотелось подойти и приложить… к женщине, как это бывало раньше; подошёл и стал шарить около Марьи и Анны; но в это время проснулся Ив. Гр.,— а, может быть, и не спал,— и стал звать их. Это мне было неприятно, что отнимало у меня эту глупую возможность пошлым образом дурачиться, хоть это не доставляет мне никакого удовольствия, просто никакого. Мне вздумалось, что это бог попускает меня делать такие глупости — просто глупости в самом определённом смысле слова — для того, чтоб я не стал кичиться своею нравственною чистотою. Неприятно мне было подумать, что вот опять я под влиянием мыслей глупых и пошлых, и подлых, которые считал отставшими от себя. Думал я это в то время, когда шарил около них.
¾ десятого. — Заходил В. П., по условию, чтоб я проводил его; проводил. Дорогою ничего особенного, только он говорил, как и вчера, что: «Пишу, да что толку, когда сам видишь, что дрянь? и охоты нет, и усидчивости, а когда бы знал, что будет хорошо или полезно, деятельность нашлась бы». Я говорю: «Покажите что-нибудь». Он говорил: «Писать бы что-нибудь из истории, по актам, разумеется, а не по Карамзину». — «Да,— я говорю,— для этого нужно много средств и приготовления». — «Главное — средств,— сказал он,— нет». ещё когда давеча в первый раз был, сказал, что он собирался и в солдаты, и пробовал, да нет, везде нужны деньги. «Эх,— говорит,— палками бы меня по пяткам за то, что женился: ушёл бы теперь в Варшаву». Это он говорит и ныне.
Да,— ещё, когда ходил в университет, оттуда ворочаясь, повстречал Воронова. Он меня проводил и сказал, что половину экзаменов выдержал, другие остались, и, может быть, он додержит, да ещё сам не знает, успеет ли. Да,— ещё В. П. говорил, когда был [83] в первый раз, что писал к Адамовичу, чтобы узнать, где теперь Антоновский: «Через него всегда скорее всего могу узнать, что делается у нас,— если нужно, он даже съездит; это 200 верст от Курска». Так сильно занимают его родные!
Докончил прежний полулист, до обеда; после обеда дописал до 104-й страницы следующий Мз — Наси. — Спина уставала, грудь нет. Читал я эти дни весьма мало, только во время еды и когда что-нибудь помешает писать, читал «Цивилизацию во Франции» Гизо — превосходно[89]. Великий человек! я много о нём и о его судьбе думаю.
12-го [августа]. — Утром был в бане (четвертной) и остригся; в 4 часа пришёл В. П., просидел с четверть часа, и мы пошли к Ив. Вас. Я смеялся, но верно прерывистым волнующимся голосом, потому что моё сердце было неспокойно, как обыкновенно, когда думаю о Надежде Ег. — Пили чай; после пошли к Вас. Петр.; Ив. Вас. также зашёл, раскланялся странно довольно, так что я заметил. Вас. Петр. после говорит: «Он поплатился бы мне за эту кичливость, если бы я был неравнодушен к Наде». Мы не говорили как-то ничего особенного, я всё играл с котёнком, она была огорчена сначала его грустным видом: «Ты всегда ворочаешься домой такой сердитый,— хотя бы раз я видела тебя весёлым». Не понимает, бедная, отчего он такой! Всё говорила, что нужно переменить квартиру, эта ей ужасно не нравится, так что мне головою стало её жаль. Когда она вышла, сказал Вас. Петровичу, чтоб учил её по-немецки или французски. Он говорит: «Нет, не захочет». — «Неправда». — «Да разве я уже не пробовал?» — Не знаю, правду ли он говорит или нет, что пробовал; он от вопроса о квартире отделывался неловко; меня сегодня ещё более чем когда-либо занимала мысль, как ему выйти из этого положения. Заставили пить чай, хотя я не хотел, ушёл в 8.35. — Думаю прямо обратиться для него к Срезневскому, сказать ему, право. Кончил прежний полулист, дописал до 85, следующей Н — Ов. Читал только Гизо и буду читать, когда лягут все, и июньский номер «Отеч. записок», который не читал раньше.
13-го [августа], 3 часа. — Утром писал Нестора; вчера читал до 2½ «Отеч. записки», ничего хорошего не нашёл и решил, что В. П. критику написал бы не хуже, если не лучше. Так мы вырастаем! Из этого источника раньше я воспитывался, а теперь смотрю на этих людей, как на равных себе. Это первая критика «Отеч. записок», которая пробудила такие мысли, что В. П. или я сам не хуже их,— В 11 час. пошёл за письмом, потому что думал, не будет ли денег или письма Вас. Петр.; собственно для него я пошёл так рано, что мог и не найти ещё письма в университете. Письмо себе нашёл, ему нет. Встретил, выходя из университета, Фурсова,— заявил, что поступает к Зубову репетитором,— хорошо, дай бог; разговаривали; Никитенко выхлопотал ему кандидатство. — благородный человек этот Никитенко! Смотрел картинки на Невском, решительно уверился, что все хуже Над. Ег. [84]
11 часов. — В 8¼ пошёл посмотреть на Лободовских, пришёл: когда подходил, сердце билось довольно сильно; пошёл мимо окна, они пили чай; окно у чайного стола, как обыкновенно, было завешено, и нельзя было хорошо видеть их: он сидит перед столом, Над. Ег. в углу под образами. Когда прошёл и увидел их хоть мельком, сердце стало снова спокойно. В продолжение этих дней меня сильно занимает вопрос: откуда мне взять денег, чтобы В. П. мог жить (и хорошо, да и следовало бы, чтобы он мог жить лучше, чем теперь) до того времени, когда выдержит экзамен и получит место? Ничего не могу придумать.
Докончил полулист Наст — Ов. День был довольно странный: сердце сжималось не так много и не во всё время, а работал я как-то слишком с большим рассеянием и как-то не хотелось. Утром так утомился ходьбою с узким застегнутым воротником, что после обеда лёг и заснул и проспал до пяти часов. Читал Гизо 5 том, теперь начал 4, несколько и Баранта.
Прибавление к 11 числу. — В. П. заходил; [пошли] с ним в лавку за сыром; когда шли мимо казарм около церкви, он сказал: «Ныне мы не готовили, а просто поели молока и вот поедим сыру— надоело мне возиться с этой стряпней».
Прибавление к 12-му. — Когда мы были у Ив. Вас., Вас. Петр. взглянул на портрет, когда мы сидели за чаем, и сказал: «Это что за моська?» — Ив. Вас. отвечал: «Вглядитесь хорошенько, может быть и увидите». Тот стал смотреть. Ив. Вас. через несколько секунд сказал: «Есть сходство с вашей половиной?» — Вас. Петр. снова прибавил «моська», хотя, может быть, был сконфужен, что раньше так выразился, и сказал, что сходства нет. «Нет, есть». — «Где же?» — «В овале лица». — «Да это всегда у всех одинаково» (по мне часто нет; действительно, как я после разглядел, главное сходство в овале лица). Когда Ив. Вас. вышел к М. С. Туффе, которая присылала за ним, чтобы переговорил со швеёю, В. П. сказал: «Кто же это в самом деле?» Я взлез на стул — издание русское, Поля Пти (Р. Petit). Я догадался или вздумал, что есть сходство с женою наследника, и вспомнил, что В. П. сам хвалил её за то, что выражение её лица у неё весьма мило, так что нельзя не любить её, и сказал в намерении выгодно подействовать на него: «Это портрет жены наследника, только, может быть, не слишком похож». Он сказал, что, может быть, и вероятно. Это писал я в 9½, 14 числа.
14-го числа [августа], 9½ утра. — Думаю всё о них более всего. Пишу Нестора; вчера читал Гизо и Баранта. Ночью опять приходила глупость некоторая: я снова подходил щупать, но тотчас же ушёл, оттого что поленился, или не захотел. Странно, как в человеке совмещаются совершенно противоположные качества и поступки. Когда думаю о Над. Ег., я совершенно чист, совершенно, как только может быть чист человек, а тут приходят в ум такие глупости. [85]
11¼ — Думаю всё о Вас. Петр., довольно щемит сердце, теперь думаю о финансовых делах: денег у меня не будет долго, может быть, месяца два, как же быть, где ему взять? Это трудно. Отыскал в журнале[90], когда было отправлено письмо, в котором писал, чтобы не присылали денег: 20 июля, и не получен ответ на него. Уж и теперь заметил мельком в журнале много такого, чего не упомнил бы без него.
4½ — Я докончил тот лист и разлинёвывал новый, когда пришёл В. П. Долго мы сидели молча, только его физиономия стала расстраиваться, так что я даже это заметил. «Чёрт знает, какую глупость сделал, что женился; а однако, всё ничего, ко всему можно сделаться равнодушным»; — с дурным видом были произнесены эти слова; — «сколько я ни стараюсь объяснить себе своё теперешнее положение, никак не могу; а надобно внимательнее смотреть на свой череп, не показались бы тут какие-нибудь бугорки или что-нибудь этакое — какой-то червь залез под череп и роется там; досада смертная каждый день, и сам не знаю, отчего: кажется бы не от чего,— а досада, тоска ужасная» (я думаю, это оттого, что он досадует на себя, что ничего не делает, чтобы выйти из своего положения); человек с умом напр., Ив. Вас.,— давно бы сошёл с ума, а я ничего; другой бы, не такой пошлый человек, как я, [не] стал бы ни есть, ни пить, тосковал, худел, так и умер бы, а я ничего: ем препорядочно, сплю преспокойно, только от скуки лежишь, свистишь да глядишь в потолок. Ну, пишешь; пока пишешь — ничего, как прочитаешь — только засвистишь и изорвешь». Показывать мне не хочет ничего,— не стоит, говорит он. — Бог знает, может, и в самом деле не стоит, а скорее напротив. «Что делать,— говорит,— коль бог не дал таланта». — Мне стало думаться несколько теперь, что вот, что угодно, как угодно будь добр и прекрасен человек, но может быть поставлен в такое положение и приведён в такое состояние духа, что не будет составлять удовольствия другому. Итак, Над. Ег., конечно, грустит и тоскует, глядя на него. — Снова он говорит об этой смертной досаде, тоске. Как я бестолков, что не вижу, пока мне не скажут, а когда скажут, то вижу, что иначе и не могло быть и что должно было бы давно это видеть. — От Казанского обещался зайти, чтоб вместе идти гулять. В понедельник хочет быть в университете, потому что ждёт письма.
11½ — Был в 5½ Ал. Фёд. Когда уходил, я спросил, можно ли взять «Мёртвые души»,— он велел приходить в 9 часов; я пошёл, взял, посидел час,— он утомил и наскучил мне и показался более ограниченным, чем обыкновенно. В. П. не был; завтра утром отнесу «Мёртвые души». Меня занимает, помимо прочего, мысль о переходе от Терсинских; беспрестанно мешают. Так ныне, когда я, как стало темно, стал брать свечу, Любинька сказала: «Что это, ты никак уже хочешь зажигать?». По их понятиям, конечно, этого не нужно, а с ¼ часа должно просидеть так, пока будет настоящим образом темно. Я поставил свечу и ушёл в другую комнату, после [86] стал перебирать письма, перекладывать несколько их в один конверт. Она говорит: «Что же ты, зажги свечу, что копаться так?» (уж было достаточно темно). Я промолчал. Странные люди; кажется, с ними не должно церемониться, потому что они не хотят предполагать это, а нельзя не церемониться, если послушаешь их мнения и суждения. С завтра начну пить по одному стакану чаю. Дописал до 94-й [стр.] конца Побъ — Поя.
15 числа [августа], воскресенье, 6 час. вечера. — До сих пор день был самый пустой, что касается до дела, и самый беспокойный, что касается до сердца. До 12 час. читал я «Современник», августовскую книжку, которую вчера принёс В. П., и носил к нему «Мёртвые души», он оставлял, я не остался, хотя тотчас же стал жалеть, что сказал, что не буду после обеда: в самом деле, лучше было бы согласиться, что буду. Когда читал «Современник», ничего ещё, читал последнюю часть «Домби» — хуже много первой, и особенно я это увидел, когда Вас. Петр. сказал, что хуже,— у него действительно вкус тонче и разборчивее моего, он создан быть критиком. Когда кончил и хотел приняться за дело, не стало делаться — так растосковался о Вас. Петр., отчего долго с ним не виделся и не говорил, как бы мне хотелось, и что ещё сутки с лишком не увижусь, что ужасно. Довольно давно не было так тяжело на душе. Как и что он будет делать? т. е., во-первых, чем будет жить? а это главное, чтобы у них теперь было много денег, и он был бы доволен в этом отношении; тогда, я надеюсь, его мысли относительно Над. Ег. переменились [бы], и он стал бы счастлив.
Я не мог продолжать писать Нестора, бросил, лёг в зале читать Баранта и заснул, к счастью. Нехорошо было на душе. Проснулся перед самым обедом; когда пообедали, я хотел было писать — снова не пишется, тянет к нему, да и только. Я уже пошёл в университет, главным образом так, чтоб прошло время, но обманывал себя надеждою, что может быть найду письмо ему,— нет, ему нет, а было Ив. Гр. Чёрт возьми, подумал я, которых писем не нужно, те есть. Но ходьба рассеяла мои мысли и мрачное расположение. Оттуда я шёл по Невскому, встретил Михайлова брата, узнал, что он недавно писал им и пригласил его к себе. Теперь ничего, довольно спокоен, хотя Нестор не пишется,— лень ли, или скорее предчувствие, что снова задумываюсь о В. П., не знаю. Уж хоть пришёл бы Ал. Фёд., всё бы разговорились о чём-нибудь — желание, которое у меня бывает только во время довольно порядочного неудовольствия. Жду, когда откроются курсы, что-то будет,— может быть, от Воронина что-нибудь такое, чем можно будет В. П. воспользоваться, а может быть и мне. Нестора дописал тот лист, всего до 104-й стр., теперь снова сажусь за него, не знаю, много ли напишется.
10 ч. 40 м. — Всё читал «Современника», прочитал «Тома Джонса» и дочитал «Домби». В самом деле Том Джонс здесь много слабее, чем в прежних книжках, но я не знаю, заметил ли бы я это, если бы раньше не сказал это В. П.; думал во время чая [87] мало, конечно, и читал спокойно. У него вкус более гораздо развитый, чем у меня — от природы, или упражнения, или от лет. Дописал всего до 110-й стр. — День прошёл в чтении, а не в письме. Теперь снова ложусь читать.
16-го [августа]. — День довольно незамечательный. О В. П. не тосковал, хотя он не был; весь день писал Нестора. Вчера читал вечером долго «Космос», критику в июньской книжке «Отечественных записок»[91]. Хорошо, и несколько новостей в голове. Читал несколько Гизо и Баранта; докончил следующий полулист и написал 72 стр. Разг — Святослав. В 8 час., как В. П. не заходил, пошёл к нему; он не выходил из дому, потому что думал, что дети Казанского не будут дома; говорил довольно живо. Он в очаровании от Гоголя, ставит его наравне с Шекспиром. Она понравилась по прежнему — ни более, ни менее. Пришёл оттуда в 10 час. почти. Он курит табак, говорит — не выдержал, купил четвёрку в грустные минуты; это меня несколько обрадовало: значит, у них деньги ещё не подходят к самому концу; она всё по прежнему. Сам я не думал почти ни о чём весь день; в разговоре с ним ничего почти, кроме того, что написал теперь, нового не было; завтра хотел зайти ко мне в 6 час. Делал ещё, до 74-й стр., итого в день 1½ листа. Работал с начала дня с жаром; после ничего, как обыкновенно. 11 час., ложусь, буду читать «Отеч. записки».
17-го [августа], вторник. — Вчера читал «Отеч. записки» вечером, прочитал, между прочим, начало в июньской книжке Дютроше[92]; запала в душу мысль там, которая есть: «Чем более у кого абсолютных истин в известной отрасли ведения, тем ниже он стоит в ней. Простому человеку покажется смешным вопрос, отчего падает тело на землю: как же ему не падать? так всегда бывает и было и этого, по его, довольно; смешно и то, отчего корни у растений вниз всегда направлены, стебель вверх».
Писал письмо ныне утром, в котором говорил худо о сочинении Терещенки и словаре Р. Академии, в ответ на папенькино письмо[93]. Пошёл отнести письма, чтобы побывать в университете; Любинька дала 30 коп. сер. вместо 20, потому что Иван Григорьевич тоже написал два письма; я думаю 10 коп. сер. оставить пока у себя и отдать ей после, когда получу от Ал. Фёд. В университете слышал, что Срезневский режет на экзаменах из русского, это мне показалось неприятно; на дороге туда встретился с Галлером, он уже приехал из Гатчины, и говорю: «не пишу Срезневскому»[94]. Пришёл домой,— да на обратном пути пошёл по Невскому для картинок, у Дациаро новые — две молодые прекрасные женщины на террасе, выходящей в море, одна сидит и целуется с молодым человеком, другая смотрит за занавес малиновый, отделяющий террасу от других частей дома (это что-то вроде балкона), не подсматривает ли кто-нибудь. У неё лицо в профиль весьма хорошо, но хуже много Над. Ег., хотя есть некоторое сходство, почему я долго смотрел; шейка также вперёд и грациозна. У другой лица нельзя хорошенько рассмотреть, потому что не в профиль, а прямо; также хороша. [88] Мария Магдалина молится перед крестом, лампадой и черепом в пещере,— это я раньше видел; освещение понравилось почти от лампады, лицо довольно хорошо, но много хуже Надежды Егоровны. — Пришёл домой,— Иван Григорьевич спросил у Любиньки мелких денег, сказавши, что нет табаку; я сказал, что должен гривенник, и вынул его и ещё 6 коп. сер., которые только у меня и были, а он послал кажется за водкою, а табаку не хочет. Что-то будет, когда придёт Василий Петрович, а у меня нет с чем послать за табаком; если не купит к тому времени, разумеется, спрошу у Любиньки, хотя глупо, конечно, сделал, что не рассудивши отдал деньги. — Ивана Григорьевича на месте помощника утвердили потому что, говорят,— министр верно согласится (2½ ч. дня).
9½ вечера. — В 4 были Ив. Вас. с Вас. Петр. Вас. Петр., действительно, как сам говорит, слишком дурно думает об Ив. Вас. и не может даже удержать этого; это на меня подействовало неприятно, что он его обижает, между тем как я сам делаю то же и ещё более и чаще. Ив. Вас. приходил затем, чтобы поручить узнать о дипломе Герасимова. Вас. Петр. хотел после зайти, чтобы идти вместе до квартиры. Я спросил у Любиньки деньги на табак, ничего не сконфузясь и даже без всякого усилия, как будто так и следует, а давеча не хотелось этого. В 6 час. пришёл Славинский. Его приход меня обрадовал тем особенно, что, значит, он не смотрит на меня особенными глазами и не думает отстраняться от меня, но, кроме того, я в сущности чувствую расположение к нему. Тотчас пришёл Благосветлов старший узнать о Неволина записках, я указал на Раева, он побежал, а меня пригласил на завтра. После пришёл Вас. Петр. Говорил с Славинским о духовных преемниках Московского и Антония, о политике. Радецкому дали Георгия 1-й [степени],— странно и неприятно[95]. Славинский сидел довольно долго; был, бедный, как обыкновенно, не совсем здоров, ушёл в 8½ или ¾, а может быть и 9. Они и Вас. Петр. пили чай. Вас. Петр. принёс «Мёртвые души», которые теперь читает Любинька; они ей нравятся, сверх моего ожидания. Я дописал Нестора до 104-й стр. и только, потому что весь почти день писал письмо (которое писал на простой бумаге, потому что почтовой недостало); после ходил в университет, после 4¼—8¾ всё были люди. День прошёл почти бесполезно, но довольно порядочно, всё шло хорошо.
18-го [августа]. — День решительно пустой и бесплодный, кроме разве того, что прочитал несколько из «Мёртвых душ». Вставши, читал их, после с полчаса писал, после к Славинскому, там обедал, видел Лыткина; в 3 часа воротился, до 4½ ч. читал и несколько писал, поджидал Вас. Петр., поэтому не уходил к Благосветлову. Тут пришёл Пелопидов, после Ал. Фёд., который взял «Современник», просил меня к себе за ним завтра,— попрошу денег,— может быть, принесёт и «Débats»; в 8 часов ушёл. Я несколько снова писал, читал «Мёртвые души». Теперь 8 ч. 40 м. и кажется Нестором более не буду заниматься уже, а как будут [89] деньги, [куплю] бумаги и [буду] писать Срезневского лекции[96], потому что времени едва достанет.
У Славинского видел Алексея Герасимовича, который, когда он сказал о Пестеле, что, идя на виселицу, сказал: «Это цветочки, а будут и ягодки»,— «стало быть, говорит, у них был сильный покровитель» (мысль, которая была вовсе некстати и нелепа по ходу разговора), «который, как он знал, поддержит их предприятие», а я отвечал: «А, может быть, он сказал это и не потому» (разумеется, потому что был убеждён, что должен совершиться переворот — правда ли это или нет), сказал: «а что вы думаете,— это он говорил как пророк? — как Иоанн Предтеча: «глас вопиющего в пустыне?» — Я был этим удивлен: ловкость мысли и приведение примера из священного писания, что я так люблю и делаю сам с таким удовольствием; странно показалось мне: человек самый пустой, ограниченный, но только довольно бойкий и несколько остроумный и говорит, как говорю я,— следовательно, может быть, и я ничем не лучше его? И другие мне подобные и мною уважаемые ничем не лучше его? — О Вас. Петр. думал мало, когда был один, почти не думал и вовсе не тосковал, т. е. в голове всегда он, только кроме этого есть другие предметы,— это оттого, что я был развлечен, всего часа два был без гостей и не в гостях.
19-го [августа]. — Почти весь день прошёл в чтении, во всяком случае большая часть. Утром читал «Мёртвые души» и Гизо IV томик, несколько писал Нестора, наконец, после обеда в 5 час., не дождавшись В. П., пошёл к Алекс. Фёд. сказать, что не могу быть у Благосветлова; ему также было некогда; тотчас же я воротился; не хотел я идти к Благосветлову, потому что дожидался Вас. Петр. После он пришёл, говорил только о «Мёртвых душах», посидевши ¼ часа пошёл, я проводил его и не пошёл к нему, потому что лицо было покрыто красными царапинами от угрей,— не хотелось так явиться перед Над. Егоровной. Алекс. Фёд. и вчера и ныне говорил о следствиях, которые имела для меня женитьба Лободовского: «Я,— говорит,— писал об этом Михайлову, писал, что вы весьма часто бываете там и что наслаждаетесь». — Странно, если он угадал, что Надежда Егор. для меня кажется не то, что другие молодые женщины или девушки. После почти всё читал Гизо или «Мёртвые души». Дописал до конца 93-ю стр. Св — Ст; решился теперь оставить это, а завтра же, или когда будут деньги, купить бумаги и писать для Срезневского лекции. Тотчас же подам просьбу и о свидетельстве. 11½ — ложусь читать Гизо и «Мёртвые души».
20-го [августа]. — Весь день как-то Нестор не писался, только докончил прежний полулист и начал и дописал до конца 78-ю стр. Ст — Тя. — Среди дня вздумал бросить пока, а ныне же приняться за сличение записок Срезневского, и начал в 8 или 9 часов и несколько сличил из начала 2 чтения — его буду писать раньше, потому что это веселее, а после уже докончу первое. — Ни[90]чего почти не думал о В. П., почти как всегда, но без тоски, а больше читал Гизо и «Мёртвые души», больше Гизо; дочитал IV томик и начал V, теперь дочитал до 83-й стран.; заняла, между прочим, мысль его (начало лекции о Филиппе Прекрасном): деспотизм и тогда, когда употребляется для бескорыстных, благих видов, как употребляли его Карл Великий и Пётр Великий, есть орудие дурное, прививающее зло к добру, которое производит.
В 3 часа, тотчас после обеда, пошёл в университет взять письмо, узнать о дипломе Герасимова, может быть увидеть Срезневского. Экзамен, когда я пришёл, уже кончился. Мне повестка на 20 руб.; 10 оставлю у себя, тотчас куплю бумаги и буду писать записки Срезневского. Теперь в голову почти не приходило скрывать эти деньги от Терсинских, мало представлялась эта мысль; что им за дело? так думаю я, хотя сам знаю, что неправда. В. П-чу сначала хотел отдать 15: теперь 10, а 5 после, если будет надо. Что присланные деньги — голову обрадовало, сердце ничего.
День прошёл нельзя сказать, что бесплодно, потому что читал, но и без плодов. В. П. был в 6 часов по условию от Казанского; я решился не идти, потому что ещё угри не сошли, а завтра верно будет меньше, и не пошёл, хотя он звал; хотел прийти завтра. Мне было самому досадно несколько головою, что я не пошёл (после, когда он ушёл, я это вздумал хорошенько, при нём слабее), что в самом деле это может его оскорбить, обидеть или огорчить, во всяком случае должно казаться странным. Не говорил ничего, когда он сидел, ровно ничего. Теперь 10 часов, принимаюсь читать Шафарика, верно прочитаю немного, а возьмусь за Гизо и «Мёртвые души».
21 августа, 2 часа дня. — Ночью снова чёрт дернул подходить к Марье и Анне и ощупывать их и на голые части ног класть свой… Когда подходил, сильно билось сердце, но когда приложил, ничего не стало. Дурно напившись чаю, пошёл в университет; когда подходил, билось и сжималось сердце, как бы что-то предчувствовал,— так и есть: «Вот,— говорит Савельич,— ещё письмо Лободовскому, привёз Пархумов, который остановился в „Лондоне“ и желал видеться». — Это тот их откупщик, который был любим и любил его старшую сестру. Получив это, я в первую минуту только обрадовался и ничего. Зайду, говорю [себе], в почтамт, после перескину сапоги и вычищу брюки дома и пойду к ним. Сделал несколько шагов — нет, в почтамт не зайду, чем скорее, тем лучше, зачем ему ждать и в это время бог знает что может случиться? Шёл по мосту, думал и то, и другое: теперь не зайти, шутя не успеешь получить ныне деньги и 2 дня ещё пропадёт; когда подошёл к концу моста, без всякого раздумья, а как дело само собою следующее, пошёл на Гороховую, не заходя в почтамт. Когда шёл по бульвару и через площадь пройдя его, вздумал, что лучше и не заходить домой, так и быть, что гадкие сапоги и проч. и что собственно нехорошо так являться перед Надеждой Егоровной: время дороже этих пустых эгоистических расчётов опрятности; [91] итак, иду прямо туда. Идучи по Гороховой, думал, как сделать, чтобы передать ему письмо так, чтобы она не знала; думал, что скажу, что заходил к Ивану Вас. по диплому, который отправляется ныне, и что не могу быть после обеда у него, поэтому прошу Вас. Петр. передать это ему, а сказать думал на немецком ему: «Письмо от вашего батюшки»; обдумывал эту фразу, чтоб не сделать ошибки против языка, потом вздумал, что верно он сам выйдет отпирать дверь, и я скажу это в прихожей. Но на дороге, по линии между казармами и первой линией, встретил его. — «Вам письмо, читайте же». — «Некогда — Надя пошла в баню, так я хочу воротиться, чтобы она не злилась». — Дойдя до… (сажусь обедать, кончу после обеда).
Дойдя до места парада против церкви, говорит: «Прощайте»,— с таким затруднением. — «Куда же вы?» — «Я так»,— и поворачивает по Крюкову каналу, где ходят обыкновенно на толкучку. Из этого и того, что он постоянно действовал одной рукой, а другая была занята у него, я догадался, что он идёт что-нибудь продать, верно икону. Прошло несколько времени, я послал его домой и, кажется, он воротился, зная, что я иду в почтамт, следовательно, должен получить деньги. — «Странно,— говорит,— как получу из дому письмо,— дрожу». — Как он мне попался, это ещё более утвердило меня в мысли, что должно делать всё тотчас, что должен делать, и отлагать не следует, потому что всегда может что-нибудь случиться в это время, а когда я увидел, что он шёл туда продавать, я чрезвычайно обрадовался, что успел во-время встретиться и остановить его. — Пришёл в почтамт, получил: 15 р. — Любиньке, мне только 5; это мне было неприятно головою; через несколько времени вздумал, что либо можно подать просьбу и дать Василию Петр. сколько нужно, [либо] можно, как я и раньше думал, взять у Ал. Фёд. Оттуда пошёл через Невский, купил бумаги тонкой десть 50 коп. и почтовой полдести; первая Невской фабрики, вторая Аристархова — 25 коп. сер., и теперь принимаюсь писать Срезневского. Или нет, раньше несколько отдохну, потому что от ходьбы (3 часа ходил) некоторая усталость в спине, как обыкновенно. — 2 часа 50 мин.
11 час. с четвертью. — В 7¼ пошёл к Вас. Петр., потому что он не заходил; как пришёл, он стал говорить о том, как был он у Пархумова. «Как вхожу, он кричит: „Марья Петровна, братец пришел“. Я побледнел и задрожал весь; в соседней комнате что-то зашевелилось,— я страшно перепугался: ну, что если в самом деле она с маменькой приехала? это тем более возможно, что у него свой экипаж, и он с того времени как провинился перед нами, чрезвычайно услужлив». Он поговорил с ним о своих прежних товарищах, и то, что они все хорошо служат и уже играют довольно важные роли, между тем как в сто раз ниже его по всему, горько ему: один правителем канцелярии у генерал-губернатора, другой старшим помощником этого правителя, хотя только два года [назад] кончил в университете курс действительным студентом. Он [92] стал рассказывать мне, между тем, как сам готовил самовар, как он обманул Пархумова, сказавши, что он живёт в Петергофе и только приехал. «О женитьбе,— говорит,— ничего не сказал. А наделал я ему довольно хлопот: отец спрашивал, где я живу, я написал и что только вздумалось, так написал: должно быть, написал дом, какого вовсе нет,— что в „доме Фредерикса в Графском переулке“. Он перерыл там всю книгу у дворника, был два раза в университете, наконец, уже отослал письмо с человеком в университет». Мне было неприятно, когда он говорил это, как и всегда, когда он говорит при Над. Ег. о том, что скрывает свою женитьбу,— неприятно и жаль его и её. Он раздувал и накладывал самовар, она стояла у дверей в прихожую, я в той комнате у зеркала, она иногда начинала играть с котёнком. Мне показалось ясно, отчего он равнодушен к ней: у неё нет той развитости, ловкости, которых никак не может придать, как я думаю, природа, а должно придать общество и образование, и без которых действительно женщина не то, чем могла бы и должна бы быть. Пришёл Ив. Вас., мне это в первую минуту показалось хорошо, что я могу передать ему о дипломе, после неприятно несколько, что он застал меня там и будет думать, что я там беспрестанно и скажет это Ал. Фёд., а главное, что сам застал. Скажет или нет? — Ушёл в 8½ час., шёл дождь; я дорогой думал об этом: «Марья Петровна, братец пришел»,— а он дрожит, и мне стало довольно тесно на сердце — жаль его, жаль, и всё время вчера было так и теперь так. — Дело: дописал весь 17-й лист, вышло 5 страниц, надеюсь всё кончить к началу лекций, судя по началу. Завтра пойду к нему: глуп, что не отдал 3 р. сер., должно отдать,— а может быть он уже продал что-нибудь,— и пойду в 4½, чтобы прийти, когда Над. Егоровна спит, как кажется всегда она спит, чтобы он мог поговорить свободно. Бедный (это однако теперь головою пишу).
½12-го.— Да, что в самом деле, если так, как мне показалось, что будто я чувствую другое? Если в самом деле Над. Егор, уже перестала иметь для меня прелесть, и я перестал быть уверен в том, что она заслуживает и заслужит любовь Вас. Петровича (достойна его) и составит его счастье, потому что может и должна составить, и что она не более как всякая довольно хорошенькая, но довольно и грубая девушка? это говорит сердце, хоть и не сильно, а так; а голова говорит: нет, вздор; посмотри, как она ведёт себя, разбери степень развития и отличи его от самой натуры и увидишь, что нет. В самом деле, так естественно, просто, непринуждённо, хотя иногда и не изящно, но всегда чрезвычайно мило, если под мило разуметь, что вообще должно быть, и притворного, фальшивого, пошлого — ничего нет. Напр., хотя теперь: пришёл Ив. Вас., который, конечно, она понимает, смеётся над нею и над ним, и она над ним тоже смеётся, а между тем это так хорошо, что Любиньке никогда не удастся это сделать.
22 августа, 11 час. веч. — Утро прошло так: писал Срезневского только; был Андрей Иванович и весьма занимательно рас[93]сказывал о своих дедушках и кулачных боях, так что старина наша так и выступала перед вами. Большой мастер рассказывать!
Ничего особенного, даже почти ни о чём не думал, кажется. В 5 пошёл к Вас. Петр., как раньше думал, так; оба спали, он проснулся, говорит: «Надя нездорова». Говорил о Марье Петровне и Пархумове. Я просидел 10 минут и ушёл в действительности потому, что она нездорова, хотя раньше думал уйти не поэтому, а просто так, как обыкновенно. Сказал ему, что ухожу потому, что будет Раев; хотя солгал, но вышло так. Когда выходил, сказал в сенях: «Вам нужны деньги?» — «Да ну»,— сказал он с обыкновенным своим в таких случаях видом. «Со мною теперь немного, всего 3 целковых»,— и положил ему в руку. Он отнекивался почти, только было, конечно, неприятно отчасти ему, как разумеется само собой, и несколько пожал мою руку, но слабо, так что как будто не хотелось выразить и то, что благодарен. Это меня растрогало головою, сердце ничего. Деньги ему весьма нужны, я должен спросить у Ал. Фёд.
Пошёл домой; пришёл в 6 час. Ал. Фёд. и просидел до 10½, говорил много и хорошо и о нём и от души и всё, как всегда, даже лучше, но что это перед В. П., как и Ив. Гр., что перед Вас. Петр.! Не человек перед человеком, Булгарин перед Гоголем! Это я пишу головою. Всё время, когда он сидел, сердце у меня, хоть слабо, съёживалось, и думал о Вас. Петр.; денег всё-таки не спросил — просто потому, что не привелось, а не почему-либо и не какому-либо затруднению или что замешался бы — это вздор решительно, это я пишу в твёрдом убеждении, что это вздор — тут действительно нужны, а я что перед действительною нуждою? и моя щекотливость! она при этом случае и не мешается в дело и хорошо делает. А не спросил главным образом потому, что знал, что скоро буду у него, завтра же, и завтра буду в 9 час., в ответ на его предложение, чтобы я был у него. Завтра хотел зайти В. П., оттуда, т. е. от Казанского, и посидеть.
Писал Срезневского и теперь написал до конца взятия[97]… 10-я страница. Теперь несколько буду продолжать, однако верно немного. Теперь решительно ничего почти не чувствую — 12 час. Дописал до устройства дунайских славян.
23 августа. — В 6 час. вечера пришёл Вас. Петр. Мы сидели, несколько времени разговор был пустой, после он стал говорить: «Вы сами запутываетесь, давая мне; и странно, для чего вы это делаете; думаете ли вы, что после этого я более буду вас уважать? вовсе нет, да это и сами вы знаете, да и не интересуетесь моим мнением». — Это его сильно тревожит и ему даже как-то неприятно одолжаться, как он и говорил ныне и говорил два раза, тут и после, когда я пошёл его проводить. Встал уходить. — «Зачем?» — «Да она теперь, я знаю, что плачет; мне её жаль, я знаю, что ей тяжело, очень тяжело, хоть ни слова об этом не говорит. И зачем я это [94] сделал? Если бы не она, ушёл бы, да и кончено, был бы спокоен; а теперь вот нет. И ушёл бы, если б она была одна дочь у отца или мог бы оставить много денег. Эх, я какой! У Казанского 10 000 сер., взять бы, да знаю его, что умрёт, а жалость есть в сердце,— жаль, умрёт, если взять; так жаль было бы, что половину отнёс бы снова ему, пусть пропадаю, ничего, а 2 500 ей бы, да 2 500 домой, а сам пошёл бы в Сибирь». Это говорено было с таким видом и тоном, как обыкновенно говорит он такие вещи, так что видно, что он не то, что думает это, а вообще нечто в этом роде. — «А жаль её; она, бедная, много переносит горя и чувствует его, между тем как я уж и не чувствую; и не заслуживает его, потому что у неё в душе много добрых качеств, очень много. Да хоть бы уж одна скверная квартира чего стоит, сколько делает огорчения! И она надеется, что вот я получу степень в университете, и тогда вдруг переменится наша участь, а я уже не знаю, чего и надеюсь, сам не знаю».
Он говорил это таким тоном, что мне жалко было, это само собой, но вместе мне показалось, что он с бо́льшим чувством говорит о ней, чем раньше. И сам же удивляется: «Как я равнодушен к ней! Это оттого, что я решительно окаменел; а между тем она так много меня любит, что я даже не знаю, за что». — Я говорю ему: «Конечно, вам это покажется смешно, но на это скажу я вам словами Веры из письма её к Печорину: «В тебе есть что-то такое, что любящая тебя не может не смотреть с презрением на всех других мужчин», и действительно, стоит только сравнить кого-нибудь с вами, чтоб он совершенно исчез со всеми своими качествами, обратился в ноль». — Он это принял серьёзнее, чем я ожидал: «Я знаю, что вы это говорите от души, но дело в том, что вы знаете только одну половину меня, а другую не знаете, и что я хуже, чем вы предполагаете. И чего я ни делал, чтобы выпутаться из этого положения, да вот недостаёт практического ума и опытности, и не могу — вижу, что всё не успеваю: у Абазы сказали, что мест нет таких, которые были бы хороши, а конторщик получает всего 25—30 руб. ассигн. жалованья. Одно остаётся — поступить на службу, но знаю наперёд, что с полгода не выдержу, не знаю, когда срок приёмный». — Вообще, пока мы говорили, он более, чем раньше, порадовал меня, хотя, конечно, в сущности всё грустно: он не теряется, не отчаивается, всё отыскивает средства и способы. — Великий человек! И она, кажется, более и более пробуждает его участие, хоть он и говорит, что по прежнему равнодушен к ней. Он говорит: «Я не понимаю, сколько у вас доброты, что вы занимаетесь чужим горем, я не охотник до этого, потому что — верно оттого, что сам много натерпелся его — во мне чужое горе возбуждает самые неприятные мысли». — «Да ведь вам может будет легче, когда выскажетесь?» — «Да, иногда бывает». Его стесняет и это! Боже, какой человек! А когда он говорил о деньгах! Я был так глуп, что даже не переменился в лице и не сконфузился, как ожидать должно было, но не нашёлся переменить предмет разговора и переме[95]нил, уже когда довольно много говорил об этом неприятном предмете.
После пришёл Ал. Фёд., вскоре после [него] Снежницкий и Горизонтов. При них, разумеется, у нас разговор шёл кое-как,— говорили о детстве, о том, как он был в семинарии; он хотел уйти, я говорю: «Неловко; слышите, стучат, значит чай, должно напиться». Он хотел притвориться, что не слышит, но снова застучали, и он остался. Когда напились, он пошёл, я за ним; дорогою говорил об Ив. Вас.: «Это человек, что он всем, кто на палец ниже его, наносит оскорбления, и мне нанёс бы, если бы я не был так зубаст, а вот Надя слабее, так он и делает; и я думал, что она не понимает — нет, понимает весьма хорошо и оскорбляется,— напр., тем, что тогда, когда он был без меня, он был в пальто, без сюртука и расстегнулся и высунулась рубашка; это свинство, и она сильно оскорбилась, и тем тоже оскорбляется и замечает, что он вообще и раскланивается с ней, и делает ей такие вопросы странные, и говорит так,— это свинство, и я не думаю, что это не намеренно». — «Что в пальто без сюртука,— сказал я,— это может быть без намерения, а поклоны и вопросы и тон обращения очевидно умышленно». — «Да,— сказал он вдруг,— позабыл взять «Мёртвые души» (мы были в это время у Гороховой). — «Воротимся,— сказал я,— и возьмёте». — «Нет, теперь уже 8 час., и она плачет, бедная; да и не хорошо, потому что Раев здесь; я зайду завтра». — «Она читала?» — спросил я. — «Читала». — «И понравилось ей?» — «Конечно, потому что у неё много природного ума и здравого смысла, и она эти вещи понимает, конечно, во сто раз лучше Ив. Вас. и ему подобных и никогда не назовет «Женитьбы» и «Игроков» вздором и не скажет, что «Ревизор» ни то, ни сё». И стал снова говорить о деньгах: «Я много думал после, как вы ушли». — Звал к себе,— странно, зачем, когда видел, что я не одет,— но, конечно, не стал принуждать. Когда я воротился (в 8½), гости уже ушли, что мне было несколько неприятно. После читал «Мёртвые души» несколько, несколько сверял лекции, с 10 до 11 спал, после ужинал. Дописал до религии южных славян, сверил до богослужения. Ничего почти нынешний день сердцем не чувствовал, и когда говорил с Вас. Петр., только тогда чувствовал несколько, но не так сильно. А он когда говорил, то дышал даже так тяжело, что было видно, так весь колышется. 12 часов, ложусь.
24-го [августа], 12 час. вечера. — Утром писал письмо, сам понёс, чтобы быть в университете; там получил от Алексея Тимофеевича Ивану Григорьевичу и прочитал газеты санкт-петербургские за нынешний день. — Луи Блан, Коссидьер отданы под суд[98]; вообще, как видно, большая реакция и много уже двинулось назад с февраля. Это нехорошо. Дома Любинька прочитала, что в Академию посылают Промптова, Клюкова и Кипарисова. — Мне вздумалось несколько о Левицком. Хорошо, что Промптов туда едет. После писал до 6½ час., перемешивая это чтением вслух «Мёртвых душ» и разговорами. После пришёл В. П., пошли [96] к нему. Он говорит: «Лучше б у меня болели зубы, чем у неё», и вообще вёл себя несколько, едва-едва, лучше; но мне стало неприятно: всё-таки она всегда ласкается к нему, а он никогда не приласкает её. Она в самом деле весьма, весьма добра: зубы болят весьма сильно, и она чрезвычайно хорошо держит себя — не куксится, не хнычет, а тверда; мне сказала: «Я собиралась вам сделать выговор: зачем вы всегда подойдёте к воротам и уходите назад?» — Я сказал В. П., что это нехорошо, что он рассказывает, в самом деле она может этим оскорбляться, что мне скучно бывать у них или т. п. — «Если б,— говорит он,— я нашёл 10 тысяч вместе с Николаем Гавр., уходил бы его». — «А я,— говорит она,— так разделила бы». — «Нет, ты позвала бы его сюда к нам делить, а я уходил бы». — «Нет, не дала б, как можно?» — «Мы оба с ним не сладим?» — «И стала бы кричать». — «Да ведь он пропадёт за это?» — «Нужды нет, зачем хотел убить». — Когда стали пить чай, я не хотел, потому что пил и потому что это ведь расход для них. Она и раньше меня заставила как-то выпить, и теперь. — «Ну, так не наливай и мне, и я не буду пить, пей один». — «Да ведь он в самом деле пил». — «Нужды нет». — «И если бы он хотел, то сказал бы». — «Нет, не скажет»,— сказала она. — Он уверен, что я не поцеремонюсь, а она напротив и лучше его угадывает меня — это меня порадовало, как доказательство её ума и проницательности. Тогда это только в голове, а теперь рождается убеждение, что она заставит его полюбить себя и в самом деле; и когда припоминаю всё, как я был у них ныне и она вела себя, на меня нисходит самое благоприятное впечатление: «Я,— говорит она,— не могу видеть не только как человек, даже как кошка или собака страдает»; — в самом деле, чрезвычайно доброе сердце. — Он говорил после чаю, когда она ушла, потому что зубы заболели сильно, что «Мёртвые души» Гоголя выше, по его, «Гамлета»: «Вот,— говорит,— сказать это Никитенке — разинет рот, а почему разинет — сам не будет знать; это, говорит, удивительно». — Лермонтова, за которого стихами по просьбе Любиньки и Ал. Фёд. собственно я заходил, не было у него дома.
Идя оттуда, встретился с Ив. Вас., который рассказывал про свои дела, после о Марье Константиновне, после о том, как он доказывал её брату, что он глупо сделал, что женился, а у того уже дети. «1 000 руб. жалованья и жениться — да на что? Ко мне будет ходить для этого прекрасная и преблагородная за 400 р. в год». — Человек решительно без души и сердца и дурной. Мы проходили с ним полчаса, он сказал, что устал, а между тем я ушёл, а не он. Мне было даже весело его слушать: так это всё странно, глупо, тупо, надменно, самоуверенно.
Пришедши домой, Любиньку застал одну, она дожидалась Ив. Гр. Чтобы не дать ей тосковать о нём, я стал ей говорить об Ив. Вас. и вместе смеяться, хотя, конечно, ей это было не совершенно занимательно, но несколько было, когда я сказал, как он убеждал женатого человека в глупости женитьбы и что он осуждал [97] Ив. Гр. за то, что женился. Она этим заинтересовалась сильно и стала расспрашивать и говорить об этом и осуждать Ив. Вас., между тем как раньше постоянно заступалась за него. Так, то справедливо, что только когда нас коснётся, мы интересуемся, и наше положение имеет чрезвычайное влияние на нас.
Ив. Гр. в 11 час. воротился и сказал, что Кульматицкого посылают в уездные учителя, потому что не выдержал экзамена, и переменить этого нельзя. Сердцем ничего не чувствовал, только теперь, когда писал о Над. Ег., несколько чувствовал; на голову произвело теперешнее писание о ней сильное влияние — почти убедило, что он полюбит её, между тем как когда я был, кажется, я был почти решительно не переменён в своих мыслях. Половина первого, ложусь. В. П. взял «Мёртвые души». Дописал до обрядов и сверил до введения христианства.
25 августа, среда. — Всё время писал Срезневского, кроме только обеда и чаю. Да, чаю я всё пью по два стакана, кроме того только, что утром на другой день после вечера, когда решился, выпил только один; увидел, что это бесполезно, да и лень отстать. После обеда приходил Ал. Фёд., просидел 1½ часа; когда я спросил денег, он сказал, что верно нельзя будет дать, однако, посмотрит. Когда он ушёл, я несколько задумался пишучи: — что же теперь? где взять? во-первых, на прошение, а во-вторых, для Вас. Петр.? Думал продать книги, да это вздор, на 3 р. сер. не продашь. Однако, головою только несколько думал нынешний день, да и то мало, сердцем ничего почти не чувствовал. Теперь 10 час. вечера.
26 августа, 11 ч. веч. — До 6 писал, в 6 пришёл В. П. Когда входил, мне показался весёлым несколько — я немного подумал о притворстве, но слишком бегло, а скорее думал, что в самом деле довольно лёгкая минута у него. «Идём». — «Посидите». — «Нет, идём». — Это должно было возбудить подозрения, однако ничего не вздумал я. Пошли. Он снова не говорил, или если говорил, то рассеянно и пустое довольно, так что снова должен был возбудить подозрения, я снова ничего не думал. Переходим мы по камням от Введенской церкви к мосту, он, оглянувшись, сказал: «Право, если найдет слишком тяжёлая минута, я узнаю, у кого есть 1 000 р. сер. в кармане, и украду; половину отдам Наде, половину домой, а сам пойду в Сибирь». — «Нет, это чрезвычайно нехорошо», стал говорить я; он не согласился, говорил, что пустое, а я говорил: «Если бы вы были один, я ничего не мог бы говорить против этого, но вы подумайте о ней». — «Что ж? я не скажу имени; конечно, будут бить,— ничего». — «Но что будет она делать? во-первых, отец возьмёт её и отнимет, и она будет жить как работница у него; а если и не отнимет, то что [такое] 1 000 р. сер.? на 4–5лет, а после что? Нет, вы гораздо лучше сделали б уж, если бы… но я не хочу и говорить этого (я думал: если бы обесчестил её в девушках и бросил, лишивши имени и чести). Одним словом: нельзя ни за что осудить человека, но это чрезвычайно нехорошо с вашей [98] стороны относительно её. Это с материальной стороны, а кроме того, есть и нравственная, сердце». — Мы подошли к углу, я поворотился, он звал к себе, я был не одет. Он говорит: «Это хитрость, что не одеваетесь,— вам скучно». Я уверял, что нет, он не верит. Пришёл домой.
Его слова поразили мою голову (т. е. как тяжело его положение!), но сердце ничего и теперь ничего, только когда я шёл, несколько сжималось. И я отчасти виноват в этом! написал домой, чтобы не присылали денег! не мог рассчитать! Когда сидел за чаем, вздумал, если не будет у Ал. Фёд., можно спросить у Ив. Гр., хотя для себя никогда или после всего спросил бы. Не знаю, говорит ли мне что, что он выйдет из этого положения, но мне не верится, что он кончит ничем! Не знаю, но этого не должно бы быть!
Был у хозяев после — она именинница и за мною присылала, поэтому я нехорошо сделал, что не поздравил утром. Там нашёл сына их и когда увидел, что ограниченный человек, мне показалось, что раньше я с первого раза этого не заметил бы и теперь стал проницательнее от Вас. Петр. и встреч с людьми, которых разбирает он.
Странно, что я не мучусь Василием Петровичем и думаю теперь о нём немного разве менее хладнокровно и лениво, чем о своём свидетельстве,— вообще верно чувствительность изнутри, а не извне, как я раньше замечал, что чувствования зависят не от места, а от времени, так и волнение сердца не от событий, а так от чего-то беспричинного.
Вчера дописал до построения Болеславии, ныне до княжеского рода. Завтра в 5 час. в университет, оттуда к В. П., чтоб не оставлять его одного и чтобы уверить его несколько, что я не скучаю у него.
27 августа. — До 5½ час. писал и ни о чём не думал, после пошёл в университет; там Савельич говорит о Срезневском слишком нехорошо — на него слишком жалуются, как на экзаминатора, и когда я шёл оттуда, мне кажется, что моё прежнее расположение к нему сильно поколебалось, и я вздумал, что решительно правы те, которые были недовольны моим поведением относительно его, и что я не должен никаким образом подавать на медаль. Прочитал письмо — поразила заботливость и постоянная дума о нас.
Пошёл к Вас. Петр. Должен сказать, что Над. Ег. весьма понравилась собственно мне: как при таком тяжёлом положении и столько ещё иногда веселья и внимательности! Она была вчера у матери и мать ныне у неё. Он, как я вошёл, сказал: «А Надя всегда говорит, когда мы ходим смотреть квартиру и не можем найти, что это бог дурак не даёт нам денег!» Она прибавила, что, может быть, он не слышит. Я говорю: «Нет, слышит, да жаль, последствий из этого нет», т. е. не даёт, хотел я сказать. Она поняла не так, кажется, и сказала: «Да уж лучше бы он наказал [99] за это и умерла бы». — Потом они всё говорили между собою, я всё молчал, это было два часа целых, и во время разговора я сидел как будто в другом месте, совершенно бесчувственно сердцем, хотя головою чрезвычайно; нехорошо: вот и она заговорила о деньгах и всё говорит! верно, слишком мало! и тесно им, тяжело, грустно! Но сердце ничего не чувствовало и не чувствует — странно, как раньше было перед женитьбою его.
Он говорил несколько нехорошо с нею по-моему, и, напр., сказал, что мне весьма не понравилось: «Украдь у Шереметьева 10 000 р. сер., тебя пустят, ты скажешь, что тебе нужно, женский пол пускают». Как бы сводник! Недостойна, конечно, его мысль,— подумалось мне! Вот до чего доводит тяжесть бедности такая даже благородных людей. Она говорит: «Лучше умереть, чем жить в этой зале», как она называет насмех комнату, и всё ласкается, целует его. Ныне вела себя при мне более свободно, чем когда-либо, хныкала шутя, напр.: — «Что ты мне мало сахару кладёшь, а себе много» и т. п., весьма мило. Лицо решительно самое милое, характер самый прелестный, какой только я встречал, такой непостижимо добрый и вместе и сильный характер, и весёлый. Я это так говорю, а сам ничего не чувствую. Или говорит ей, когда она говорит: «Тебе ещё можно здесь жить, ты часто не бываешь дома, а я всегда тут»: — «А что не ходишь к маменьке?» А ведь, разумеется, она не ходит из-за него, что не бывает. Бедность, бедность! О, скверно, скверно! Он говорит об убийствах при ней и говорит: «того-то убил бы», и проч., и это нехорошо, однако это уж не знаю, нехорошо ли! Теперь я в первый раз увидел, что она слишком хорошо понимает, что теперь у них нет доходов и нечем жить. Мне снова пришло в голову, что и теперь он уж виноват перед нею. В 8¾ ушёл. Она заставила снова пить чай.
Дописал до религии чехов. Срезневского хочу оставить, если он не переменится, а должен буду приниматься за Куторгу, Устрялова или Никитенку. 11 ч. 50 м.
28 августа. — Нынешний день, конечно, от влияния вчерашнего, прошёл довольно нехорошо и неприятно. Весь день не хотелось делать дела, может быть и кажется оттого, что вчера же вздумал, что подло это, с одной стороны, прислуживаться Срезневскому, когда он так делает и когда другие имеют справедливые причины быть им недовольными.
Встал в 10 почти часов, утром почти ничего не делал, после обеда тоже. Расположение духа было довольно неприятное; несколько, хотя мало, щемило, главным образом, конечно, оттого, что думалось о В. П., потом, конечно, и оттого, может быть, что думалось о себе после этого,— что я не устроен, покровителей нет.
Этой мысли ясной не было, но может быть была тёмная, и пришло, когда пришёл Ал. Ф.: да что в самом деле? В. П-чу только 9 месяцев прожить как-нибудь, после диплом и пошли дела. В 6 час. пришёл он, говорит: «Пойду». Не хотел ни минуты сидеть, принёс только «Современник», чтоб [я] отнёс к Залеману и ска[100]зал, что он нездоров,— ему с ним видеться что-то не хочется. В ту минуту, как я одевался, пришёл Ал. Фёд., просидел до 8 слишком часов, было прескучно, мне было тяжело, я думал о В. П., который уходя сказал: «Иду к тестю, нужно быть там». — «Что же?» — «Третьего дня была Надя, он сказал: ступай вон; и вчера прибил жену, которая в слезах пришла и просила, чтоб я как-нибудь помирился: это, говорит, ты её избаловала! и бьёт её». — Не вышла бы история, т. е. не растревожился бы слишком В. П., хотя я знаю, что это глупо: не тревожится он каждый час. Завтра буду у него, как сказал. Ал. Фёд. приходил звать завтра к себе помочь перевозиться. После писал несколько, с час, теперь ложусь читать. Дописал до Велеса у чехов. ½ 10-го. Луи Блан, сказал А. Ф., бежал.
29 августа. — Утром сходил к Залеману, отнёс «Современник». А когда просыпался, был весьма обеспокоен своим положением: свидетельства не достал и денег нет, и В. П., так что сделалось весьма тошно. Залеман сказал, что будет в час у В. П. Я пошёл к нему сказать, чтоб он приготовился принять или не ушёл. Пришёл — его не было дома: ушёл к Казанскому. Над. Ег. была одета и была весьма хороша, весьма хороша, так что я давно не представлял её себе такою хорошею. Она сказала, что он верно через час воротится, и звала к себе, чтобы вместе гулять. Я колебался, когда идти,— в 5 или 7½ час., чтобы не заставить ждать себя. Сказала, что они хотели идти вместе с её отцом и проч. к тётке на Крестовский, куда 6 августа звал отец, а В. П. не пошёл, отчего и началось разногласие. Я посидел 5 минут, более не стал. В 7 час. пошёл (после обеда вчера несколько заметил, а теперь сильно подумал и несколько убедился, что после обеда точно хуже расположен к занятиям) к ним. На дворе выпало стекло из очков и разбилось. Я пошёл к Шеделю, на дороге встретил Ал. Фёд., который позвал к себе — он был вместе с Лилиэнфельдом, и сказал, что Лилиэнфельд хочет со мною познакомиться. Я обещался зайти и сам подумал: как в самом деле случай всё устраивает: нужно денег и я не хотел просить,— он заставляет просить, и я хотел у Любиньки, что было бы мне неприятно — он сделал, что теперь есть случай у Ал. Фёд. У Шеделя закрыто. Воротился к Ал. Фёд., стал говорить с Лилиэнфельдом. Дело [началось] с того, что Ал. Ф. сказал: «Вот он вам расскажет, что было с Луи Бланом». Я сел, заговорили об университете, после о политике; я защищал социалистов, Францию и её вечные волнения, Прудона, он говорил против. Человек умный и человек, который хорошо держится против меня в этих вещах, в которых Лыткин и другие спрашиваются меня. Хорошо, он мне понравился, умный человек. Он говорит, что осуждает крайности, что лучше английская конституция, где мысль раньше должна пройти через высшие слои и там созреть, между тем как во Франции она ещё не готова, не довершена, а уже низвергает настоящий порядок, и проч. Однако вскоре меня поразило то, что как мы почти равно знаем события [101] и историю, то очевидно, что мы оба знаем, т. е. я знаю, плохо; между тем как когда я говорю с Лыткиным или т. п., то я всегда кажется всё знаю и история вся служит мне. Наш разговор был настолько беспорядочен, что мне снова показалось (что я замечал и раньше при разговорах с Ив. Гр.), что я не умею ещё держаться в споре идеи главной, так, чтобы не дать себе и другому запутать предмета. Я хотел бы продолжать знакомство с Лилиэнфельдом, умный человек,— по крайней мере, так показалось. После остался с Ал. Ф. один и взял 3 р. сер., потому что видно, что много, так, чтобы можно было взять для Вас. Петр., дать он не может. Лилиэнфельд сказал, что Адлер, знакомый В. П., получил премию и место инспектора у Лазаревых,— об этом должно сказать В. П., не получит ли он через него.
Дописал я Zyt Wrat[99]. Кажется, теперь мои дела относительно свидетельства устроятся; что-то В. П. — У Ал. Фёд. просидел с 8 до 10¾, теперь 11¼.
30 августа. — Весь день ни о чём не думал, был так себе решительно, как бы думать о чём-нибудь человеку и не следует. Писал, всё как следует, и только. В 12 час. пришёл Корелкин с Дозе, новым студентом. Я ему много врал, напр., что очки сняты с меня по указу Михаила Павловича, и проч. Он пишет на медаль и написал словарь. Скоро ушёл обедать к родным. После Любинька сказала: «болят зубы». Я сказал: «схожу за лекарством», и пошёл в аптеку в доме Сутугина. Там дали мне не того, какое я брал раньше, но которое было главною составною частью того и действует одинаково, хотя может быть не так сильно. Я взял пузырек из дома, который был с гофманскими каплями, и от этого лекарство воняет ими, а не собой. Купил чернил на 15 к. сер. — После обеда, в 7 час. веч. к Ал. Фёд. Он был один. Просидел до 10, говорил с ним о Лермонтове, о великих людях; я всё говорил о В. П., как его знаю, о сердце великих людей, таких, как Лермонтов, о «Герое нашего времени», он слушал и только делал замечания. Я говорил с охотою и некоторым волнением, хотя решительно без одушевления, которого у меня с ним не бывает; другое дело с кем-нибудь другим. Проговорил до 9½ час. После пришёл Ив. Вас., я ему стал врать об устройстве нехороших домов на Сенной, где, я сказал, я сам бываю. Пришедши домой, писал письма домой и к Кондрату Герасимовичу, в котором ничего нет, только просил денег.
Дописал до того, что молитвы пелись у чехов. Теперь ровно 12; не знаю, какую пользу принёс мне нынешний день,— кажется, никакой.
31 августа, 11 час. вечера. — Утром думал так: отнесу очки, после письмо, после пойду дожидаться очков к Вольфу[100], после в канцелярию обер-полицмейстера справиться, как и что должно писать и на какой бумаге, после куплю её и завтра подам. В 10 [102] пошёл, всё так; пришёл к Вольфу, там читал газеты: Луи Блан в Лондоне, во Франции всё более и более реакция, так что мне было неприятно; неприятно и то, что немцы так своекорыстны и глупо самолюбивы касательно Ломбардии: она всегда должна принадлежать Австрии, говорится в «Illustr. Zeitung»[101]. Там взял чашку чаю — 15 к., прождал до 2 час., и шёл дождь, то уж некогда было. Когда шёл домой, раньше вздумал спросить у хозяина перед тем, как пойду к Ал. Фёд.; а от Ал. Фёд. к Вас. Петр., главное затем, чтоб сказать об Адлере и навести на мысль обратиться к нему. Но когда обедал, хотелось удержаться, ничего не говорить о западных делах, однако не удержался, стал говорить — что за глупость. К Ал. Фёд. пошёл в пять, дописавши до конца чешскую религию. Пришёл, тотчас пришли носильщики, он ушёл с ними, я, отделавшись от Катерины Павловны, лёг на диван и стал петь, сначала: «Ай, вдоль по улице молодчик идёт», сколько знаю, «Ах, как пошёл наш молодец», хотел «Сени», после, когда кончу, но запелось уже по-немецки Wie herrlich leuchtet [102], после песни Маргариты, при которых я постоянно думал о В. П. и Над. Ег. — её положение довольно трудно, как и Маргариты; наружного сходства никакого, внутренне я нахожу, их я перемешивал, всё думал о ней; Шиллеровой Теклы Der Eichwald brauset…[103] Когда пел эти песни, постепенно расчувствовался так, что стали катиться слёзы. Так провёл я с полчаса или более, лежал на диване, раскинувшись на спине и поя, слёзы понемногу катились из глаз. Я думаю, что можно бы пользоваться квартирою А. Ф. для разговоров с В. П. — А. Ф. пришёл, пошли туда, на новую. Когда там сидели, я спрашивал, будет ли он запирать, он говорит — нет, я думаю: хорошо. С ним вместе пошли. Когда шли мимо Олимпа, я зашёл к нему и сердечное получил удовольствие, видя его и говоря с ним: добрый и хороший человек, и я к нему чувствую расположение. Посидел до 9; после пошедши, пошёл к хозяину; он принял весьма хорошо и сказал, что это будет в 3—4 дня. — Хоть бы в две недели, хорошо бы! Завтра буду утром за бумагой, после в университет, после стану проверять лекции и выставлять цитаты, после обеда — у В. П. Жаль, что я не успел его видеть ныне. Думаю отдать Срезневскому написанные тетради, 14 листов, где южные славяне и чехи. Остаётся ещё более половины.
Сколько могу заметить, в этот месяц я нисколько не переменился ни в своих мнениях,— только разве стал немного холоднее к Срезневскому и перестал чувствовать враждебное расположение к Терсинским и почти не стал скучать ими, хотя чувствую, что это [не]хорошо так жить,— ни в положении; узнал в это время только Лилиэнфельда.
До свидания, милая тетрадь, теперь за другую. Дай бог, чтобы мне было можно более приятного и более хороших поступков, более радостного о Вас. Петр. написать в следующую тетрадь — дай бог, 20 минут 12-го, ложусь. [103]
Сентябрь 1848 года.
1 сентября, 11 час. вечера. — В 10½ пошёл за бумагой и в университет, в 5 хотел быть у хозяина, после к В. П., завтра подать прошение. Бумаги купил, у молебна не молился и не думал молиться, а говорил, а если не говорил, то так себе ничего. Стоял там вместе с Лыткиным и Славинским. Лыткин встретил как обыкновенно, даже, может быть, радушнее; за молебном узнал сына Сидонского, который идёт по филологическому отделению и из 3-й гимназии. Проходя в церковь, на площадке, через неё у окна увидел Касторского и поклонился ему; после молебна он подошёл, подал руку и сказал несколько слов. Это меня обрадовало: значит, он думает обо мне хорошо, как я и предполагал. Когда читали список и до меня дошли, сердце несколько дрогнуло, как бы я не совсем был уверен, что не оставлен. Наши переведены все, и Пшеленский и Соколов, а в I курсе оставлен Грефе. Что все переведены, это меня порадовало. Когда услышал, что Благосветлов исключается, [так] как не был два года и не явился на экзамен, несколько подействовало на голову; решился ныне же сказать ему. Когда сходил вниз, внизу встретил Куторгу, который довольно много поговорил со мною, как бы обрадовался, увидя меня, и это меня развеселило.
Пришедши домой, застаю Серапиона. — Как я счастлив: не нужно теперь идти. Он принёс три первые части Гизо «Цивилизации во Франции». Когда он уходил, я, провожая его, сказал, что брат исключён. В обед пришёл Ал. Фёд., здесь обедал, после просидел до 7 час., играли несколько в карты, я несколько с охотою; пришёл Ив. Вас.; Ал. Ф. позвал почитать газеты,— хорошо, я пошёл, прочитал 24—28 августа, где есть о Луи Блане, что он в Лондоне, и протест журналистов — молодцы; a «Débats» и проч., которые не участвовали, нехорошо, если не по глубокому убеждению, но я склонен назвать их подлецами. В 6 час. был В. П., посидел с полчаса и играл за меня в карты. Он пришёл с папиросами, и я в нём ничего не заметил особенного; сказал об Адлере — он схватился за «Кто виноват», а не о месте через него подумал. У А. Ф. увидел те номера «Débats», которые последние были у меня,— это, верно, он только [что] получил их от Савина или как зовут этого господина, который их брал, и есть надежда, что снова будет брать, между тем как раньше я решительно думал, что он перестанет. О «Мёртвых душах», о которых говорил вчера мне, что надо взять, теперь позабыл, между тем как я несколько беспокоился,— что если узнает, что теперь их нет у меня. Однако, я думаю, знает.
шёл когда домой, встретил Олимпа, которому сказал о Репинском, о котором он просил узнать, что поступил; он говорит: «Сечь бы, остался в правоведении, а теперь переходит, а отец ничего; а как я вышел, он и ругался, и отцу писал». Олимп говорил горячо, и это на меня подействовало не знаю как сказать: во-первых, [104] как глубоко человек чувствует оскорбления! — Что ему сделал, говоря так, как говорил, Репинский? Чрезвычайно мало, и только раз посудил о нём, как теперь он судит сам о его сыне, а Олимп высказал, что не может вспомнить об этом хладнокровно и хорошо это помнит. — Ледрю Роллен, читал в газетах, говорил так хорошо, что даже «Débats» говорят, что должно всё позабыть. — В 9 час. домой, хозяина не будет дома до завтра. В университете был, чтобы узнать расписание, а не для того, чтобы быть на молебне. Дописал чехов до обеда, а после прочитал 10 страниц.
2 сентября. — Ночью ходил за обычною гадостью, но ничего не успел. В университете был — лекций много, скверно; у Грефе на второй был, читает совершенно как Фрейтаг, меня уморила эта детскость их, господ классических филологов. Грефе совершенный ребёнок по понятиям своим, и мне совестно было смотреть на человека этого, которому 75 лет. На Софокла не остался и уговаривал других не оставаться, некоторые не послушались; я не буду бывать, как и на педагогических лекциях у него. У Никитенки буду бывать. Куторга читал о характере главных европейских народов,— основные мысли из Гизо, но распространение своё и много, кажется, не так; мне показалось, что это Корелкин, только в другом виде. Начатие лекций не произвело никакого впечатления, как будто они и не прекращались. Говорил я как обыкновенно, кричал, но разговор ни о чём не вязался между лекциями. В третью лекцию, когда был у Грефе Софокл, читал у Эрша[104] Hebert, Herault de Sechelles, и мне показалось, что я террорист и последователь красной республики. Я несколько поопасался за себя. После читал Hebraische Sprache, говорит: ни одна книга не раньше Давида. Что же, я говорю, разве откровение должно распространяться в букве, а не духе? Несколько родилось желание приняться за еврейский и библию.
Когда пришёл домой, они не обедали. Это хотя порадовало моё самолюбие, но попросил Любиньку впредь не дожидаться и, кажется, не с такою нежностью и признательностью, как должно. После обеда был у Ив. Вас.; оттуда я пошёл на полчаса к В. П., где Над. Ег. заставила пить чай. Он снова сказал: «что ж, если не хочет». Он думает так, она иначе — и угадывает. Пришёл домой, говорили с Ив. Григ. о разных житейских отношениях, как-то о взятках и т. п., что необходимость брать, единодушно и весьма довольны друг другом. В. П. сказал, что выражение у Ал. Фёд. иногда бывает нелепое; в самом деле, я сам это заметил по лицу его в полуоборот ко мне третьего дня, что действительно читаю недалёкость его на нём,— да, дурака часто можно узнать по этому. Просмотрел ещё 8 страниц, писать не хочется, делать дело тоже. 11 час., ложусь.
3 сентября. — Снова не подал прошения и вижу, как худо сделал, что не подал раньше — теперь некогда. В университете объявление на 25 р. — не знаю, что, и мне ли,— никакого впечатления. У Фрейтага два раза срезался: во-первых, пересчитывая цезарей, [105] смешался, перемешал Калигулу и Клавдия и сказал in Florentia. Когда я стал говорить, он сказал: «Carissime Tschernyschevski! Saepius eram offensus voce tua obscura[105], постарайся сказать яснее». Carissime — значит не сердится. Он показал и Грефе меня. Устрялов понравился, как раньше, но необыкновенного впечатления не сделал. У него видел В. П., ничего не говорил особенного. Куторга ничего, немного лучше, чем раньше. Пришёл домой — Любинька ждала обедать; я просил не ждать впредь; она говорит: «нет, ничего». Это хорошо на меня подействовало. Ходил в лавки по Садовой за Светонием, которого раскупили в магазинах — дорог, но видел Гёте — 10 р. сер. и Шиллера — 8 р. сер., это меня задело: так дёшево! — Пришёл Ал. Ф., просидел до 8½ и сказал, что привёз газеты; «Мёртвые души», чего я боялся, не спросил. Любинька говорила, когда ещё его не было (за обедом): «отчего В. П. не пьёт чай и уходит, как слышит стук или т. п.?» Это меня порадовало. Весь день ничего, более хорошо, чем дурно. Пересмотреть ещё до 32-й стр. завтра не успею, хотя хотел раньше так. Куторге также не успел сказать, что хотелось бы быть у него на педагогических занятиях. В университете отличался циническими разговорами. Ал. Фёд. сказал, что я должен был отсоветовать В. П. жениться, Любинька сказала, что это нельзя. Итак, А. Ф. не удержался и начал говорить, и сказал, что у него нет такого близкого человека, как я к В. П.
4 сентября, 5 час. — Проснулся в 6 часов. (Да, вчера ночью ходил снова, где Марья, наша прислуга, и клал свой… подле.) Стал тотчас читать лекции Срезневского, не успел однако. Фрейтаг показался ужасным педантом. Куторга говорил всё старое. На третью лекцию пошёл в почтамт, после читал в библиотеке несколько, пересматривал каталог французский, чтобы посмотреть сочинения Proudhon, L. Blanc, P. Leroux, Ledru Rollin, Guizot. Срезневский говорил против наших беллетристов и критиков: «Этот вздор,— говорит,— высоко ценят, учёный труд — ничего». Это меня несколько встревожило; он однако увлёк и показался одним из лучших, кого я слышал. Он сказал между прочим: «Напр., хоть в „Отеч. записках“ писал критики человек[106], который кроме новейшей литературы ничего не знал, да и вообще у нас пишут критику, сами ничего не зная, хоть, напр., чтобы писать на сочинение по политической экономии, должно же знать её». Неужели это так, и критик, беллетрист тоже не имеет чрезвычайного влияния и чрезвычайных заслуг? И это не пристрастный взгляд? — Программа его обширнее и лучше, чем я ожидал. Воронин сказал мимоходом, что они живут ещё на даче,— это меня с этой стороны совершенно успокоило. Из университета я шёл не в хорошем расположении духа, теперь ещё хуже, отчего — сам не знаю: поводов никаких нет, напротив, мне прислали 10 руб. сер., Любиньке велели отдать 15 р. сер. Из этих 10 р. сер. 5 ныне же [106] отдать должно В. П-чу. Фрейтаг уморил бы, если бы не было скучно и совестно, своим детским педантизмом и своею глупостью, надутостью или как это назвать.
10½. — Весь вечер до 8-ми ничего не делал, кроме того, что прочитал повесть в «Отеч. записках» 1839 г. «Прошлое» Корфа[107], которая понравилась; хотя несколько заметил пошлого, но мало, и хорошего больше. После пошёл к Вас. Петр. отдать 5 р. сер. и взять «Мёртвые души» и сказать о «Современнике», что он у Залемана готов. Просидел час, говорили об университете; для Над. Ег. было скучно. После пошёл домой: поговорили несколько о зверинце, где был Иван Гр.; после читал в «Отеч. записках» 1839 г. «Лев»[108],— довольно хорошо.
5 сентября, 11 часов. — Ходил к обер-полицмейстеру, подавал прошение, но был пожар и поэтому не принял. После заходил оттуда к Ол. Як., которого встретил и прошёлся. Ждал В. П., читал более «Отеч. записки», несколько страниц «Мёртвых душ», большую часть дня провёл, как проводил раньше, в так называемом бездействии, но всё-таки написал две страницы новых лекций — образ жизни балтийских славян и дочитал прежнее. Вечером был А. Ф., принёс «Débats» 22 июля — 27 августа, а после, когда он ушёл, [я] несколько читал их и теперь буду читать. Почти ни о чём не тосковал. Завтра подам просьбу и отдам Срезневскому тетради. Прудонову речь в ответ донесению Финансового Комитета (Тьеру) начал читать — какой необыкновенный жар! В самом деле (хотя это никакого особого впечатления не сделало ещё на меня), не решительно ли [я] революционист, что не осуждаю с первого раза его и сужу о нём, что он высоко стоит и будет стоять в истории? — Ждал В. П., он не был; я о нём мало думал.
6 сентября. — Вчера вечером и этот день утром читал донесение Следственной Комиссии Национальному Собранию [109], и странное дело — в сущности нет ничего странного: оно нисколько не переменило моего прежнего мнения о Луи Блане и о партии, которая теперь стала снова господствовать во Франции. Там приведены отрывки из речей Луи Блана в Люксамбурге[110], которые не были напечатаны в «Монитере»[111], они провозглашают, что это говорить есть великое преступление и что они в ужасе от этого, а мне кажется это самыми обыкновенными теперь речами, выражением мыслей, которые должен предполагать каждый умный человек во Франции у себя и у другого умного человека — что народ выше Собрания,— следовательно, имеет право повелевать им и т. д. Действительно, эти люди пристрастны, как партия, а мне кажется, я сужу, как история, как судил Гизо прежние времена. Они, конечно, не могут удержаться от преследования этих идей, но эти идеи велики и в них благо человечества и грядущее его. Луи Блана я уважаю, как и раньше! Что за сила, что за последовательность мысли и слова в этом человеке! И как он одушевлен своим убеждением! И как он убежден! И как он предан своим идеям и [107] верит в их могущество и право и святость, и в то, что победят они и победят сами собою, как всегда правда и право должны торжествовать, потому что ничто не устоит против них, и что по этому-то самому они не нуждаются в насилии, в интригах!
После пошёл к обер-полицмейстеру, подал; в библиотеку нашу; туда пришёл В. П., мы вышли к XI аудитории, где никого не было, и сидели. Я стал говорить о событиях, которые читал, о следствии этом. Пришли Залеман и другие; он просил меня зайти к Залеману за «Современником», за которым, говорил, зайдёт сам, между тем не зашёл, хотя я «Современник» взял. Срезневскому отдал написанное. Он кажется не ожидал и предлагал мне все книги, которые нужны для этих или настоящих лекций, и свои тетради, как материалы для их составления; я об этом завтра скажу. После всё читал «Современник», т. е. IX №, «Тома Джонса»,— не то, что «Мёртвые души» только факты, правда, а не слова, в словах нет необходимости, это вообще болтовня, а в «Мёртвых душах» не то! здесь и слова, и дела! Всё лежал на диване, читал несколько «Débats», теперь снова ложусь читать. Ровно 11 часов. День был весёлый довольно, приятный, т. е. расположение духа вообще хорошо, ни о чём не думал, как почти все эти дни. Разумеется, как всегда, главный предмет В. П., но implicite, a explicite [112] нет мыслей и не теснит сердце.
7 сентября. — Утром читал, как и остальной день, «Débats». В университете шумел много, особенно с Корелкиным, которому читал сильные речи. У Никитенки на педагогической лекции был один наш курс,— я получил надежду выйти через него,— он сказал: «Кто же, господа, имеет готовую мысль, чтобы писать?» — Я хотел сказать, что буду писать разбор «Княжны Мери», но Главинский предупредил, и я остался так. Идя дорогою, вздумал, что всего много, лучше взять один характер, и выбрал Грушницкого, что верно и буду писать, если не буду писать об отношении поэзии к действительности[113] — тему, которую предложил Никитенко. Я теперь думаю о себе, что сделаюсь деятельнейшим участником этих бесед и могу через это выиграть — 1) мнение Никитенки и Плетнёва, 2) и дальнейший ход.
Пришёл домой. Пришёл в 4 часа Вас. Петр., посидел около часа, всё порываясь идти домой; тут он несколько проговорился и сказал, что «ведь вы будете читать» и «я буду в тягость», и я увидел, что он не ходит и не сидит не потому, что не хотел бы оставить одну Над. Ег., а потому, что думает, что неприятно его присутствие и, во-вторых, может, мешает мне. Он говорит: «Она довольно сносна; и хорошо, что не походит нисколько на отца, этого препошлого человека: сына хотел лишить места, потому что им ничего не присылает; я ему сказал, через мать, что если он это сделает, я не позволю ему войти к себе». Я сказал, что у неё много проницательности (и разумел под этим то, что она заставляет пить чай, между тем как он думает, что я не пью потому, что не хочу [108] или что не нравится). — Он говорит: «Да, есть проницательность». — Я стал говорить — в это время мы стояли, облокотясь на комод — он к двери боком, задом к двору, я задом к улице: «Да, вы нехорошо делаете, что говорите такие вещи, что, напр., поступить на место за Троицким мостом помешало вам [то], что вы женаты,— от этого недалеко мысль, что „следовательно, я ему помеха“, и это может быть причиною большого горя». Он говорит: «Это ничего, она об этом не думает, точно так же, как и о том, что я не пишу родным; напр., не читала ещё письма, хотя я оставил его на виду». Я стал говорить, что из того, что она не показывает вида, что это её огорчает, нельзя выводить, что не огорчается, и привёл в пример Любиньку, что многое не говорится Ив. Гр-чу, о чём она говорит мне, напр., происшествия во время похорон дочери и пр. в этом тоне. Не знаю, согласился ли он со мною; во всяком случае, ничего не сказал: или не хотел спорить, или согласился,— первое скорее.
Пришёл Ал. Ф. и вёл себя относительно В. П. не так, как должно,— напр., начнёт разговор и снова уйдёт к Ив. Гр. После, когда В. П. ушёл, он посидел и пошли вместе к Ол. Як., у которого он велел мне просить 50 руб. сер. для него; следовательно, думаю я, он не понимает настоящих денежных моих отношений с В. П., не думает, как я опасался несколько ранее, что чтò я могу достать, то, конечно, достану не для него и, пожалуй, если выразиться романтически, не для себя, а для В. П., как и ни проницателен он и пр. и догадлив вместе, это правда. После читал «Débats», теперь следует читать 26, речи Ледрю Роллена, Луи Блана и Коссидьера. 11 час. Ничего не писал Срезневского.
8 сентября. — Вчера до 3 час. читал объяснения Ледрю Роллена, Луи Блана и, пропустивши Коссидьерово,— конец заседания. Ледрю Роллен сказал превосходно, не хуже, а, может быть, лучше какого-нибудь Верньо, которого, однако, я знаю только по отрывкам у Беккера. Что за высота, на которую он возвёл прение! Он не оправдывался, а разил своих противников, он обвинитель, а не обвиняемый, и не совсем-то ловко должно быть было Комиссии, когда он так говорил. Он говорил собственно не о себе, а об общих началах, и о Луи Блане и Коссидьере: «Нет, вы не должны отдавать их под суд!» — Превосходно, так что я начал, наконец, читать вслух. После также хорошо стал говорить Луи Блан. В первой части своей речи, когда он говорит об общем направлении дела и оправдывает своё участие, он также велик, может быть, ещё выше Ледрю Роллена по красноречию и увлекательности; во второй, когда он объясняет своё поведение в мае, он удивителен, хотя здесь интерес не такой общий. По моему мнению, он совершенно уничтожил, точно так же, как и Ледрю Роллен, все обвинения, на него возводимые, совершенно уничтожил, так что я даже дивился, как у него достало, как и [у] Ледрю Роллена, средства и силы так оправдаться. Я всегда считал их невинными перед историей, теперь вижу, что они невинны должны быть и перед судом [109] полиции, если только судить будет она беспристрастно. Великие люди! Поведение Следственной Комиссии недостойно — она, как справедливо доказывал Ледрю Роллен, переступила границы, ей назначенные для исследования, рылась там, где не должна была, и не искала того, что должна была искать, и всё-таки ничего не нашла, что бы не возвышало этих людей. Она, как доказал Луи Блан, отыскивала клеветы, принимала свидетельства, не заслуживающие никакой веры, даже сама дополняла их своими догадками и оставила в своём докладе в стороне всё, благоприятствующее Луи Блану. Они вели себя (г. Одилон Барро и пр.), как люди, ослеплённые политическою ненавистью, и вели себя неблагородно и нечестно. Одним словом, эти защищения были так основательны, что странно, как могли решиться обвинять: ведь знали, что имеют дело с людьми, которые тверды духом и чисты совестью и сильны словом. Да, они (Луи Блан) имели право сказать: «Я убеждён, что ни один честный человек не может не быть убеждён, что я невинен». После — какая недостойная сцена, эти требования генерального прокурора и Кавеньяка! Какое пристрастие, и этот Кавеньяк явился мне, судя по своим речам, глупым, хотя, может быть, и честным человеком, который выучил несколько фраз и переминает их и который думает, что глупостями можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол! Эх, господа, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас,— не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими своё тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9⁄10 народа — рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. И какое подлое лицемерство! «Мы не требуем приговора над ними», вы не суд. Vous ne préjugez rien![114] — Что за низость,— играют словами и накидывают маску! Если когда я был убеждён в справедливости чьего дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!
А это сильное разочарование видеть, что так преследуют этих людей те, которые ничто перед ними, и, может быть, несколько подобных вещей, как решение Национального Собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить моё убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 г., когда казнили все всех, и что [110] настали времена новые и лучшие, где уважают убеждение в противнике, где не думают, что законопреступно всё высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую, т. е. новую только для господ, которые не хотят видеть её во всей истории, мысль. «На эшафот! На эшафот! туда его — он говорит, что он сын божий! по закону нашему должен есть умрети!» Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! О, боже, дай победу истине! Да победит она.
11 час. утра с ½. — Это я писал, написавши письмо Дм. Ем. о Соломке. Утром читал «Венецианского купца» Шекспира — ничего особого не вижу. Правда, вижу, что есть большая сила таланта и что действительно говорит так, что видно, что человек, заставляющий говорить, весьма умён, но особенного ничего.
10 час. 40 мин. — После того, как написал предыдущее, стал писать Срезневского, написал 1½ страницы; после пошёл обедать; после пошёл в канцелярию справиться,— записали в книгу, узнаю, должно быть, после. — Воротился домой через Невский, смотрел картины и женщин: ни одной лучше Над. Ег. Сердце, когда я шёл оттуда и думал о том, что будет у них, несколько сжималось как-то. Пришёл домой, лёг читать газеты, которые прочитал до чаю; особенного ничего не вычитал. В 7 — к Вас. Петр., как обещал. Просидел там до 9½; говорили о литературе и привидениях и пр. Она несколько говорила о привидениях, и разговор был хороший; говорили об Ал. Ф. и Ив. Вас., смеялись, как обыкновенно, над ними; говорили о Куторге, Никитенке, Устрялове, о которых имеем привычку говорить. Ныне и в прошлый раз я успел отказаться от чаю, между тем как раньше она заставляла. Мне как раньше понравилась она. Не знаю, однако, что это: когда я её не вижу, а думаю о ней, то несколько мне боязно, не покажется ли она мне хуже, чем как бы мне хотелось, когда я её увижу. Нет, не хуже. Ныне я любовался через стол (я сидел у дивана на стуле, она в углу) на её шейку, которая была открыта,— грациозна. Завтра он хотел зайти.
9 сент. — Теперь пишу у Грефе на лекции. Буду писать об отношениях своих к людям. Самое главное место в сердечном отношении занимают Лободовские. В отношении к нему моё мнение остаётся по прежнему: я всё так же его уважаю, так что не ставлю никого наравне с ним из тех, кого знаю, не исключая даже и самого себя. Но, к сожалению, должен я сказать, что в последнюю неделю, или даже две, мы не были с ним так часто и так коротко вместе, как бывали раньше, и поэтому я не так может быть много им занимаюсь, как раньше, и нового о нём долго не узнаю ничего. О ней мнение моё снова прежнее; ореол красоты и телесной и душевной, я сам не знаю хорошенько, окружает её в моих глазах или нет, одно я могу сказать верно,— что когда я жду, что увижусь с нею, моё сердце находится в волнении, подобном тому, как [111] [если б], напр., я должен был увидеться с Лермонтовым или Гоголем. Большая часть этого волнения, кажется, происходит оттого, что я трепещу за то, не открою ли я в ней что-нибудь разочаровывающее; после много происходит и от самолюбия, которое всегда говорит нам, когда мы должны увидеться и говорить с людьми, мнением которых мы очень дорожим: «как-то ты покажешься ему? как-то он будет судить о тебе? не опошлишься ли ты в его глазах?» А, наконец, бог знает, нет ли чего-нибудь и вроде той привязанности, которую, бог знает, как назвать — любовь, или дружба, или просто высокое уважение — последнее имя, кажется, будет лучше всего. Признаюсь, я мало думаю теперь об их положении, так, как будто не знаю его хорошо; это, конечно, оттого, что теперь у меня нет определённых планов и средств помочь ему, но также и от бог знает какого-то забвения, к которому я очень способен. Относительно его я думаю, что как Ал. Воронин скажет мне, что у них возобновятся уроки, я скажу ему: «А вот что: если б можно было, я бы хотел лучше, чтобы вместо меня пригласили одного человека, который, смею вас уверить, в миллион раз лучше меня». Не знаю хорошенько, много ли меня огорчит, если Воронин не согласится, но, конечно, будет для меня весьма приятно, если он согласится.
Относительно Терсинских я потерял почти всю враждебность против них и не готов схватиться и меня не занимают различные планы и расположения битвы с ними. О том, что я должен им, я мало думаю, потому что думаю, что они считают полученными как бы от меня деньги, которые получили из дому, однако, сколько всего получено, я хорошенько не знаю. О нём мнение как бы сродно с мнением моим о Куторге: бог знает, пошлый отчасти, отчасти нет, человек; главным образом пошлость выражается в манерности; человек очень неглупый, что касается под глаза падающих житейских истин, т. е. не только своекорыстных, но и вообще. Например, «отчего так раньше уважали архиереев?» — как-то стали мы говорить: оттого, что в самом деле за 50 лет он, говорит, был один учёный человек в епархии, всё остальное были провинциалы, между которыми семинаристы были самым просвещённым классом.
Отношения с другими не переменились нисколько; новых людей узнал только Лилиэнфельда, которого видел только раз.
Вчера В. П. говорил о переписке Розена с Шевыревым, которая выписана отчасти в сентябрьской книжке «Современника»[115], назвал их детьми, как и я постоянно называю подобных людей и называл при нём Грефе. Это несколько подало мне мысль, что он не всегда считает мои суждения о людях неправильными. Когда мы с ним говорим, много места занимают разговоры об Ал. Фёд. и Ив. Вас. и часто о Корелкине, о котором постоянно говорю в ироническом духе. Не знаю, как это назвать: это не сплетни, мне кажется, а род разбора человека и вывода фактов о том, что такое пошлый и ограниченный человек. [112]
Я намерен сказать В. П. снова, что если он будет так редко и мало бывать у меня, то я сойду от Терсинских. Но я боюсь постоянно говорить ему это, потому что, бог знает, может быть, он не бывает и не потому, что считает это неприятным или тяжёлым для себя и думает, что присутствие его не совсем приятно для Терсинских, но потому же, почему не бывает у Залеманов, у которых, напр., обещался быть вчера и не был утром: он мне сказал: «Как это тяжело быть обязанным,— теперь вам говорят: «Будьте у нас», и вы должны идти». Может быть, то же и относительно меня.
«А если он, напр., ответит: «сойдите», спросят меня: ведь вы предполагаете его принудить бросить церемонии и бывать у Терсинских,— будет ли это вам приятно? верно озадачит?» — Я ничего не могу сказать, ни да, ни нет,— не произведёт ровно никакого впечатления, кажется, а просто заставит сделать, потому что нельзя не сделать.
Вообще как-то странно я устроен: иное производит впечатление, а другое никакого и вообще просто увлекает меня, как дерево: плыву и только, и ничего не чувствую, ровно ничего. Напр., хоть то, что я решился не писать Срезневскому на медаль: как будто ровно ничего не бывало, не пишу и не могу писать, да и только. После лекции объявлю слова Срезневского, что если кто хочет составлять лекции, может брать материалы у него, и скажу: «Кто будет брать?» и воспользуюсь этим, чтобы объяснить гг. товарищам, что я знаю их мнение обо мне и Корелкине и решился прекратить сношения с Срезневским, потому что они думают серьёзно, что это подло, но что, по-моему, они совершенно ошибаются.
Вот таким образом я осуществляю мысль, которая давно была у меня: пользоваться лекциями Грефе и Фрейтага для этого дневника, и во всяком случае, нынешний раз дело было так удобно, как нельзя лучше. Мысль [эта] постоянно была за две недели до начала лекций. Так как остаётся 7 минут до конца, то кончаю — Грефе начинает переводить.
10½. — Пришёл из университета, стал обедать; после обеда лёг, потому что спина несколько устала, как и прежние дни, и читал «Débats» до 1 августа. В 5½ часов пришёл Ал. Фёд. и просидел до 9½. Мне было не досадно, что он отнимает время, хотя особенной занимательности не было; мы говорили о людях, их сердце и проч. в его духе. После я писал несколько Срезневского и дописал до религии (т. е. написал страницу) балтийских славян. — Вот сколько дней проходит без дела. В. П. не был, хотя обещался быть; завтра, если не будет в университете, схожу к нему. Студентам не сказал про отношения к Срезневскому, потому что не помнилось хорошо, и не пришлось видеть Фурсова,— он назначен учителем истории в Псков: свинья попечитель не согласился позволить остаться ему здесь жить у Зубова. Теперь ложусь читать. [113]
10 [сентября]. — Теперь снова сижу у Фрейтага и пишу. Мне вздумалось ничего не говорить у него, потому что я не люблю его, сам не знаю хорошенько за что, и потому что, если отвечать, то должно отвечать на всё по-моему, а как не могу на всё, то должно уж ни на что.
Пришёл из университета, читал «Débats»; после был разговор около 1½ часа с Ив. Гр., который я вёл спокойнее, чем раньше, о наказаниях и необходимости их в обществе. Я говорил, напротив, что наказания ничто, главное — должно возбудить нравственное чувство и общественное мнение. После к В. П., где просидел с 8 до 9½, говорили занимательно, как всегда. Он высказал, что хотел бы более всего заниматься нашей историей, но много должно средств, что Терещенко дурак, но содержания много, и сам Кавелин не без странных взглядов на историческую жизнь. — После, когда шёл сюда, вздумал писать Куторге о Прудоне, на которого он взвёл противное тому следствию, которое он хотел произвести своим предложением. Это письмо положу на стол завтра. — Конечно, не положу, останется в кармане.
11 сент., 11 час. вечера. — Если когда, то ныне я ничего не делал в университете, ничего хорошего, только много хохотал и смеялся. Перед лекциею Срезневского сказал, стоя у кафедры с Галлером, Залеманом, Корелкиным, что Срезневский сказал, что если кто хочет составлять записки, может брать у него материалы. Залеман сказал тотчас и довольно резко, что этого не должно делать, потому что это он хочет узнать, кто составляет. Я совершенно согласен, что не должно. — Пришёл домой, читал «Débats». Ныне обедали без меня. В 6 час. или раньше пришёл Ив. Вас., посидел до 8½, говорил ужасно скучно и утомительно. Я проводил его в намерении зайти к В. П., хоть это должно было быть в 9 час., потому что он не был ныне у меня, когда обещался; но их не застал дома, т. е. в окнах не было света. Решительно так прошёл весь день; о В. П. несколько думал и с некоторой тоской, особенно тоской ума.
12 сент., 11 час. вечера. — Утром всё читал «Débats». Получив повестку из квартала по делу, пошёл на часть с намерением после зайти к В. П. В части Федот Матв. сказал, что это должно быть из квартала. Я пошёл к В. П., хотя думал, что, может быть, он заставит просидеть до Залемана, и это попрепятствует быть в квартале. Пришёл совсем не вовремя: стряпня была в полном разгаре. H. Е. была не одета, почему и не выходила; я тотчас ушёл, и он не удерживал. Оттуда в квартал, где высокий чиновник с завязанным глазом принял меня весьма хорошо. Бумага пришла и требует, из какого я состояния, между тем как должно требовать, какого я происхождения. Во всяком случае, я так думаю, и вероятно, когда они ответят, а они сказали, что иначе отвечать не могут, как на этот вопрос, то те снова пришлют к ним и выйдет проволочка, и я должен буду заплатить деньги. [114]
К Федоту Матв. вечером не пошёл, а сказал это Ив. Гр., который был у них; он говорит тоже.
Весь день читал всё «Débats». Странно, как я стал человеком крайней партии; мне кажутся глуповаты и странны и смешны, но главное — жалки и пагубны для страны все эти мнения и речи господ приверженцев большинства в настоящем Собрании. Прочитал все, которые напечатаны там, dépositions[116] и решительно увидел, что нельзя требовать отдачи под суд гг. Коссидьера и Луи Блана[117]. Но вместе с этим я убедился, кажется, что — хоть в слабейшей, чем у нас, степени — и там тоже преследование за мнения, которые сами собою подразумеваются,— напр., что [народ] выше представителей и т. д., что поэтому народ может сменить своё Собрание, если оно делает не то. Конечно, это принцип, который сам собою разумеется, как же вы боитесь его высказать, когда сами в него верите? Должно бояться не принципа, а ложных приложений, а ложные приложения делаются возможны и успешны только тогда, когда не освещён вопрос. Одно дело возмущение и распущение Национального Собрания буйною, пьяною толпою; другое дело, когда страна видит, что нет ей спасения от этих людей и она должна переменить их. — Господа, господа! все вы пусты и робки и так глупы и тупы, что думаете, что будет иметь какое-нибудь другое следствие, кроме обнаружения вашей мелкости и робости, то, что вы преследуете за то, чего нельзя не думать.
Кроме того, какое пренебрежение к низшему классу! Теперь буржуазия, как я увидел, решительно снова берёт верх, но и то хорошо, что она берёт верх, как хищница, а не — как раньше — по закону: конечно, хищение легче разрушить, чем закон. И вот печатают в обвинение Луи Блана бумаги демократического общества, в которых ровно ничего нет, решительно ничего, и эти бумаги схвачены у правителя! И, кроме того, тут говорится как о деле естественном, отчего производился обыск у министра Флокона во время его отсутствия из дома! О, господа! вот как уже далеко [зашли] вы! allez, allez toujours[118].
Когда я лежал после обеда на диване в зале и читал, Терсинские играли в карты и шутили. Ив. Гр. весьма мило пошутил: «свинья ты, свинья!» весьма мило; мне показалось и жаль, и смешно: жаль потому, что я не мог предположить, чтобы, если не теперь, то после, это не огорчило сестру; смешно потому, что это было сказано с таким добрым и невинным намерением пошутить, а с её стороны было отвечено на это милыми тож вопросами: «ах, друг, кого это ты так называешь?» или: «как ты меня обижаешь», и т. п.,— и оба стали смеяться и целоваться,— прелесть! В. П. истинно великий человек. Велик по сердцу, может быть, ещё более, чем по уму,— это по случаю того, что я застал его в полном разгаре приготовления кушанья. [115]
13-го [сентября], 12 час. — Пошёл в 10 час., чтобы зайти к Ол. Як. и занести Каткову посылку, которую так долго задержал у себя. Ол. Як-ча встретил на дороге и, идя, шутил с ним довольно резко, как и он со мною. Занёс к Каткову, его не было, я отдал сторожу. Оттуда в Казанский, где достоял обедню, после смотрел иконы, между прочим, Марии Магдалины, которую называл красавицею Ив. Гр., в том приделе, который дальше от входа; напротив, мне не понравилась. Особенного ничего не чувствовал в церкви, хотя шёл и думал, что с усердием помолюсь. Когда смотрел у Юнкера, несколько пошевеливала мужской член какая-то картина; да, спит или полуспит брюнетка. Должно сказать, что я постоянно сравниваю всех — и картины, и живых — с Над. Ег.
В университет пришёл В. П., я сказал ему,— что он не приходит? — Говорит: «Она скучает». — «Верно, говорю, не то». — «Ну, так я могу наскучить и буду тяжёл». — Воронин сказал: «Приходите вечером». — «С удовольствием», сказал я. (В. П. обещался прийти после обеда.) Я, конечно, почти наверное знал, что [звали] затем, чтобы предложить уроки. В. П. пришёл, посидел час, мы смеялись над всеми, особенно профессорами, много над Фрейтагом и Грефе; и Куторга и Никитенко не ушли. Любиньке и Ив. Гр., я думаю, было неприятно. Пошли; он проводил меня до Мещанской. Дорогою сначала говорили о вздоре, после этого он стал говорить, как ему надоедает и вчера вечером особенно надоел тесть,— а она всё даёт им. «Чёрт знает, я трус,— сказал он, переходя Семёновский мост,— да, трус: вчера мчалась бешеная тройка, только поставить бы ногу и тотчас же в одну минуту был бы измят и без шуму; и думал, но просто струсил, а между тем тут-то и можно было не струсить, потому что времени сообразить не было — одна минута». Всё это не сделало на меня особенного впечатления на сердце, которое не билось, а на голову, которая, однако, признаюсь, тоже не была сильно взволнована, а находилась как бы в сонном состоянии.
Пришёл к Воронину, он сказал — «пожалуйте туда». Я сказал: «Вы верно хотите сказать мне, чтоб я снова давал уроки братцам? нет, мне было бы приятнее, если бы вместо меня давал их один молодой человек, которого вы видели у Устрялова на лекции».— «Да отчего же вы не хотите?» — «Напротив, я буду с удовольствием, если вы не согласны, чтоб давал он, но мне было бы приятнее, если бы стал давать он, а не я». — «Кто он?» — «Кончил курс в Харьковском университете, а теперь слушает некоторые лекции здесь. Это было бы мне весьма приятно». — Он пошёл к гувернёру и минут пять там побыл. Гувернёр, кажется, сначала не согласился. Когда я говорил и после, когда дожидался, я был совершенно спокоен и сердце нисколько не билось, и нисколько не сконфузился, как это обыкновенно бывает, когда дело идёт о предметах, по моему мнению, вообще справедливых, и когда он был у гувернёра, сердце тоже было совершенно спокойно, хотя довольно с любопытством ожидал, что будет, и почти уверился, [116] что не согласится гувернёр, и это было мне неприятно. Он воротился. — «Так пусть он пожалует сюда завтра». — «Когда?» — «В два часа». — Я хотел уйти, поблагодаривши, но он оставил пить чай. Я был совершенно хладнокровен, совершенно, как только могу быть, и ни радости, ничего не было, решительно как бы этого не случилось, а я только думаю об этом, и то ещё думаю, не разгорячаясь мыслью. Я несколько раз сказал раньше Воронину, что это мне весьма приятно. Когда он подходил к своей комнате, я перекрестился, кажется, так, по «авось, это так и следует перекреститься», чем по непоколебимому убеждению. Раньше я думал, что если должен буду давать теперь сам Ворониным уроки, то это я уже могу взять себе. Ныне, идя из университета, решил, что нет. Оттуда к В. П., хотя должен был прийти туда в 9 часов. Они пили чай и мне не удалось взглянуть хорошенько на Над. Ег.
Я всего более, идя к нему, да и раньше, думая об этом, затруднялся, как В. П. примет это, и что не захочет. Сидел совершенно хладнокровно. Над. Ег., кажется, мой приход был неприятен. «Вы проводите меня?» сказал я (если б не хотел, мог бы у ворот); он сказал: «Пойдёмте»,— верно потому, что уж ждал чего-нибудь в том роде, как я ему должен был сказать. Вышли. Я без всякого замешательства сказал: «Воронин предлагает мне снова давать уроки, но как я не могу, то сказал — скажу вам, и вы пожалуйте туда в два часа». Он не показал внешним образом никакого удивления, как бы это совершенно так. Я продолжал: «Он спросил, кто же это? — я сказал: тот молодой человек, которого вы видели со мною у Устрялова, он кончил курс в Харьковском университете». — «Зачем вы это сказали? Просто сказали бы, что был в Харьковском университете» (не годилось мне так сказать, может быть, это расстроило бы дело). Он проводил меня до моста, после я его до квартиры; говорили о том, где Воронина дом, о том, чему учить: алгебра и геометрия его пугают. Я говорю: «Вздор; если хотите, будем приготовляться вместе». Он против последнего ничего, против первого говорил, но ничего, согласился, что ничего, но сказал: «А вы?» Я сказал весьма спокойно и обыкновенным своим, несколько ироническим, тоном: «Я не мог, что же, нужно мне было сказать о Корелкине, а не о вас? Если вы не согласитесь, конечно, я скажу о Корелкине». — «Нет, в таком случае, конечно, раньше Корелкина уж буду я».
Таким образом, чего мы боимся, того не бывает: я боялся препятствий от него, их не было. Его должно быть хорошо настроили прежние мои, не без намерения говоренные слова о том, что я думаю, не бросить ли уроки у Ворониных, потому что слишком много времени тратится, о том, что едва ли мы не разойдёмся, потому что я, кажется, нехорошо себя у них поставил. Когда он был у нас, сказал, что Залеман слишком хорошо обо мне отзывается: «Это, говорит, человек необыкновенно скромный, он знает более всех наших профессоров, но не хочет этого показать». — Вот уж в чём не виноват! [117]
Когда я шёл от него, расположение духа было совершенно как бы ничего не было, решительно пустое расположение духа, даже и не пелось и не думалось хорошенько об этом поступке, никакого довольства и радости на сердце, хотя в уме есть несколько, но и то слабо. Дорогою своротил два лещадных камня с крыльчиков у лавки, выходящей на улицу по линии у казарм и по проспекту. Пришёл домой ничего, читал и несколько спал, потому что ноги устали страшно и несколько ломило и теперь несколько ломит под коленями, т. е. верхнюю часть икры.
Итак, решительно ничего, как бы ничего не было; довольство в уме есть некоторое, в сердце никакого. Купил Фукидида — 90 коп. сер., 10 коп. сер. сургуч и 10 за повестку.
14 сентября, 10 ч. 40 м. — Весь день решительно ничего не делал, только почитал несколько Гизо. Утром писал письмо, где ничего; после несколько читал Гизо; в 1½ пошёл в канцелярию обер-полицмейстера, там узнал, что должен раньше справиться во второй части, куда перешла бумага. Когда пришёл, был уже Ал. Фёд., который обедал и просидел до 6 часов, говорили о всём. — Он сказал, когда говорил, чтобы мне быть завтра у него. «Мне некогда», сказал я, когда тоже жаловался, что я мало сижу у него. «Я знаю, да меня не то огорчает, а то, что вы у других просиживаете по 5 часов, [а] когда у меня, дорожите каждой минутой». Взял «Débats», обещая взять новых.
Когда он ушёл, я пошёл тотчас к В. П., который был утром здесь, когда шёл к Ворониным (при уходе его я перекрестил его вслед). Он сказал, что просили завтра, потому что отца не было дома. День ныне был веселее других,— может быть, оттого, что услужил или во всяком случае хотел услужить Вас. Петр. Однако, как и всегда, находил, что поступаю глупо: во-первых, не следовало так говорить Ал. Степановичу, как я сказал: «Это мне доставит весьма большое удовольствие». — Но тогда, может быть, он и не согласился бы уговаривать гувернёра, который, кажется, был против этого. Во-вторых, следовало сделать не так, а когда сказал Воронин, чтобы я пришёл, сказать Вас. Петр.: «Я не могу; если вы хотите, я скажу про вас, если нет — про Корелкина». Но ведь я хорошо не знал, что именно затем, чтобы возобновить уроки, говорил он.
В Над. Ег. мне показалось ныне разительное сходство с сестрою, Александрою Ег.; это если смотреть прямо и немного сверху, т. е. когда она нагнет голову. Не знаю, я начинаю думать и несколько бояться при этом, не соглашусь ли я вполне с Вас. Петр. в мнении о ней, наконец. Ведь, напр., он гораздо лучше меня определил Воронина, сказавши, что это ужасный человек, как он назвал старшего Залемана, и вообще он лучше замечает и его более мучают пошлость и глупость других, чем меня. Он, кажется, понимает, что я лгу, что сам не могу у Ворониных давать уроки. Над. Егоровне я скучен, это видно,— и это мало огорчает меня, хотя, конечно, неприятно,— она зевает, да и вообще как-то видно. [118]
Ложусь читать «Современник», который принёс Вас. Петр.
Да, ругал себя вчера и ныне, как это не отдал до сих пор 3 руб. сер. Василию Петровичу: взял с собою, да снова позабыл.
15 сентября. — Читал вчера и третьего дня «Современник» сентябрьскую книжку. «Том Джонс» хорош; Петушков[119] навёл на чрезвычайно грустные мнения о прогрессе и о достоинстве нового нашего поколения в литературе, особенно если сравнивать с выписками из Москвы Загоскина[120] — последние можно читать без неудовольствия, между тем как первый и ещё Чумбуров (в Смеси)[121] есть жалчайшая пародия на «Мёртвые души», до того гадкая и отвратительная, что нет мочи, внушает омерзение.
Утром сходил в почтамт, купил бумаги две дести на 70 коп. сер., которая гладка. В университете лекция Никитенки понравилась довольно, Фишерова тоже. Сказали, чтоб я сказал Срезневскому, чтоб он не читал так скоро и оставил бы своё намерение спрашивать нас переводить. Я совершенно согласен и даже хочу в пятницу или субботу сказать, чтоб поддержали меня, когда я буду говорить и за первый курс, чтоб он бросил там спрашивать лекции. Воротился, принёс письмо из Аткарска с 10 р. сер.[122] Любиньке, которые, думал раньше, присланы мне.
Читал Беккера о религиозной стороне царствования Людовика XIV, Порт Рояле и проч. довольно с большим интересом, как раньше читывал. После пришёл Ал. Фёд., ушёл к нему, взял газеты 28 августа—9 сентября, теперь просмотрел несколько и решительно против Кавеньяка: как это suspendre[123] «Constitutionnel»![124] — Выписанное в «Débats» решение его издателей мне чрезвычайно понравилось: «Мы будем продолжать, но сделали свои распоряжения, чтобы если запретят, то мы кончим выдавать и не станем издавать под новым названием, а пригласим всех взять следуемые им ещё по расчёту подписные деньги».
В. П. не был, я ходил к нему, на дороге вспомнил, что должно быть в театре, как вчера сказал, но всё-таки дошёл и увидел, что в самом деле нет дома. Так как всё читал, то некогда волноваться; это всё-таки весьма, весьма занимательно, как подумаю. — 10 час. 30 мин., ложусь.
16 сентября. — Утром ходил раньше в квартал,— там ещё не отослана бумага; нехорошо, верно не успею получить свидетельство, должно попросить снова хозяина. В университете у Грефе не мог писать здесь, потому что не было чернил. Куторги не было, и я пошёл домой в час; после до 4½ читал «Débats» и сильно, кажется, увлёкся Р. Leroux в № 31 авг. После был у В. П., где просидел до 8¼, 3 с лишком часа, собственно для того, чтоб узнать, что с Ворониным, он говорил, что не видел, потому что в первый раз, раньше 6 часов, когда он должен был быть, они обедали, как ему сказали; во второй раз он ушёл гулять и просил оставить адрес. — Это нехорошо, по-моему. Он мне ныне ничего не сказал, следова[119]тельно, думаю, что примет В. П. или не хочет принять и меня,— но неделикатно, и меня раздосадовало. Завтра объяснюсь.
Мне кажется, что я согласился теперь с В. П. о Над. Ег., во всяком случае как-то ореола нет, но всё-таки нет, она не то, что Любинька или, ещё хуже, дочь нашего домовладельца. Говорила о театре, в котором она вчера была со своими хозяевами, он через них хочет в театр. Когда она ушла к своим, он сказал, что она только ныне помирилась с ним, а то была в ссоре, как было несколько дней с того дня, как она при мне читала книгу. Я сказал, что в самом деле я тогда что-то заметил, что могло её оскорбить, но что теперь я не могу вспомнить, что именно. Он сказал, что у меня есть проницательность, чего он раньше не думал, но что я часто ошибаюсь в том, чем другой может оскорбиться. Я отдал 3 руб. сер., он ничего не сказал — хорошо,— ни слова решительно. После читал «Débats».
17 сентября. — Утром читал «Débats», в 10½ пошёл поздравить Над. Ег. с ангелом. У угла казарм, когда перейдёшь железную дорогу, встретил В. П., он шёл со своей хозяйкою. — «Её,— говорит он,— нет дома, верно уж теперь в церкви, ушла к матери, чтоб взять Алекс. Ег.». — «Пойдём, зайдём в церковь». — «Хорошо», сказал он. Пошли, но её там не было. — «Пойдёмте к ним», т. е. к её родным, сказал он. Я сказал было несколько слов, но вспомнил, что мне нельзя говорить против этого, да и не было противоречия в душе, поэтому пошёл. Когда входили, встретили их, т. е. Над. Ег. и Ал. Ег., на лестнице. Я сказал: «честь имею…», она сказала просто, непринуждённо: «покорно вас благодарю», и мы пошли проводить их до канала (они шли в церковь), сами пошли по каналу в университет.
Я пропустил Фрейтага, как давно думал, чтоб поздравить вòвремя. У Устрялова Воронин, который взошёл в аудиторию вместе с Устряловым, не подходил к нам. Куторги не было, поэтому мы не виделись, и это было мне несколько странно, что так долго не объясняется это дело. Воронин, по моему понятию, не вправе отказать мне в этом, потому что я даром занимался с ним славянскими наречиями и вообще всегда показывал себя готовым помочь ему, напр., и в латыни. Пошли к Залеману, после я проводил Вас. Петр. к углу парада; после в 3 часа пришёл домой; после обеда всё читал, когда пришли хозяева и после Ал. Фёд. Бумага моя отослана, и хозяин дал номер. Мне прислано 60 руб. сер. — это головою мне приятно,— я думаю, что на одежду. Конечно, вместо того должно Вас. Петр., но должно будет дать и Терсинским? Это меня несколько занимает, что я им не плачу до этого времени, но весьма мало, и даже почти не конфузит перед ними.
Когда мы шли в университет, идя по каналу, В. П. спросил, обидчив ли я. Я ответил, что весьма в том, что считаю обидою. Когда шли по бульвару, он стал говорить, что Над. Ег. его рассердила тем, что невнимательно отвечала мне (между тем как он эту внимательность ко мне ставит, кажется, весьма высоко). Я от[120]вечал, что она сказала совершенно так, что это именно так и должно делать, а это внимание по большей части бывает нелепо, и глупо, и приторно, и он превратно в этом случае понимает вещи и не должен бы позволять ей провожать меня за двери, и проч. — Он не согласился, что мне неприятно; или он в это не верит — истинности моих слов, или чего, но только нехорошо, что я служу поводом к неудовольствию на Над. Ег. Сейчас пришла мысль, что после этого должно мне избегать видаться с нею.
18 числа сентября, у Фрейтага на лекции. — О внутренней жизни. Главная часть принадлежит Вас. Петр., а через него много думаю и о ней. После следуют мысли о человечестве, о религии, социализме и пр., особенно о Франции. Россию уважаю весьма мало и даже почти не думаю о ней.
(Сейчас Фрейтаг спросил, кто будет переводить; никого не было желающих; мне, как всегда, было несколько совестно, что я не начинаю, но я не стал, и начал Лыткин.)
Теперь постараюсь сказать несколько о моих политических мнениях.
Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление и что, конечно, это последняя форма государства. Это мнение взято у французов; но к этому присоединяется моё прежнее, старинное, коренное мнение, что нет ничего пагубнее для низшего класса и вообще для низших классов, как господство одного класса над другим; ненависть по принципу (большинство должно всегда преобладать, и меньшинство должно существовать для большинства, а не большинство для меньшинства) к аристократии всякого рода, к сущности этого рода правления, а не форме и господству его — теперь моё коренное убеждение, которое подтверждено ещё более, может быть, красноречивыми словами Луи Блана и социалистов: вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком слабым и сильным; между тем, у кого есть состояние, и у кого нет; между тем, у кого развит ум, и у кого не развит? Нет, если вы допустили борьбу между ними, конечно, слабый, неимущий, невежда станет рабом. Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимает своё назначение,— что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов. И это должна делать от души, по убеждению, и должна, конечно, знать, что её роль временная, что назначение её двоякое: во-первых, для того, чтобы в настоящем покровительствовать, быть предводительницею низшего класса, т. е. не в том смысле, чтобы пренебрегать другими, а в том, что всем должно оказывать равное решительно покровительство, но в нём нуждается более всего, несравненно более всех, низший класс и относительно налогов и судов, и отношений жизни, [121] и общественных, т. е. чтобы уважали их как можно более, не менее других сословий и не называли sieur, между тем как других называют monsieur, чтò меня также несколько бесит, и относительно всего, одним словом. Во-вторых, её обязанность состоит в том, чтобы всеми силами приготовлять и содействовать будущему равенству — не формальному, а действительному равенству — этого сословия с другими высшими классами, равенству и по развитию, и по средствам жить, и по всему,— так, чтобы поднять это сословие до высших сословий. Вот обязанности и настоящее назначение неограниченного правительства, и поэтому и я теперь приверженец этого образа правления в той форме, как я его понимаю; но, к сожалению, редко и немногие понимают это назначение и то, кажется, только по инстинкту, и эта идея ещё не вошла в число общеизвестных, хоть не общепонимаемых истин. Так действовал, например, Пётр Великий, по моему мнению. Но эта власть должна понимать, что она временная, что она средство, а не цель, и благородно и велико будет её достоинство и значение в истории, если она поймёт это и будет стремиться к развитию человечества, хотя это должно привести её уничтожение; поняв, [что] она для человечества, а не человечество для неё, и что, противясь вечному ходу вещей, действительно можно, может быть, затруднить его, но может быть, нельзя даже и замедлить: беременная женщина не может не родить, но можно облегчить и затруднить её роды, и то, что должно пасть с развитием человечества, то падёт, только падёт, сопровождаемое благословением человечества, если само сознается, что время пасть, и само передаст своему переросшему его воспитаннику имение, или падёт с кровью и проклятием, которые заставят позабывать и о заслугах его, если захочет пережить своё время. Конечно, долго ещё, мне кажется, жить должно безусловной монархии, потому что не в один век пересоздать общественные отношения и общественные понятия и привычки, и ввести равенство на земле, и ввести рай на земле[125].
Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно, но мне кажется, что противники этих господ нисколько в сущности их не понимают и обезображивают и клевещут на них, как я убедился. Это бывает и всегда, когда мы осуждаем человека за его мнение, мы осуждаем потому, что человек не может высказать в одно время, а если бы и мог высказать, то не мог бы обнять сам в одно время свои мысли во всех составляющих её элементах и отношениях и выставляет только главный элемент её, а главный элемент обыкновенно кажется, да и бывает тот, который новый, и между тем как мысль его уважает все принципы прежние, но только прибавляет к ним новый,— часто и он сам, увлеченный противоречием ей господ староверов, забывает о других элементах, кроме собственно ему принадлежащего и собственно им выставленного, а другие ещё чаще забывают об этом и хватают его мысль в совершенной её одно[122]сторонности, которая собственно никогда ей не принадлежит в действительности, а только в воображении этих господ, и пугаются ею сами, и пугают ею других.
10 час вечера. — После лекций, чего я несколько и ждал, подошёл ко мне Воронин и сказал, чего я не ожидал: «Папенька, когда я ему сказал, что вы говорили, велел мне узнать, угодно ли вам давать уроки, или нет». — «А если не угодно?» — «Я ничего не знаю». — «В таком случае стану я». — Пошёл в почтамт и там узнал, что мне 10 руб. сер., а 50 Терсинским. Очень мало впечатления это сделало, хотя я глупо и не ожидал этого. Пошёл в 6¼ к Ворониным, как условился, переговорить, и когда шёл, придумал новую причину,— что думаю, что В. П. принесёт более пользы. Там увидел, что если я откажусь, на это будет отвечено так: «О, не хочешь,— как хочешь, мы найдём и без тебя и не по твоей рекомендации», что место будет потеряно для Вас. Петр., что ещё яснее, если можно, увидел из слов гувернёра, который, когда мы говорили, вошёл и сказал: «Скажите, что мы не хотели бы, чтобы он давал уроки из милости, а может, так может, а не может, так не может». Это меня даже не взбесило, а я просто отвечал, но не таким презрительным тоном, как следовало: «Я и сам это весьма хорошо знаю, и объяснять мне это нет нужды». После, когда шёл оттуда, несколько было неудовольствия сердцем на себя, но мало: зачем так говорил, что мне это приятно? просто должен был сказать, что не могу, и кончено, а тогда, может быть, и спросили бы мнения моего о заместителе, это бы лучше всего; всегда я делаю глупо. — Папенька услышал о ссоре с профессорами и пишет,— это [сделало] мало впечатления, но хорошо то, что напомнило, что должно смотреть на то, как всякое столкновение взволнует их, а то я мало стал об этом думать и готов был на многое.
19 [сентября]. — Утром и весь день тосковал и ругал себя за глупое поведение, которое оставило без места В. П., так что давно не чувствовал такой тоски, она даже мешала несколько писать. Ходил к обер-полицмейстеру — там никого не застал. Вечером был Алекс. Фёд., принёс [«Débats»] 10—12 сентября. С 4 часов я говорил с Любинькою до 6, потому что, кажется, ей было скучно, а главное — завязался разговор, так совестно было отстать. После Ал. Ф. сидел до 9. После читал газеты и едва было не лёг спать, не записавши сюда ничего. Начал перечитывать «Мери» для разбора характера Грушницкого и прочитал 4 листа. Списал польские гимны и только.
20 сентября. — Утром читал «Débats», которые дочитал, и «Мери»; после пошёл в университет. У Устрялова не было Вас. Петр.; я решился отдать деньги ему и поэтому разменял, чтобы за вычетом 3 руб. сер. Ал. Фед-чу 7 руб. сер. отдать ему. Когда его не будет, должно будет идти к нему. Срезневский читал с большим жаром и резкостью, и мне понравилась его живость и одушевление. Залеман сказал, что придёт поговорить что-то об его лекциях, чтоб я ему объяснил; поэтому, когда я [123] пошёл к Вас. Петр., имел намерение тотчас воротиться. Над. Ег. дома не застал. Он писал что-то или переводил из Гёте, мне не показал и не сказал, что. Я ему помешал, и поэтому он меня, кажется, не удерживал сильно. Ив. Вас. пришёл вчера к нему и принёс от себя же письмо, в котором просит достать «Обыкновенную историю»: славная манера и весьма остро. — Теперь я жду Залемана. На похороны не пойду, вероятно, хотя, может быть, и буду об этом жалеть.
В. П-чу сказал только, что Воронин сказал, что отцу хотелось непременно, чтоб был учитель из университета. Он при этом не выказал никакого удивления, потому что этого ждал, и сказал: «Вы порекомендуйте Тушева». Я сказал: «Да, конечно, он, к счастью, теперь приехал». Он не думал, что я его обманывал. Жаль, очень жаль, что я тогда не решился порисковать решительно и не сказал решительно, что я не могу учить у них. Тогда Воронин верно спросил бы моего совета, кого пригласить; тогда можно было сделать ни себе, ни ему, но зато — если не ему, то уж и не себе, не быть пустым человеком в своих глазах.
Корелкин после лекции долго стоял с Срезневским; о чём говорил, я ещё не знаю. Думаю, должно серьёзно заняться сначала сочинением Никитенке, после лекциями для Срезневского, после словарем Нестора и летописей.
21 [сентября]. — Утром писал письма, между прочим папеньке по-латыни, что ничего не было между мною и профессорами. Понёс с намерением после быть у Никитенки, после пойти в канцелярию обер-полицмейстера, где должно было быть, сказали мне, в 2 часа. Дошёл в почтамт, увидел, что потерял двугривенный, и у меня денег не оставалось, по отдаче 3 руб. сер. Ал. Фёд., на 90 коп. лист, и я решил воротиться домой, взять деньги и от обер-полицмейстера [идти] к Вольфу. Так и сделал. Бумага отправлена в инспекторский департамент военного министерства, по глупости чиновников. Я не дожидался справки и ушёл, как увидел это, когда раскрывали книгу для того, чтоб справиться для другого. У Вольфа просидел более часу; «Отеч. записки», которые попались, почти не читал; во Франции Кавеньяк принужден, говорят, сблизиться с демократами или падёт — хорошо; Сенар выйдет, и вместо него будет Марра или даже Флокон,— и это хорошо, и выбрали Распайля,— и это хорошо. После обеда читал Гизо; пришёл Вас. Петр. и сели играть в преферанс. После Н. П. Корелкин, который рассказывал о похоронах И. Я. Соколова, на которые я не пошёл, между тем как другие почти все были. Вас. Петр. посидел 2½ часа; после я пошёл проводить Н. П. и зайти к Олимпу попросить, нет ли кого в канцелярии обер-полицмейстера, чтоб повели дело как должно.
Деньги, верно, должен буду заплатить. Весь день ничего не писал. — 11 час. с половиной.
Да, вчера ведь, после того, как я писал, пришёл Залеман [124] и просидел до 9½, 2½ часа, и тут я убедился, что глупые действительно глупы, т. е. не понимают вещей, как должно. Он чрезвычайно смешно подмечал непоследовательности у Срезневского, между тем как ничего не бывало, и весьма хорошо сказал, что если есть что у Куторги хорошего, то это его система (где он её видел, бог знает), и тон, которым говорит, чрезвычайно уморителен. — Читаю я Гизо первый том и теперь ложусь читать 7 лекцию, о германском элементе; мне хотелось прочитать предыдущие лекции Ив. Гр., и я читал некоторые отрывки об управлении церкви и споре о бестелесности души.
22 [сентября]. — Утром был у Олимпа; не сказал, однако, ему, а хотел раньше узнать номер, теперь, думаю, не нужно; скажу завтра утром, чтоб не показать, что был у него только за этим. В университете ничего особенного. После пошёл в 6½ к Вас. Петр., у которого до 9. После читал Гизо и говорил с Ив. Гр. У них играли в карты, говорили мало и без большой важности. День спокойный, хотя не совершенно, потому что несколько досадно, что должно будет вместо Вас. Петр. отдать деньги в университет.
23 сентября, у Грефе на лекции. — Заходил к Олимпу, но не застал его — родилось подозрение не…[126] ли у него была. Так как оставалось ещё ¾ часа, то зашёл к Вольфу; там читал, только ничего не понял почти о событиях берлинских и франкфуртских, потому что не знал предыдущего: что это за Frebel, какое возмущение было во Франкфурте[127], почему теперь было. Во Франции Распайль, выбранный в представители, удержан в Венсенской тюрьме. Мне кажется, что должно было бы, после того как он выбран, Собранию велеть его выпустить, и после уже генерал-прокурору требовать autorisation des poursuites[128] против него, и тогда Собрание разрешило бы или нет. Из Journal de St.-Petersbourg[129] узнал, что Распайль выбран 66 тысячами, Кабе и другой кто-то 64 тысячами, и из этого видно, что социалисты организованы и подают голоса на одних кандидатов, действуют единодушно, как действовали монтаньяры; там сказано, что часть народа la plus éclairée, qui demandait ou à qui était promis droit du travail[130] их выбрала,— итак, весь лучший класс, кроме буржуазии, социалисты,— хорошо. И по выборам ясно, что не они выбирали Луи Наполеона, а собственно чернь, которая ничего не знает, кроме пустых имен.
Сейчас Грефе спросил — что значит δσια[131] в 52-й главе Фукидида; я сказал, когда другой сказал, что это profana[132]; он отвечал: hoc non minus absurdum est[133], и некоторые засмеялись добродушно, посмотрев на меня; не знаю, так ли я сказал; [125] кажется, что и в самом деле ошибся, однако, это никакого впечатления на меня не произвело.
Когда шёл от Вольфа, догнал на дороге Маркова и Райковского; говорили довольно с радушием со мною, а Райковский сказал, что одно дурно между моими добродетелями, что я позволял попечителю. В университете Воронин сказал, чтобы я был у них в 6 часов завтра. Ныне я жду к себе Раева и — едва ли, однако, придёт — В. П. Дома писал и написал 3/2 страницы Срезневского — о Радогасте и Святовиде. Снова писал с охотою.
Переводит теперь Орлов и как нерешительно, так и с остановками, то Грефе иногда говорит очень громко. У Тушева не было книги, и я подал ему свой листик.
Читаю я последние дни только Гизо, и иногда мне начинает казаться, что, может быть, некоторые мысли и не решительно вполне опираются на фактах, а иногда и a priori образованы, и после этого множество фактов, в которых выражаются эти идеи, подмечены, а другие, в которых выражаются не эти идеи, пропущены Гизо. Но это мнение моё весьма слабо и почти не имеет никакого основания по моему мнению.
Ныне утром, когда я лежал ещё, вздумалось мне, по какой кафедре держать на магистра? Может быть, кроме славянского и истории, я буду колебаться между философиею и русской словесностью,— эти последние, особенно философия, пришли мне ныне с давнего времени в первый раз на мысль.
Когда я разменивал 10 руб. сер. в лавочке (на Гороховой где-то), стояла у прилавка и покупала кофе какая-то девушка около 15—17 лет, маленького роста, с толстым лицом, кожа вся в подкожных крупинках, поэтому мне показалось, что она, должно быть, не из хорошего дома. Когда мне сдали, я оставил было, как обыкновенно в рассеянности, двугривенный. Она без всякой ложной интонации подала мне его, сказавши: «Вы позабыли». Я сказал: «Покорно благодарю». Это доказывает, что в каждом человеке, напр., и в ней, гораздо более хорошего и честного, чем сам человек думает и чем другой видит в нём.
К нынешней лекции я приготовился и наверно каждый раз буду приготовляться.
Теперь у меня нет денег, а между тем одежда начинает изнашиваться, а главное — грозит ненастье, а у меня одни сапоги, и к тем нет калош, и мне как-то не то что страшно, а немного неприятно думать о том, что скоро понадобится всё это, а я не думаю, чтоб мне скоро сделать это всё, тем более, что мне хотелось бы всё, что можно, передавать Вас. Петр., и теперь я несколько понимаю, что должны чувствовать бедные при приближении зимы, и т. п.
Как чернильницы кругом не было, то я попросил Лыткина поставить свою чернильницу назад, и это писано из неё.
В. П., бывши у нас третьего дня, сказал мне, что я грубиян, за то, что я называю Терсинского отсталым в глаза. В самом деле, ему кажется, что это может быть оскорбительно. Я на это [126] не согласен, но сам давно вижу, что вообще слишком резок в своих выражениях и легко могу оскорбить того, с кем говорю, если не уважаю его, а уважаю я немногих, а если безразличен к нему, то легко могу оскорбить.
Если писать откровенно о том, что я думаю о себе,— не знаю, ведь это странно,— мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперёд человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, доказывают для меня, у которого утвердилось мнение, заимствованное из «Отеч. записок» (я вычитал его в статьях о Державине[134]), что только жизнь народа, степень его развития определяет значение поэта для человечества, и если народ ещё не достиг мирового, общечеловеческого значения, не будет в нём и писателей, которые должны быть общечеловеческими, имели бы общечеловеческое достоинство. Итак, Лермонтов и Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше её Франция, Германия, Англия, Италия.
Я думаю, что нахожу в себе некоторые новые начала, которые не нахожу ясно и развито и сознательно выраженными в теперешней науке и теперешнем взгляде на мир и которые теперь, конечно, весьма неясны, или не то, что не ясны, а главное — которые ещё не получили твёрдости, общеприменимости, которые в своих приложениях ещё не твёрды, а часто управляются минутною прочитанною мыслью и новым узнанным фактом. Должен сказать, что такое мнение о себе утвердилось во мне с того времени, как я почел себя изобретателем машины для произведения вечного непрерывного движения, и только несколько переменилось в объёме (тогда я считал себя одним из величайших орудий бога для сотворения блага человечеству, а теперь нужды нет, я не заспорю, хоть был бы равен Гизо или Гегелю или чему-нибудь подобному) и в предмете.
Да, о машине: я не могу сказать, чтобы я убедился, что это невозможно; мне, напротив, кажется противное, но только как недостаёт средств начать исследования на деле, то я и сижу и молчу, и поэтому мои мысли затеснены в глубь души, на мои ежедневные чувствования и действия не производят никакого влияния. Может быть, они действуют зато вообще, на всё направление моё в целости, но и этого я не могу сказать по фактам, а только a priori предполагать. Но если б я получил 20 000 руб. сер., я тотчас принялся бы за пробы: мне кажется во всяком случае так, и решительно увлёкся бы.
Итак, должно сказать, что я довольно твёрдо считаю себя человеком не совершенно дюжинным, а в душе которого есть семена, [127] которые если разовьются, то могут несколько двинуть вперёд человечество в деле воззрения на жизнь. И если я хочу думать о себе честно, то, конечно, я не придаю себе бог знает какого величия, но просто считаю себя одним из таких людей, как, напр., Грим, Гизо и проч. или Гумбольдты; но если спросить моё самолюбие, то я может отвечу себе: бог знает, может быть, из меня и выйдет что-нибудь вроде Гегеля или Платона, или Коперника, одним словом, человека, который придаёт решительно новое направление, которое никогда не погибнет; который один откроет столько, что нужны сотни талантов или гениев, чтоб идеи, выраженные этим великим человеком, переложить на всё, к чему могут быть они приложены, в котором выражается цивилизация нескольких предшествующих веков, как огромная посылка, из которой он извлекает умозаключение, которое задаст работы целым векам, составит начало нового направления человечества.
Однако, должно сказать, что меня эти мысли теперь мало волнуют, потому что жизнь моя поглощена или ничтожностью, или praeoccupata est[135] мыслью и заботами житейскими, главным образом, заботами о Вас. Петр., и вообще у меня теперь довольно давно уже нет ничего лихорадочного в этих мыслях, что бы заставляло меня действовать неутомимо, так, чтобы горела голова и глаза, и я пожирал всё, что попадается в мои руки, чтобы переварить это и извлечь из этого новое; напротив, по этому отношению моя жизнь течёт в болоте, и даже мелкие планы и надежды, напр., сблизиться с Никитенкою или попасть в журнал, или написать словарь к летописям, по крайней мере, к самым главным, и т. п., более меня занимают и по времени и по интенсивности.
Но если я спрошу свои сомнения, которым, я не знаю, более или менее верю, чем своим надеждам, то я предполагаю, что всё это вздор, что ведь так думают о себе все почти люди; но мне кажется, что те думают об этом так, что сами эти думы ручаются за пустоту их, т. е. думают глупым образом, а что, напротив, я думаю об этом не как тупая голова, а как фантазёр, которого фантазии доказывают его ум. Эти сомнения теперь (т. е., по крайней мере, с нового года) также не мучают меня, даже почти нельзя сказать, чтоб делали мне сильное неудовольствие; конечно, лучше быть хорошим человеком, чем дурным, т. е. ничего не стоящим для человечества и даром живущим на свете, но, однако, всё равно почти, потому что я в сущности теперь о всём мало думаю, а поэтому и думы мои не интенсивны.
11¼ — Когда пришёл из университета, читал, пока пришёл Славинский, которого я звал. Принёс три номера «СПБ ведомостей»[136] и мы говорили более о политике; взял первый том «Цивилизации во Франции», принёс «Революцию в Англии», I том. — Я понял, что в самом деле одни люди умнее других, напр., он Залемана и Ал. Фёд. — Вас. Петр. не был; Ал. Ф. пришёл и принёс [128] газеты 13—18 сентября; теперь я их прочитал бегло, ложусь. Славинский сидел часа два. Деньги забыл отдать Ал. Ф. У Олимпа хотел быть вечером, да как-то так устроилось, что решился не идти, отчасти потому, что какая-то лень, отчасти потому, что думаю, что всё равно теперь уже было бы поздно,— он уедет в Гатчину, ничего не успевши сделать.
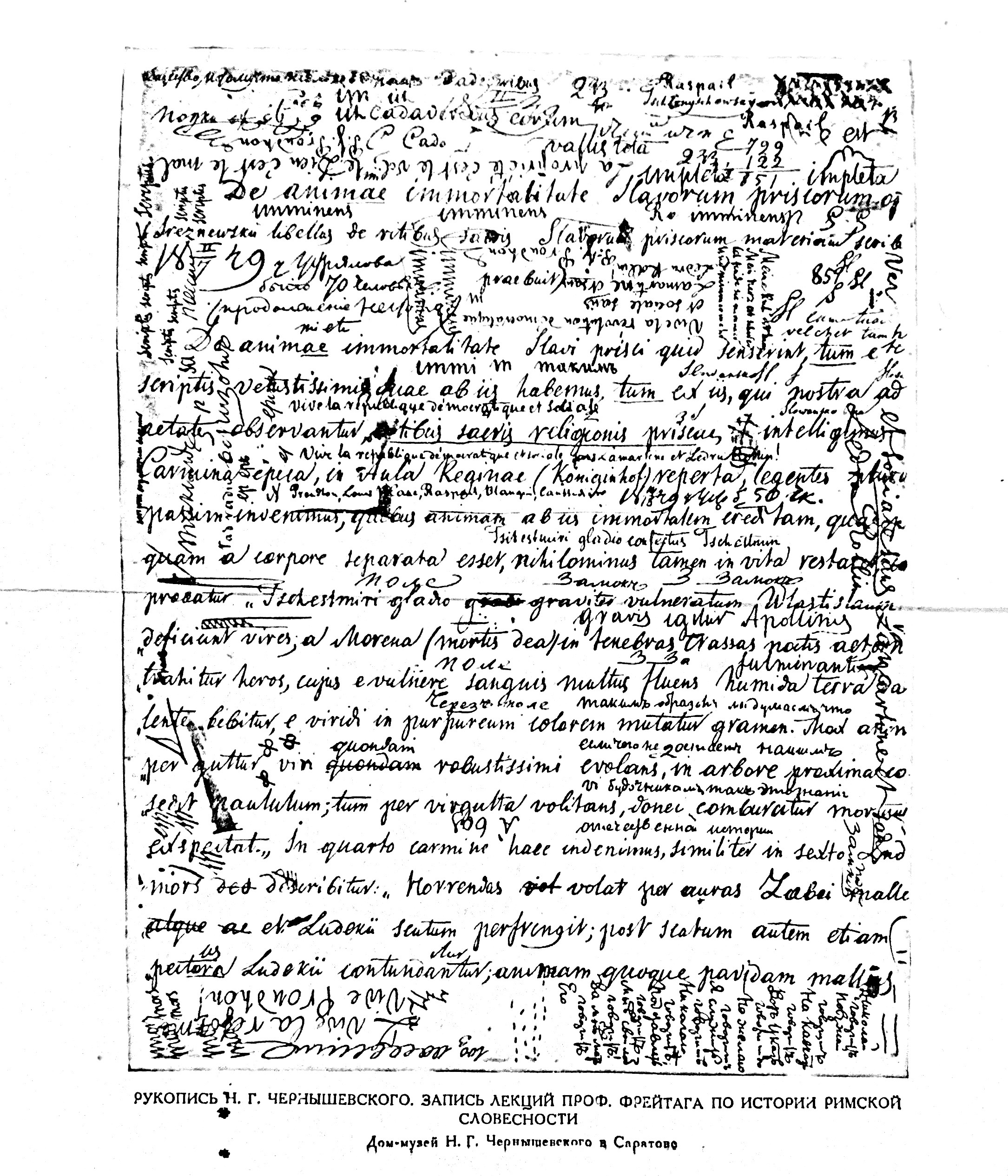
24 сентября. — Утром принесли мне повестку из квартала; пошёл туда: пришла из канцелярии бумага, и мне там сказали, чтобы я написал, кто мой отец, они удостоверят сами без всяких подписей в несостоятельности. Я когда туда шёл, спросил у дворника, откуда приходил солдат — из части или квартала; он, отвечая на это, сказал, что Федот Матв. велел сказать ему, как буду в квартале, и сказал, что тогда он сам этим займётся. Теперь, может быть, успею получить [свидетельство о несостоятельности] и не заплатить денег.
Славинскому отнёс газеты русские, французских несколько принесу завтра.
Должен я сказать, что третьего дня вечером прочитал у Гизо, когда он говорит о законах германцев и опровергает взгляд немцев на их древнее устройство как на образец государственного устройства, прочитал мысли, которые ясным довольно образом начинались у меня тогда, когда прочитал в апреле, кажется, в «Débats» о Франции, что вот два месяца, как народ сам собою управляет без всякого правительства; но теперь, после Гизо, это приняло решительную ясность и вполне перешло в убеждение.
Вот история народа: сначала все свободны, но нет общества, это замечают и ищут средства выйти из этого состояния; зло само в себе носит противоядия против себя, и являются два противоядия естественным образом — [1] неравенство между лицами развивается, является аристократия, 2) является власть — так является общество. По одному тому уже, что люди живут в обществе, они развиваются под множеством влияний и столкновений, и, развившись, замечают, что власть и неравенство слишком много отнимают свободы и равенства, что общество могло бы существовать, не стоя так дорого частным volontés[137] — и начинается стремление, противоположное тому, которое было раньше: раньше развивались власть и неравенство, теперь стремление diminuer[138] их — конечно, это цель общества, оно стремится к тому, чтобы, наконец, каждый мог делать всё, что хочет, если только с этим может существовать общество; только, говорит он, позабывают, что хотя первое и последнее состояние общества сходно, несходны нисколько лица, составляющие единственные êtres réels[139] там они делают, что хотят, и нет общества, здесь общество есть, и они до того развились, volonté их reglée[140], что хотя они могут делать всё,— не делают [129] ничего, что могло бы разрушить общество (т. е. я здесь несколько изменяю в конце мысль Гизо и говорю о последнем состоянии или, может быть, утончённом состоянии общества, между тем как он говорит только о стремлении). Я так и думал, что чем больше будет развиваться, тем меньше нужно будет стеснять его, тем меньше нужно будет власти общественной для того, чтобы порядок не был нарушен, и благо целого не было вредимо частными волями.
Как удивительно мелочен, какой педант, т. е. глупый человек, Фрейтаг: теперь переводим 10 главу Светония, и он велит слово Бибула переводить на прямую речь, как делает всегда — и как ему это не скучно!
Я хотел поступить кандидатом на педагогические лекции к Куторге и говорил об этом про себя Воронину и так, мимоходом, Лыткину; вчера выбирали новых кандидатов, и я не знал об этом ничего, и меня не выбрали; я хотел это для того, чтобы через Куторгу со временем получить что-нибудь, но это теперь мне не вышло, и я мало об этом думаю, потому что думаю (хоть думаю, что это не удастся во-время сделать, как обыкновенно всё, что предполагаю), что во время, когда ещё буду в университете, смогу написать и напечатать в каком-нибудь журнале историческую статью, которой бы обратил на себя внимание, и поэтому ничего не потеряю, что не буду идти обыкновенною детскою дорогою, как Ведров и Захаров. Однако, кроме этого, я думаю ещё и о том, что, может быть, будет случай сблизиться с Куторгою, вроде того, как замечание о Прудоне или что-нибудь такое; кроме этого думаю о Никитенке.
Тушев ныне подошёл ко мне и весьма дружелюбно, как я ему обыкновенно, так он мне, подал руку. Поэтому сомнения мои относительно того, что меня считают подлецом в университете, возбуждённые переданными через Залемана Вас. Петровичу словами Лыткина о моих отношениях к Срезневскому, может быть, несправедливы; однако, я остаюсь при прежнем мнении, что хоть меня не чуждаются, но, однако, всё-таки считают это нехорошим. Не знаю, хорошо ли я сделал, что не пишу на медаль,— теперь шутя скажут, что мог бы и писать, и ничего бы не сказали против того, если бы я получил медаль, а если бы написал и получил, шутя бы восстали против этого и сказали бы, что это приобретено подлостями и угодливостью и тем, что Срезневский рассказал мне всё, что нужно для того, чтобы писать. Корелкин, может быть, и не совершенно от души, говорит мне всегда, чтобы я писал,— нет, отчасти от души, может быть, и совершенно от души, вот что значит, что человек ещё молод — всё-таки не всегда смотрит на свой интерес или, по крайней мере, не всегда видит, что противно его интересу.
Ныне уходя сказал, что, может быть, не ворочусь к обеду и чтобы меня не дожидались: это с две недели как я думаю, что так как ходить домой слишком далеко, то может, когда я буду [130] бывать у Ворониных, время между окончанием лекций и тем, когда должен идти туда, я буду проводить у Вольфа. Не знаю, едва ли это будет исполняться в действительности, но сначала это доставляло мне удовольствие, но теперь, когда я рассудил, что решительно хорошо читать там нельзя, что «Débats» я имею от Ал. Фёд., что, если я отстаю неделею, это ничего, потому что я не подвержен неудовольствию выставлять, что я не знаю, о чём говорят другие, и что в университете по политике ничего уже не говорят,— не так, как около начала марта, когда об этом говорили, что особенно поддерживалось тем моряком, который ходил к Куторге.
Что у меня вчера был Славинский — это хорошо, и мне понравилась его внимательность, и мне кажется, что прежние отношения, решительно дружелюбные, теперь восстановились, да, может быть, и не прерывались, а только мне так казалось по делу Срезневского и потому, что я вообще в университете говорю резко о профессорах, говорю несколько похабным языком, поэтому, бог знает, может быть, он и в самом деле по своему смирному характеру не имел такого интереса сближаться со мною.
Перед лекцией Фрейтага Залеману говорит Галлер о profana-δσια, что было мною переведено вчера. После окончания лекции он ведь вчера сказал Грефе, что можно переводить profana. Я Залеману привёл пример, как один, которому было сказано Грефе absurdum, вышел из аудитории и Грефе у него на другой день просил извинения.
Вечером шёл из университета и думал — к Вольфу или домой идти. Пошёл домой, особенно потому, что не знал ещё, буду ли у Воронина: так мне гадко показалось идти в тёплой шинели, которая связывает ноги и которую должно поддерживать, по дождю. Что у меня нет калош, между тем, как уже грязь,— это наполняло довольно сильным и постоянным неудовольствием меня. Пришёл домой, совершенно нечаянно попались под глаза калоши старые; я примерил — о чудо! надеваются! Это меня утешило. Повестки ещё нет, нет и письма. — Пошёл в холодной шинели к Ворониным, к Алексею,— он не просит садиться, думая, что я на одну минуту. Я постоял несколько времени и, как самому никак не хотелось первому заговорить, то сказал: «Прощайте».— Он сказал: «Что, вы идёте к ним?» — «А я этого и не знал». Сел; ныне был первый урок, только ещё теперь три Константину в неделю, но я мало о том думаю, что мало; во-первых, потому что думаю, что прибавится, во-вторых, потому что теперь мало забочусь об этом. Когда шёл оттуда, почувствовал у Садовой усталость, которая, по рынку идя, усилилась весьма. Пришедши домой, лёг читать и уснул. Теперь 10 час. с 20 мин., я ложусь и скоро, должно быть, усну. Что возобновились уроки, не сделало почти никакого впечатления, как я это думал раньше; а сидел за уроком я — как бы вчера же был у них.
25 [сентября]. — Снова у Фрейтага на лекции. Писал Корел[131]кин — и хуже Залемана, переводит Галлер. — Я, уставши от вчерашней ходьбы, уснул так крепко тотчас как лёг, что проснулся, когда было уже четверть 9-го. Тотчас пошёл посмотреть, готов ли самовар,— нет. Я стал одеваться, решив, что не буду пить чаю и поем чёрного хлеба; пока одевался, самовар почти поспел и я думал, чтоб избежать после удивления и расстройства, почему не пил, наложить чаю, после идти, чтоб думали, что я пил; но ушёл так, и только когда выходил, Марья догнала и сказала, что готово; я сказал, что некогда, и ушёл. Взял 3 номера (13 — 15 сентября) «Débats» для Славинского и отдал ему, потому что встретился с ним на дороге.
Напишу что-нибудь о моих религиозных убеждениях. Я должен сказать, что я, в сущности, решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т. е. как это веруют православные в то, что он был бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, вообще, во всё это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., Р. Leroux и проч., только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы, и Паскаль, и все; что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и её отношения к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды, и что христианство только может приобрести от их усилий, хотя, может быть (я этого не могу сказать, верно ли, потому что сам не читал их, а обвинениям, что они враги христианства вообще, я не верю нисколько, как, напр., и обвинениям против Прудона и тем более Луи Блана), они и смешивают временную, устарелую форму с сущностью. Мне кажется, что главная мысль христианства есть любовь и что эта идея вечная и что теперь далеко ещё не вполне поняли и развили и приложили её в теории даже к частным наукам и вопросам, а не то, что в практике,— в практике, конечно, усовершенствование в этом, как и [во] всех отношениях, бесконечно, а через это бесконечное усовершенствование и в теории, потому что теория, совершенствуясь, совершенствует практику, и наоборот.
Что касается до другого, по моему мнению, коренного догмата христианства — помощи божьей, сверхъестественного освящения, что и составляет собственно то, что есть сверхъестественного в христианской религии (хотя, однако, и догмат любви, и «ты должен не делать другому того, чего не хочешь, чтобы он делал тебе», в котором я решительно убеждён, также, по моему мнению, не мог быть провозглашён Иисусом Христом в такой ясности, в такой силе, не мог быть положен так ясно им в основание своего учения об обязанностях человека, если бы он был просто естественный че[132]ловек, потому что и теперь ещё, через 1850 лет, нам трудно ещё понять его и особенно трудно убедиться в том, чтоб человечество могло быть устроено по этому закону, а не [по] закону хитрости и своекорыстия, и особенно трудно нам убедиться в том, что можно жить и действовать в своей частной, личной жизни по этому началу истины, правды, добра, любви,— всё это показывает такую зрелость и величие и вместе такое отсутствие всякой мечтательности, от которой не может удержаться естественный человек, одарённый такими благородными убеждениями, что нельзя не видеть в человеке, который так говорит, человека неестественного); так, что касается до этого догмата благодати, освящающей человека, я решительно нисколько не отвергаю его и готов даже по теории защищать его, но сам по опыту я не убеждён в этом так твёрдо, как в других вещах, т. е. я говорю по внутреннему опыту, по которому знаю, напр., господство и достоинство и божественное назначение любви и ценю ближнего наравне с собою. Итак, об этом втором догмате я ничего хорошо не знаю, т. е. ничего определённого, точного,— что это такое, как это бывает, должно ли это понимать в сверхъестественном смысле, в каком понимают его наши богословы, или это что-нибудь более обыкновенное и естественное, т. е. не такое отчуждённое от остальных явлений в жизни человека и не имеющее аналогии в других сферах человеческой внутренней деятельности, кроме этой нравственной области. И поэтому, не имея об этом никакого опыта,— по крайней мере, не имея знания о таких действиях ни во мне самом, ни в других людях, я мало об этом думаю, как это обыкновенно бывает, что что мало связано с жизнью остальною, то плохо клеится в наших мыслях и мало имеет влияния на нашу внутреннюю и внешнюю жизнь (Гёте, записки о своей жизни, о причащения таинстве); но по теории я скорее убеждён в этом, чем сомневаюсь, и иногда даже замечаю за собою поступки, которые объясняются только верованием в сверхъестественную помощь божества.
Когда шёл домой, сделалась довольно сильная тяжесть в желудке, так что было весьма нехорошо, поэтому пришёл и тотчас же должен был бежать куда следует. Любинька в эту минуту по обыкновению стала говорить шутливым тоном: «Я должна тебя выбранить», и я прервал её довольно нехорошо, сказал: «Матушка, нельзя было, я проспал»,— и ушёл. Теперь несколько недоволен тем, что в самом деле моё сожительство с ними или лучше теснота квартиры мешает заниматься, так [что] проходит время. Теперь, придя домой в 1⅓ (потому что Срезневского не было), я до сих пор ничего не сделал, кроме того, что прочитал три последние номера «Débats» и страниц 30 «Истории Английской революции», да написал Русвита Срезневского. В самом деле, время проходит так и этому должно как-нибудь помочь. Сходить не знаю как, огорчит и наших, и их, и как-то неловко, что мало заплатил, т. е. ничего не заплатил, и не хочется начинать говорить об этом. — 11 часов. [133]
26 [сентября], воскресенье. — Хотел делать дело и ничего не сделал. Хотел быть у В. П. и не был. Дела не делал утром потому, что было лень, т. е. собственно хотелось делать не дело, а читать Гизо «Английскую революцию», это так, но глупость вместо этого дала читать путешествие Греча[141], которое принёс Ив. Гр., и я пробежал всё до обеда; после обеда пришёл Пелопидов и принёс письмо от Промптова,— пишу ему верно в субботу, может быть, и после завтра; вместе спрашиваю его о том, как писать Палимпсестову. Был и Ал. Ф. Когда сидел Пелопидов, я ужинал; скука мне казалось ещё более с ним, чем с Ал. Ф., и в самом деле скучал. С Ал. Ф-чем скучал тоже. Денег отдать не успел, отдам завтра, когда отнесу газеты. Ал. Фёд. просидел до 9 час. После писал Срезневского и написал до конца Триглава, т. е. листик. Думал писать что-нибудь и Фрейтагу, ничего не написал. Никитенке тоже.
27 [сентября]. — Утром писал Срезневского, пришедши из университета тоже, написал места поклонения в скалах. Срезневского не было, как и в субботу. От Ворониных, у которых гувернёр показал мне ныне внимательность некоторую, пошёл к В. П., где просидел до 10 час. Над. Ег. показалась похожа на сестру, и нос по бокам показался не так, как должен был бы быть. Я думаю, это ошибка с моей стороны; думаю и то, что если так ещё много пройдёт времени, и она так станет загрубевать,— это нехорошо. С ним говорил о Гёте и проч. У него болит нога, от которой он давно довольно хромал несколько, теперь, говорит, нарывает, и что будет? что, если в больницу должно будет? что тогда? Весь день почти не думал почти от сердца, головою, конечно, о нём и о его положении. Завтра хотел быть у Никитенки. — 11¼. Желудок был несколько расстроен вчерашним пирогом с начинкою, т. е. луком. У нас был, когда меня не было, Ив. Вас.,— и хорошо что был, когда меня не было.
28 [сентября]. — Сейчас написал письмо домой и за чаем читал Гизо «Hist. de Révol. d’Angl.» середину второй книги, где говорится о том, каково было состояние умов во время деспотизма и через открытие тех последних парламентов, о религиозном состоянии и утвердилась и блеснула мысль, что всё это — бурные, идущие далее, чем пошла реформа в Германии и Швейцарии и Англии, секты родились оттого, что правительство и духовенство высшее, которые должны были бы руководить этим восстанием, этою реформою, лицемерно, нерешительно соединились с реформою, приняли её вполовину, повели и не довели, а стали удерживать на половине дороги; вот и начались эти секты, которые пошли сами sans et malgré lui[142]. Итак, это новый великий пример, утверждающий в мысли, что правительство должно идти впереди.
28 [сентября]. — Пришёл и думал переводить, но стал переводить Лыткин, а я этому был даже рад, потому что обыкновенная [134] нерешительность. Теперь осталось только 20 минут, потому что раньше чернильницы не было, и попросил Залемана переставить к себе назад. Напишу что-нибудь. Хоть о том, что думал сделать для Никитенки — сначала Грушницкого характеристику писать, теперь едва ли, не знаю, как обыкновенно; верно выйдет, что не буду писать, пока Никитенко не скажет сам что-нибудь. Утром был у хозяина, он сказал, что справится и позаботится. Утром писал письмо своим.
Напишу о Вас. Петр. что-нибудь. Мне после вчерашнего пришли в голову мысли, которые, бог знает, может быть, и утвердятся, что в самом деле она не может составить его счастья, т. е. главным образом то, что много уже прошло времени и всё ещё проходит, а он ничего не делает, кажется, ещё для её образования, потому что невозможно употреблять на это внимания, которое занято возможностью жить. Теперь мне кажется, что я не могу ему по чистой совести сказать, что считаю её существом высшего разряда, что не вижу в ней обыкновенной женщины её класса по рождению и воспитанию, т. е. обыкновенной простой женщины. Но когда я сравниваю её с Любинькою, которая всё-таки лучше большей части своих одноклассниц, то мне кажется, что там решительно такая же разница, как, напр., между ним и Ив. Гр. или Ив. Вас. Что касается до него, я думаю, что я ещё решительно вполне не могу оценить его ума, потому что сам не развился до этого, и что теперешнее моё мнение о нём более инстинкт, принимающий форму радостной уверенности, чем выведенное из фактов заключение; точно так же, напр., как я не уверен, что я сам, а не предрассудок заставляет меня считать великими многих из тех, кто считается великими, напр., Шекспира или т. п.
Но верно то, что когда я говорю с ним, то я опасаюсь за себя и сознаю, что ниже его, и главное то, [что] я следую ему в мнениях, как, напр., следую Гёте. Напр., он говорит, что «Мёртвые души» выше «Ревизора» и драматических сцен, так что видно, как Гоголь растёт с каждым годом, и я был убеждён в этом и думал, что точно, это можно заметить. Вчера он сказал, что вот он читал повести Гоголя (где «Шинель» и проч., тот том), и говорит: «Вот ведь, так же хорошо, как „Мёртвые души“, почти никакой разницы нет, а между тем ведь до „Мёртвых душ“ не ставили ещё Гоголя так высоко». Он сказал это, и я убедился и увидел, что в самом деле между повестями и «Мёртвыми душами» нет разницы,— признаюсь, что я и раньше так почти думал, но когда он сказал противное, то и я подумал противное. Итак, это и вместе то, что когда я говорю с ним, то постоянно думаю: «Как-то я говорю, не то ли я говорю, что говорит Адамова голова и младший Залеман, и не кажется ли это ему так же глупо»; одним словом, я чувствую, что я перед судьею, который может судить и который по праву судья надо мной, а когда я говорю со всеми другими, я чувствую как-то, что я господствую над ними и что мне нет дела до их мнения обо мне. Так-то я думаю. [135]
10 час. вечера. — В университете со мною сидел у Грефе и Никитенки Герасим Покровский — он что-то внушает мне нелюбовь к себе. У Никитенки читал Главинский, я защищал несколько его против Корелкина, но раз и посмеялся также над ним, когда он сказал, что воину необходимо знать греческий. Когда шёл из университета, утвердилось мнение о том, чтобы постоянно защищать тех, кто будет читать,— так и сделаю. Это, во-первых, несколько в моём духе: какое право вы имеете говорить, что это глупость, если сами в ответ на неё говорите новую глупость, и во-вторых,— можно приобрести этих господ.
Вечером ничего не делал, только читал несколько Гизо; пришёл Вас. Петр., мы смеялись над Ив. Яковл. и над Главинским, который поместил в «Полицейской газете»[143] его биографию, в которой очень хвалил его как профессора. Я пошёл проводить Вас. Петр., он сказал, как обыкновенно говорит, что, кажется, это не нравится Терсинскому, что мы смеёмся. После несколько поговорил о Над. Ег. (я ему сказал за несколько дней, когда он говорил: «Только не противна мне, а решительно равнодушен, а что не противна, это так». — «Да это важное дело, что не противна, это весьма много уже, потому что, что касается, например, до меня, то немного людей, которые бы не опротивели мне, когда б я жил с ними вместе»),— что он подумывал о том, каких женщин знал, и раздумывал, что все они ему страшно бы опротивели, а Над. Ег. ничего, нисколько, потому что в ней нет кокетства, жеманства, принуждённости, натянутости. Ныне у меня не билось сердце, когда он говорил о ней. Вообще кажется, тут, что он начал ставить как бы в заслугу ей и достоинство пред другими, что она не опротивела, было моё влияние. — Вечером думал о том, что писать Фрейтагу: думал о своём семинарском рассказе о Милоне[144],— он написан дурно и почти всё должно исправить; о переводе «Княжны Мери» — и даже начал было писать и проч.; кажется, буду писать Milo.
29 [сентября]. — В университете несколько говорил с Фишером о цели, освящающей средства. Он сказал, что так говорили,— говорят,— иезуиты, хоть, может быть, и не говорили они этого. Как кончилась лекция, Залеман закричал, что это он говорит потому, что сам иезуит; я стал говорить против этого. — Несколько говорил с Лыткиным, стоя у кафедры у Куторги. Приходил к Куторге к концу попечитель; я совершенно владел выражением своего лица, но внутри несколько волновался или, собственно, злился на него,— я его враг, это так. Вечером несколько спал, несколько читал «Hist. de Rév. d’Angl.», большую часть времени писал Срезневского и почти дописал, хочу утром завтра кончить,— дописал до гаданий и остаётся одна только страница. Теперь 11½. Вас. Петр. хотел зайти, если пойдёт к Залеману, я и ждал, и нет, потому что было довольно сыро, а он говорит, что у него нет калош.
30 [сентября]. — Утром писал Срезневскому, которого вечером [136] дописал перед тем, как пошёл к Славинскому. Грефе не было, и я пошёл к Вольфу. 20 к. сер. за кофе. Вечером был у Славинского,— собственно, за газетами, говорил о философии и политике, кажется, по прежнему довольно хорошо. Оттуда, просидевши 2½ часа, к Ал. Фёд., где просидел также около 2 часов и взял 19—22 сент. «Débats». День довольно хороший, т. е. занимательный, но ничего не сделал, кроме того, что дописал Срезневского. Читал Ив. Гр. процесс Стратфорда из «Révol. d’Anlg.».
[Октябрь 1848].
1 окт., 11 час. — Написал Фрейтагу перевод из книги Срезневского о гаданиях, просидел не так много, как раньше, гораздо менее, всего часа 3½ с перепискою. Потом читал всё «Débats», где, однако, ничего особенного нет; только разве речь Монталамбера, которая хороша, где нападки на университет, и дурна, где предлагает свои средства. Ал. Ф. обедал у нас и просидел до 6 часов; играли в преферанс и я играл с охотою, так что даже хотел бы ещё поиграть час. Денег не мог отдать, потому что они спрятаны у Любиньки и взять у неё при нём — подать возможность ей и Ив. Гр-чу заметить это. Читал Вентворта (№ 1, приложение к Гизо) Ив. Гр-чу, и он начал несколько читать «Историю англ. революции»,— может быть, понравилось в самом деле через мои чтения. С Ал. Ф. ни о чём не говорил. Вас. Петр. не был; я думал, но без сердца, только головою, о нём и о ней, как это довольно уже давно. В церкви не был. Да, третьего дня, как давно хотел, проходя мимо лавочки, которая за Пятью углами против дерева, купил на 7 к. сер. белого хлеба, который по виду казался лучше, чем какой покупает Марья, потому что печён не с такою коркою, а твёрдою, и поэтому выходит как московская сайка. После этого стал покупать там.
2 октября. — моё сочинение прочитал и ничего не нашёл, кроме praedicens и narrans[145], вместо которых предложил другие слова, да и apud Slavos divinatio[146]. Когда я шёл, и раньше того, когда писал, то не то трусил, а в этом роде, как обыкновенно бывает, напр., перед экзаменами, но когда читал и много не разбирал или не понимал Фрейтаг, я отвечал совершенно равнодушно, не как обыкновенно, так что сердце нисколько не билось, и отвечал голосом твёрдым решительно и громким, а не таким, как делал раньше. Итак, я думаю, что постепенно всё исцеляюсь от своей способности смущаться и конфузиться или не в этом роде, а, как бы сказать, волноваться. Когда писал, то думал, что слишком стараться не должно, потому что ведь сам Фрейтаг не бог знает как много знает. Теперь переводит Воронин. [137]
Должно сказать, что я ещё не удосужился сказать [В. П-чу] о том, что [даю] у них теперь уроки. Однако, не потому, что совестно,— правда, совестно, но перед собою более, чем перед ним,— а потому, что позабывал, или потому, что нельзя было, потому что были другие при этом.
Напишу что-нибудь о моём суждении о чрезвычайных людях, напр., о Гоголе, Гизо и проч. Я, признаться, не совершенно сам независимо могу, кажется, видеть, что в самом деле они безмерно выше других; во-первых, потому что я ценю более отдельные части, чем целое, потому что (по крайней мере так я думаю) не достиг ещё степени развития, необходимой для того, чтобы вполне обнимать целое. Правда, однако, что я стал понимать части более обширные, чем раньше, но, напр., в романе не могу ещё хорошо и вполне с первого раза проследить развитие характера, а более смотрю на отдельные сцены,— это придёт, я надеюсь, со временем; — итак, везде я более в состоянии ценить части, чем целое, а части могут быть украдены, т. е. заимствованы, конечно, из известного писателя, которого ещё не читал, и поэтому мне они покажутся своими, между тем как не принадлежат тому, которого читаю; и потом только в целом является истинное величие. Поэтому, признаюсь, между скелетом трагедии и самою трагедиею, между трагедией и лирическим стихотворением я не могу заметить большой разницы в значении, и, напр., в трагедии мне обыкновенно нравятся отдельные монологи и сцены. Во-вторых, мне кажется, этому много противодействует то, что я везде, где нахожу что-нибудь хорошее, склонен ценить того, кто сказал его, за умного человека и не понимаю хорошо, какое огромное различие между умною мыслью, высказанною умным человеком, и между умною тою же самою мыслью, высказанною дураком; и, напр., что у Греча в «Поездке в Германию» всё глупость и пошлость, это так, но, напр., Мстиславцев, когда влюбился, смотрит в лица всем девушкам (однако, здесь, если снова смотреть предубеждёнными глазами, т. е. так: великий человек — всё, что говорит, если знаешь — должен принимать, если не знаешь — должен верить и стараться отыскать в своей жизни что-нибудь подобное; а невеликий, обыкновенный человек говорит,— что знаешь сам, так; что не знаешь или хоть чуть знаешь по опыту противное,— критикуй), то можно и здесь отыскать пошлость, т. е. неверность сердцу. Он смотрит затем, чтоб отыскать черты, что не должен надеяться (слишком влюблён), а не затем, как я делал, когда был взволнован Над. Ег., чтоб сравнивать всех с нею со страхом, что, может быть, которая-нибудь сравнится с ней, но более с гордостью некоторой, что нет и не будет встречена ей равная. — Я открыл в себе подобное, что и теперь, но особенно раньше, смотрел в лицо всем, чтобы сказать, как говорит Валентин у Гёте: «Вот и хвали каждый свою, я спокойно сижу и скажу, наконец: — а где есть такая, как моя Маргарита? — и все замолчат». — Так точно и в науке — не решительно хорошо я могу, напр., оценить «Историю Англ. революции» Гизо и, [138] напр., сам по себе не заметил бы в ней необыкновенной разницы с «Историей Фронды» Сент Олера, и если бы я не был предубеждён в пользу Гизо, то, может быть, и сказал бы, что одною этою историею нельзя удовольствоваться, потому что ни по всестороннему и обширному, полному изложению фактов, ни по изложению идей она не решительно удовлетворительна и принуждает обратиться к источникам, чтобы узнать действователей и цели и образ действия их. Так-то я ещё молод и слаб умственною силою. А Луи Блан почти в моё время уже выступил главою партии и стал одним из первых людей; Гёте тоже,— это для меня неприятно.
11 час. — Отдал Срезневскому балтийских славян и, из университета когда шёл, был весьма недоволен собою,— как-то мне кажется, что другие почитают это подлостью. Вечером был у Вас. Петр., у которого не остался сидеть, не хотелось оставаться и чай пить, но было неловко: он, кажется, осердился, что я ушёл. Над. Ег. лицом снова понравилась больше, чем давно (с самого того воскресенья, когда я застал её неодетою). Когда пришёл домой, сшивал тетради, чтобы дописать Срезневского, и после читал Ив. Гр-чу процесс Карла I из Беккера. У В. П. ничего особенного не говорили.
3 октября. — Утром сходил к Корелкину за Шафариком, его не застал дома, дожидался Попова, который был у обедни, посидел с полчаса. Попов мне показался не так хорош, как раньше, и лицо несколько странно. Я слушал рассеянно и говорил тоже; после писал Срезневского. Пришёл Ал. Фёд., просидел три часа, говорил всё решительно вздор. Я написал до местоположения городищ. Алекс. Фёд. говорил с Ив. Гр. об Иринархе и всё почти насмешливо; рассказывал, как подлец Ионовский уведомил его отца о том, что сын его обокрал церковь, с тем сделался удар. Это меня раздражало несколько, потому что подобное было недавно с папенькою. Писал Промптову. Вчера, когда шёл от Вас. Петр., вздумал, и теперь решительно думаю, в этом письме написать папеньке: огорчит их или нет, если я перейду от Терсинских. Главная причина — по крайней мере мне так кажется,— Вас. Петр.; больше через это расстраивается знакомство с ним. Если напишут, что ничего, то я скажу, чтобы, если угодно, переменили квартиру и взяли такую, чтобы мне была особая решительно комната, так, чтобы ни мне, ни от меня не было беспокойств. Между тем о В. П. думаю мало. — 11 часов. Писал, совершенно не читал.
4 октября. — Утром писал Срезневского, написал городища. В университете прочитал объявление, что кто нынешний день не заплатит, будет уволен. Ничего особенного не почувствовал, только завтра побываю у хозяина и проч., чтоб справиться, не готово ли уже. Не беспокоюсь об этом, потому что ждал, что не успею получить свидетельство, а эта угроза вздор. Просидел у Вольфа обед, выпил кофе и до самого того времени, как в 9¼ час. воротился домой, ничего не чувствовал, только несколько усталости в ногах. У Вольфа газеты читал мало, более читал «Отеч. записки», кото[139]рые мне подал мальчик, что меня утешило: значит, знает уже. От Ворониных пришёл к Вас. Петр., потому что думал, что он рассержен, что я третьего дня ушёл так скоро. Посидел с час почти и ушёл, потому что был не во-время. Дома съел хлеба, после уснул, теперь поужинал; но всё ещё как-то несколько как бы пусто на желудке, хоть не голодно, а в этом роде. Пошёл к Вольфу вместо дома, более чтоб испытать, могу ли так делать или нет, чем потому, чтоб хотелось много быть там. Купил Светония за 35 коп. сер. у Эггерса и подлых конвертов, продававшихся у колонны в Гостином дворе, 25 за 15 коп. сер.; в кондитерской 30 коп. сер., получил 10 коп. сдачи, отдал мальчику — итак 80 коп. сер.
5 октября. — Был у хозяина, он хотел ныне узнать, но ничего не сказал. До того самого времени, как пришёл Вас. Петр. (6 часов), тосковал от мысли о деньгах, которые в университет, и проч., и объявлении, что кто 4-го не получил свидетельства, будет уволен; хоть знаю, что это вздор, всё-таки тоскую, потому что знаю, что всякий вздор может иметь последствия и никогда нельзя надеяться, что дело кончится как следует, а между прочим и по природной трусости. Пришёл по обещанию Вас. Петр., сидели все вместе и говорили о вздоре, только Ив. Гр. повторял, что проповеди трудно писать. Я стал говорить об этом несколько много, он, конечно, замолчал. После проводил Вас. Петр. и пошёл к Ал. Фёд., где взял [«Débats»] 23—25 сент. Написал домой о том, могу ли, не вводя их в сомнение, сойти от Ив. Гр., хотя ещё вставши был почти уверен, что не решусь написать[147]. Ныне, когда вставал, особенно тосковал и тоже третьего или четвёртого дня, так что показалось, как бы пословица: «утро вечера мудренее», имеет и то основание, что утром человек более расположен к критике и неудовольствию на себя.
У Никитенки читал Корелкин; я всё молчал, но когда думал, что он спросит, кто будет далее писать, то думал сказать, что я; и хотел писать о Гёте и обвинениях его в эгоизме и холодности. Некоторым поводом к этому было то, что было сказано Никитенкой и Корелкиным несколько неуважительных слов о Гоголе; Никитенко сказал: «Гоголь — поэт и писатель и Гоголь — не поэт и не писатель — два совершенно различные человека» и проч. Корелкин читал слово в слово Никитенкины лекции, и мне пришло в голову, что в самом деле это так, что и дурак усваивает умные мысли, хотя и сам не понимает их. Меня всегда волнует то, когда говорят, как о нехороших людях, о великих людях, и слова Гизо «никогда великое событие не совершается по незаконным побуждениям» я перелагаю и так: «Никогда великое событие не совершается, никогда ничего великого не производится через человека, который бы не сделал чести человечеству и тогда, если бы не был действователем в истории и не играл такой важной роли в обществе или умственном мире, а был бы известен в тиши». 11 часов, ложусь. Когда же я буду писать Никитенке? В следующий раз будет читать Корелкин и снова Главинский; после будут исто[140]рические темы, которые, верно, я не возьму, потому что, напр., о «Слове о полку Игореве» я не хочу писать.
6 [октября]. — Когда ныне встал, то не был так тосклив, как вчера. У Фишера сидел, другие говорили и я хотел говорить и ужасно волновался перед этим в последней половине лекции, так что дрожал, как в лихорадке. Когда воротился домой, не хотелось сидеть одному до завтра,— что будет, когда решится, так или нет (т. е. нет, конечно), потому что принесли повестку в квартал. Пошёл поэтому к Славинскому, где его сначала не было; сидел поэтому с отцом, после с ним, после пошёл к Ол. Як., где были гости, с которыми играл несколько за него в карты. Когда к нему пришёл ещё посторонний гость,— ничего, не конфузился. Славинскому отнёс номера «Débats» и взял у него 2-ю часть «Истории революции». Ночью делал попытку пойти в кухню, но разбудил Ив. Гр-ча и поэтому, конечно, воротился. — Подлец. —
[7 октября]. — Утром встал покойно, хотя почти был уверен, что дело продлится так долго, что должно будет отдать деньги; но там показали мне чистый отказ, которого я решительно не ожидал, а всегда думал о противном. Это мне показало, что необходимо для того, чтобы выиграть дело, иметь своих людей между теми, которые производят его или через деньги, или через знакомства, а теперь вздумал я ещё, что кроме того я сам неискусно вёл дело и мог бы представить обер-полицмейстеру при его просьбе уже готовое свидетельство. Отказ, можно сказать, нисколько не возмутил меня. Просидел полчаса в квартале, пока писали расписку в слышании, которую я должен был подписать; после по дороге разменял серию у менялы, так как купцы не хотели (Любинька истратила деньги, которые я отдал беречь ей, и когда я спросил их, то велела разменять серию), и дал промена 25 коп. сер., о которых не сказал Ив. Гр-чу, а отдал свои. Шёл в университет почти решительно спокоен, что всё пойдёт хорошо и деньги примут и свидетельство выдадут. Казначей точно принял без всякого особого внимания или рассуждений, потому [что] ещё не поздно и многие ещё вносят, [так] что я не исключение, а правило. Потом отдал квитанцию и свидетельство, которое должно переменить, Грейсону, который также ничего, принял, как бы я не первый и не последний,— это хорошо. Пошёл в библиотеку и там читал Revue de deux Mondes, сначала политические обзоры за 1840 г., из которых не узнал ничего кроме того, что Гизо тогда был посланник в Англии, после Лерминье о Парламентской истории Buchez et Roux-Lavergne Бюше, главный издатель его сборника, чтò мне было весьма любопытно узнать, исповедует евангелие и основывает на нём систему якобинцев, которых тоже поддерживает. Это хорошо и поднимает его в моём мнении, хотя против этого и говорит Лерминье.
У Куторги сидел попечитель[148], я ничего, только был суров и глядел иногда на него мрачно,— я его враг, но уже не волнуюсь при виде его. Вчера, когда я давал Куторге подписывать Мюнха, [141] он сказал, что это не слишком хорошо написано, и говорил, чтò лучше. Я образовал проект подавать ему беспрестанно по два новых билета для подписки, что, конечно, отчасти будет исполнено. Отдал Лыткину его Светония. Когда пришёл домой, читал Гизо и почти дочитал первый том. Пришёл Ал. Фёд., принёс 26—30 сентября, которые я уже просмотрел, главное о Франции; просидел до 8 час. После я читал «Débats» и поэтому и ныне, как прежние дни, ничего не делал, т. е. ничего не писал для Срезневского. Герасим Покровский ныне в аудитории не подходил уже ко мне, что мне, конечно, приятнее. Когда шёл из университета, захотелось сильно на двор за большою нуждою, и я зашёл на Гороховой в дом в третьем проулке, т. е. дом, который перед Красным мостом, там сходил; но когда застегивался, какая-то девушка в красном платье отворила дверь и, увидев мою руку, которую я протянул, чтобы удержать дверь, вскрикнула, как это бывает обыкновенно; я не почувствовал при этом никакого движения и даже не полюбопытствовал, хороша ли она. Когда Ал. Фёд. стал говорить о Софье Никифоровне или, как он говорит, Соничке и других красавицах, я, поддерживая довольно вяло этот разговор о красавицах, довольно живо волновался, конечно, думая о Над. Ег. — Теперь 10 час. 40 мин. Ложусь читать «Débats».
8 [октября]. — Напишу о моих отношениях к Вас. Петр. Не знаю, как это сказать: верно оттого, что теперь редко с ним вижусь, теперь почти никогда и почти ничего не говорю о его состоянии и как-то мало волнуюсь его положением; мысль о нём почти постоянно у меня и почти всегда я о нём думаю точно так же, если не более как о себе, т. е. implicite[149]; кажется, думаешь о другом, а господствующая мысль всё та же. Это всё равно, как то же, напр., когда я иду и считаю шаги — думаю о другом, кажется, и вовсе не считаю, вдруг, как вспомню, говорю — 235 или в этом роде, или всё равно почти как о себе; прекрасно, не знаю, откуда взял это сравнение Греч: «В канатах английского флота по всей длине всегда идёт в середине красная ниточка».
(Сейчас Фрейтаг кончил перевод, и должно было делать парафраз, никто не хотел и я тоже; наконец, Лыткин сказал — ego[150]. Тогда Фрейтаг сказал inter vos non convenit, egо ipse ordinem constituam[151], и, начиная с Лыткина, учредил порядок, в котором мы и пишем — это мне нравится отчасти, хотя это противно libertati[152], поэтому не нравится отчасти),
…незаметная для того, кто смотрит снаружи, но вечно идущая — так и эта мысль. Но всё-таки, как бы то ни было, я думаю головою, а не сердцем, и без особого волнения или тоски; иногда бывает и это, но редко и не в такой сильной степени, как раньше, когда я ежедневно говорил с ним. моё мнение о его достоинстве и [142] уме и сердце остаётся прежнее, т. е. самое высшее, какое только имел я о каком человеке мне знакомом — конечно, моё слабое доверие к своей оценке препятствует мне сравнивать его с теми людьми, которые увенчаны авторитетом в моих глазах, напр., Гоголь, или Гизо, или Луи Блан, или кто-нибудь в этом роде, но, напр., ни с кем из наших я его никогда не сравниваю. О ней я хорошенько не могу ничего сказать. Кажется, я теперь должен сказать, что я очень высоко или, лучше сказать, довольно высоко её ценю, но собственно отрицательно, а не положительно приписываю ей большое достоинство, т. е. почти ничего не нахожу в ней (кроме некоторого тона, которым она произносит названия своих кошек, или названий, которыми называет их) такового, что меня так отвращает, напр., от Любиньки или от других, которые мне, если ближе всмотреться и отбросить чисто физические влечения и снисхождения, то внушают отвращение.
Если что писать о Срезневском, то я должен также сказать, что так как слишком давно не говорил ничего с ним, а читать он не читает ничего особенного, то я теперь мало думаю о нём и почти не одушевляюсь им. Другие люди, т. е., главным образом, французы, теперь действующие или недавно действовавшие, история, особенно новейшая, и политическая экономия заняли мои мысли, и русские всё как-то исчезают. Но, конечно, я и раньше его не сравнивал с великими действователями Запада, но мало о них думал, поэтому более места оставалось для него.
Должен я сказать, что я довольно лениво читаю всё, что у меня есть, т. е. собственно Гизо, который теперь один у меня, потому что жажду узнать новейшую историю и теперь думаю, что мне должно будет удовлетворить этому желанию, и тогда я мог бы снова с рвением обратиться к истории до 1789 г., а то это заслоняет от меня теперешнюю — как, в самом деле, не знать, что и кто теперь действует на свете и что думать, и за кого бояться, кому сочувствовать, чего надеяться, что эти люди, которые теперь действуют. «Débats» читаю почти всё, хотя не соглашаюсь с ними во взгляде на предметы совершенно,— для них равенство слишком далеко зашло, а по-моему оно глупо и отстало и речь Deville, которую он сказал по случаю выбора Raspail в представители, то что говорит Corne и проч., мне кажется вздором и вздором опасным, который постоянно делает то, что правительство находится в противоречии с обществом, между тем как собственно должно идти впереди его. Общество говорит то, правительство говорит другое и, главное, боится высказать те начала, на которых основывается и оно само, и вообще общество.
11 час. — Взял Мюнха и лежал, читал, пока пошёл к Ворониным. Оттуда к Вас. Петр. У него были Самбурские; Ольга Егоровна мне лицом снова теперь решительно понравилась, но движениями, голосом и всем — какое сравнение с другой! Верно это происходит оттого, что не испорчены заученным гримасничаньем они. Играли в карты — мельники, а после короли,— я старался сделать [143] так, чтоб [королем] был кто-нибудь — Ольга Ег. или Над. Ег. — Просидел полтора часа и просидел с удовольствием, хотя, правда, не живым, но с удовольствием и как бы в семейном кругу, чего не чувствую, когда бываю с Терсинскими,— может быть, оттого, что живу с ними и поэтому пошлое в них уже надоело и через то кажется вдвое пошлее — но, кажется, нет — здесь не так много пошлости. Вас. Петр. ничего не говорил решительно, всё сидел молча. Николай Самойлович поссорился с Над. Ег. за взятки в короли. Над. Ег. мне показалась действительно весьма хороша, хотя я особенно пристально смотреть не чувствовал стремления и не находил при этом в себе волнения.
9 [октября]. — Говорили о том, что должно сказать Фрейтагу, чтобы он перестал употреблять этот строгий глупый тон и обращаться так, как до сих пор: напр., вчера сказал Залеману грозным гувернёрским голосом: «Non est confabulandum!»[153]. Конечно, отчасти это говорилось не в уверенности, что что-нибудь выйдет из этого, но всё-таки. Притом сами студенты отчасти виноваты в том, что так с ними обращаются. Тут было несколько человек, они согласились, чтоб сказать. — Вчера, собственно, должно было, кажется, переводить мне, но не хотел, потому что не готовился и потому что не хотел иметь дела с Фрейтагом, как и теперь не хочу, потому что сильно не люблю его. Таким образом я отчасти виноват в том, что Фрейтаг учредил этот порядок, и мне вчера сказал это Славинский. Ныне подавал Тихомиров и наделал много ошибок, и Фрейтаг несколько раз поводил глазами по студентам, чтобы увидеть улыбку, одобряющую его придирки, но, к счастью, студенты довольно хорошо себя держали и никто не засмеялся; только раз, когда Фрейтаг спросил, что это за вещь pisces testaceae[154], что написал Тихомиров, который писал о пище римлян из лекций Шлиттера, то Лыткин, улыбаясь, сказал, что это вместо testudines[155], конечно, но Фрейтаг в этот миг смотрел в другую сторону.
Вчера отнёс Баранта; когда возвращался из университета, вздумал, что пора перестать говорить с Корелкиным о борделях и проч., потому что это неприлично и глупо и может на меня набросить мантию сквернословца. Итак, бросаю решительно, а вздумал это по поводу разговора, который имел у Куторги перед лекциею. Вместе с этим решился я сам не вмешиваться в разговоры и не подходить ни к кому, чтоб восстановить свою репутацию, потому что, может быть, меня считают навязчивым человеком, и, главное, для меня неприятно то, что со мною постоянно говорят больше Вологодские, т. е. дурная партия, а, напр., Тушев, Лыткин и даже сам Славинский и также Воронин ничего (да это и нечего говорить, и я не хочу этого, а так только), почти также ничего.
Когда вчера сидел у Куторги попечитель, я смотрел на него, ко[144]нечно, с враждою, но вместе и с некоторым не то что сожалением или презрением или,— ну, а как это сказать, сам не знаю: сидит старик, и губы и всё это кажется опустилось, как обыкновенно бывает у стариков: и это развалина — это возбуждает некоторое чувство сожаления; но эта развалина поставлена управлять и стеснять движение живых сил (т. е., пожалуй, и не сил живых, но всё-таки выказывающих некоторые признаки, что не совершенно гнилы), и эта же развалина принимает грозный и глупый тон и кричала, между тем как право должно бы молиться богу да сидеть в вольтеровских креслах. И что за радость везде совать старых дураков, которых должно бы давно уже отпустить на покой. А между тем, всё-таки старик,— и я при этом вспомнил о бабеньке, у которой лицо так же опустилось. И жаль, что старик этот так странен, или, как это сказать,— жаль, что он явился в таком положении, а между тем, смотря на него среди молодежи, и нельзя не вспомнить мысли несколько грустной о старости. А чувство, внушаемое идеею, переносится несколько и на неделимое, в котором выражается идея.
Когда в эти дни погляжу на Галлера и вижу глупость или что-то в этом роде, вообще что-то нелепое, как говорит Вас. Петр., написанное на его лице, и вспомню, что это говорил с самого начала Михайлов, то думаю, что у меня недостаток проницательности и что я узнаю человека в год, между тем как другой узнает в одну минуту.
Вчера, когда ходил к Ворониным, нисколько не устал, не так, как в первый раз, и теперь, кажется, почти постоянно буду приходить домой. У Мюнха[156] ничего почти нет; но только я узнал, что Гизо издавал «Temps»,— имя, которое меня поразило — весьма нехорошо: что это за перевод с английского «Times»?[157] — мне неприятно видеть англоманию. И по нему выходит, что главным образом во время июльской революции действовал Arm. Carrel, а Гизо был только второй после редакторов «National»[158], Каррель тогда собственно был главным революционером, и там снова выставляется Al de la Borde главным действователем из Палаты депутатов.
То письмо, которое я получил вчера, говорит: «на боку лежать не должно»,— в ответ на мои слова, что я здесь обыкновенно лежу на боку. Во-первых, что я за дурак, что сколько раз уже видел, что писать подобных ругательных вещей о себе не должно, и всё пишу; во-вторых, это заставило меня задуматься несколько, не обязан ли я заниматься не чем хочу, как, напр., новейшей историей, а чем должно и что нужно для экзаменов и по мнению людей другого мнения, чем я.
10½. — Читал всё Мюнха. С 6 до 8 сидел Вас. Петр., после я его проводил, дорогою смеялся над Терсинским и проч.; он сказал, что Ольга Ег. теперь ему менее нравится, чем раньше, и он видит, что в тысячу [раз] она не так понятлива, как Над. Ег. Он переводит стихами «Коринфскую невесту»[159] и хочет переводить, кажется, «Фауста» — это всё хорошо. 9-е число. [145]
10 [октября]. — Читал Мюнха, «Débats» и статьи, которые списаны в некоторого рода сборнике, который взял на несколько дней Ив. Гр. у своего приятеля дьякона,— «О новой и древней России», Карамзина[160]: весьма умный и добросовестный человек, весьма много хорошего и дельного, но есть много и устарелых негодных понятий, напр., восстает против централизации, министров, хочет усиления власти губернаторов; хочет, чтоб известные места давались только дворянам, вообще который очень любит, чтобы дворянство раздавалось с большой осторожностью; говорит против Сперанского; во всяком случае, мне так кажется,— ученик Монтескье, только несколько отсталый от тех, которые через него хотели англ. Verfassung[161]. Письмо Сперанского государю, которое читал и раньше, очень хорошо, и видно, что весьма умный человек, об Александре составил мнение, что должно быть был весьма хороший человек, когда ему так писали.
В 6 час. пришёл Вас. Петр., Любинька скоро ушла к хозяевам, но пришёл Ив. Гр., который ходил к своему приятелю, но воротился и сказал, что пойдёт к хозяевам, однако, просидел целых два часа дома, сначала за чаем, а после чёрт знает зачем, и ужасно надоел мне: чего сидит человек и нейдет туда? Себе никакого удовольствия, а другим мешает. Наконец, в 8 час. ушёл. Посидели до 9 час. с Вас. Петр., он думает, как бы перевести Гизо и пр., но знает, что денег нельзя за это получить. Теперь 11 часов. Утром был Ал. Фёд., взял «Débats» и переписывал здесь на моей бумаге завещание Розенберг, я ему для этого должен [был] устроить транспарант в лист. День прошёл так, не то что без пользы, не то что с нею.
11 [октября]. — От Ворониных зашёл к Ал. Фёд. и зашёл после к Олимпу Як., чтобы показать письмо. От Ал. Фёд. ему «Débats» возьму завтра, когда пойду из университета. Устал довольно и поэтому, когда пришёл, всё спал и теперь тотчас ложусь. Отнёс Пшеленскому лекции Срезневского 2 курса Корелкина, которые просил он ещё в пятницу.
12 число, 11 час. — Пошёл на вторую лекцию, но Грефе читал первую, и вторая была свободна; я этому был весьма рад и просидел в библиотеке; прочитал в 1841 «[Revue] de deux Mondes»[162], которые теперь в библиотеке читаю, статью Carné, который говорит вместе о новых сочинениях Ламне, Прудона и Луи Блана. ещё не кончил, но меня поразила сила мысли этих господ, и, признаюсь, я решительно их последователь, и мне остаётся только читать их в подлиннике и только,— я совершенно предан им и уважаю их.
Славинский предложил ходить к Грефе и записывать замечания поочередно — хорошо. У Никитенки читал Главинский об отношении поэзии к действительности также. Я снова, как и в прошлый раз, не сказал ни слова; после Славинский говорит мне, что Главинский [146] сказал, что пишет для того, чтоб иметь хоть кого-нибудь покровителем,— это так, и теперь я готов всегда его защищать. Из университета пошёл к Ал. Фёд. за «Débats» — его и их нет; после к Ол. Як., которого просил о Гражданском судопроизводстве,— Попов хотел дать,— после к Вас. Петр., от которого должен был скоро воротиться, потому что звал к себе Славинский, а между тем как обещался, то не мог не быть. Да, у Олимпа Як. обедал; Терсинские ждали меня и за обедом сказали, что Зуров, у которого по Яхонтову Ив. Гр. будет давать уроки, предлагает ему у себя в доме квартиру по самой сходной цене,— это хорошо, потому что верно будет удобнее. У Вас. Петр. пришла при мне Самбурская; она мне весьма понравилась, села в короли играть, и мы сначала спорили шутя, после она рассорилась с ним, и он сказал ей: «Свинья, замолчи, а то утру нос»; она встала и ушла домой. Эта сцена сделала на меня довольно сильное впечатление в том смысле, что доказывает необходимость и благодетельность образования даже и светского, поверхностного, и доказала прогресс. — После читал и спал. Читал всё Дон-Кихота,— весьма хорошо, хоть это перевод Шаплета,— весьма умно, и Дон-Кихот говорит преумно, превосходно всё, что он говорит и даже о рыцарстве, но только здесь он не разбирает обстоятельств. Получил посылку, которая подписана была на 15 руб. сер.
13 [окт.]. — Взял Michelet Geschichte der n. Systeme der Philosophie; дорогою из университета, как стал несколько времени назад, читал введение его, и оно меня радостно и сильным образом всего взволновало,— это признание прогресса всеобщего, это мнение о новейшей истории Франции, эти мощные ответы тем, с которыми он не согласен, это оживлённое и мирное воззвание к Шеллингу о соединении: — «Мы, говорит, одни, одни призваны решить и уяснить», этот мощный язык глубокого убеждения,— как это прекрасно, и это почитание великого человека, которого он последователь,— как хорошо он называет его и других ему подобных Heros. Люди силы! Пришёл, читал немного его, но мешали Терсинские, которые играли в карты подле, и ему, и мне было досадно. Пришёл Ал. Фёд., просидел до 9¾, принёс 1–7 «Débats»,— хорошо; я читал ему 7 октября, речь Ламартина, но сбивался при переводе и читал вяло, говорил ему о социализме и проч. Теперь пробежал первые страницы их и буду читать Мишле.
Мне кажется, что я почти решительно принадлежу Гегелю, которого почти, конечно, не знаю, конечно, общих мыслей о развитии и значении лица только как проявления, но это так и вся история так говорит и так во всяком случае объясняется,— да, это правда, «мы все говорим одно», и есть места у него, которые как бы списаны у Гизо, например, стремление этого времени согласить принцип и факт — у него в предисловии, у Гизо первая лекция «Цивилизации во Франции». Но вместе меня обнимает и некоторый благоговейнейший трепет, когда подумаю, какое великое дело я решаю, присоединяясь к нему, т. е. великое для моего я, а я пред[147]чувствую, что увлекусь Гегелем. Твоя воля, боже, да будет! — и будет она.
Да, вчера, не знаю, сказать как это, но только Над. Ег. сидела без платка, миссионер[163] был, конечно, немного разрезан спереди и было видно некоторую часть пониже шеи,— признаюсь, я смотрел с наслаждением некоторым, решительно целомудренным, но не знаю, стал бы я смотреть на эту часть её, если бы это видел в первые дни после свадьбы, не знаю, может быть, нет. У неё на щеках был румянец и это было хорошо, к ней идёт и хорошо, хорошо, а это последнее я пишу чисто от головы. А сердце хотя слабо, но несколько бьётся при мысли о ней со вчерашнего, как это бывало, только в большей степени, в первое время после свадьбы.
Кажется, для меня снова начинается жизнь, которая на несколько времени прекращалась или засыпала, и сердце как-то чудно бьётся,— несколько, правда, а не слишком, вместе от первых страниц Мишле, от взглядов Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Над. Ег. и всё это вместе! Половина двенадцатого, теперь ложусь читать Мишле.
14 [октября]. — Вот и доканчиваю эту тетрадь. Утром читал «Débats» и Мишле до места, где подробный разбор Канта (50 стр.). После пошёл в университет в 11 часов, потому что к Грефе не хотел, потому что Славинский предложил бывать поочередно и записывать поочередно также. Хорошо. Читал в библиотеке «Revue d. d. Mondes» и записал за 1842 год. Квитанцию за Мюнха вчера позабыл, и ныне Лерхе сам напомнил и отдал. Записал Salvandy о революции 30 года[164] — решительно меня тянет к современной истории, политике и политической экономии, поэтому прочитал полкаталога по политической экономии и всё хорошее выписал и хочу перечитать. Из университета когда пришёл, читал снова « Débats»; в 7 час. к Вас. Петр. Над. Ег. сидела в открытом платье, а не миссионере, поэтому плечи были открыты, но был платок и только середина груди была видна; я смотрел, чего, конечно, раньше не сделал бы, смотрел, должно сказать, решительно с братским чувством и собственно в надежде и желании убедиться, что Вас. Петр. должен быть очарован этим, особенно когда она будет образована. Но всё-таки смотрел, а раньше не стал бы,— благоговение исчезает; мне кажется, в этом много отчасти виноват Вас. Петр. Она сидела и шила и поэтому должна была ставить ногу на стул, чтобы прилипало шитво к коленке, и я — чего, кажется, ещё никогда не думал и при ней, мельком стал представлять положение между ног. Это меня оскорбило и огорчило. Правда, что я представлял это так не по охоте и без всякого желания и волнения, решительно без волнения, но всё-таки представлял,— чтò я за подлец! подлец! Раньше, когда я благоговел, я этого б не стал представлять себе. Вас. Петр. сказал, что имеет сообщить мне некоторые новости, а когда я уходил, сказал, что ничего нет — а меня было это порадовало: вот, может быть, что-нибудь хорошее! Он го[148]ворил, как ему надоел Ив. Вас., который был у него и ныне и почти каждый день бывает; после сказал, что статья из «Débats» о речи Ламартина об избрании президента глупа: — она переведена в наших газетах — и я увидел, что точно глупа: так покоряюсь ему, и мне как-то совестно перед собою, что я сам не вижу. Очевидно, что я много моложе его в отношении том, что не различаю так хорошо, как он, глупость от ума. Над. Ег. снова понравилась лицом — да более, чем в прежний раз, когда понравилась более, чем в предыдущий. Но меня беспокоит то, что прежнее моё наслаждение было чисто духовное, нравственное, и всё ослабевало, теперь начинается снова усиление наслаждения, но боюсь, что, увеличиваясь, оно делается всё более материальным, физическим. Боже, сохрани их. Дай счастья. — 11 час. 10 мин.
15 октября 1848 года. — Утром дочитал «Débats» для того, чтоб [за] 6 и 7 отнести Славянскому. Речь Ламартина мало понравилась, в этом много виноват и Вас. Петр. В 11 час. пошёл; когда шёл, скорбел о вчерашнем материализме относительно Над. Ег. У Устрялова попросил незнакомого студента переставить свою чернильницу на задний стол, где сидел я и Залеман. После читал Мишле, был у Ворониных, несколько устал и поэтому когда пришёл, почти всё спал. Хотя слабая, но есть потребность видеться, как раньше, с Вас. Петр. — Salvandy не выдают; я посмотрю в библиотеке и теперь довольно много бываю там и буду бывать. У Мишле многого не понимаю.
16 [октября]. — Когда шёл в университет, догнал меня Лерхе и пошли вместе; говорили о Фрейтаге, с которым был удар, и Прейсе. В университете досмотрел Supplément II и каталог [по] политической экономии, а в третью лекцию просмотрел Salvandy весьма бегло: он против июльского движения, защищает Бурбонов и аристократию, и у него больше рассуждения, чем ясно означенные факты, так что я из него многого не могу знать. Несколько почитал «Revue d. d. Mondes» 1842. Обещался быть у Славинского завтра. Более ничего, только после обеда вздумалось снова начать и как можно скорее кончить Срезневского в надежде, что из этого что-нибудь будет (т. е. завяжется разговор и можно будет обратить [его] на Вас. Петр.). Дома читал Мишле и Куторгину брошюру[165], которую дал Славинский; в ней тоже можно видеть, хотя в меньшей степени, чем на лекциях, беспрестанные повторения и проч. характеристичные черты.
Ныне явился снова на Куторгины лекции морской офицер, который слушал прошлый год; я первый увидел его и подошёл к нему, после и другие; мне было довольно приятно видеть его и говорить с ним. Корелкин надоел своими подражаньями; кажется мне, напр., когда говорил с ним, что решительно некстати,— напр., говорил о Бурачке и «Маяке»[166], он сказал: «И я хотел издавать журнал, да не пропустила цензура». — Я сказал: «И хорошо сделала, потому что верно было бы дурно»,— потому что мне было несколько досадно, что острит человек совершенно не у места. У Мишле [149] многое кажется непонятным. Дочитал несколько страниц, которые оставались в первом томе Гизо Rév. d’Angleterre. Возьму его политические сочинения и, если можно, L. Reybaud.
17 окт., воскресенье. — В час просыпался и вздумал нагишом побежать на двор, куда хотелось; сходил — мало; когда оттуда ворочался, увидел, что лампада ещё не погасла в людской и что Аннушка лежала, заворотив платье; пришла охота ближе подойти; я пошёл в двери, которые из коридора, и когда стал на пол, заскрипело, Анна проснулась было; я нагнулся за шкапом, так, чтоб меня не было видно, и несколько секунд — с минуту — дожидался; когда снова улеглась, тогда вышел. Что за глупая странность! Это, конечно, чтоб я не гордился, попускает меня это делать бог.
Когда встал, читал Мишле, и когда встали Терсинские, я сел в прихожей и меня бесило, что мешают. Ушёл в 11½ к Славинскому, там просидел до 4½, обедал; за обедом отец показался тоже весьма ограниченным, и я слушал его с нетерпением. Оттуда пошёл к Вас. Петр. Сначала один он был дома, сказал, что у них нашёл крови много в нужнике и что верно это кто-нибудь родил и бросил туда, что это их очень обеспокоило, и вчера [тесть] у них ночевал и, дурак — говорит — ещё стращает. После пришла она, после Залеман. Мы с нею играли в карты и в то же время говорили с Залеманом о Корелкине и отношениях его к Срезневскому: «он, говорит, подлец». Я оправдывал. Оттуда в 6½ пошли вместе и дорогою говорили тоже. Вас. Петр. говорит, что был в четверг (когда я был у них) утром у Сосницкого и Каратыгина 2-го. — «Весьма умные люди, особенно первый; говорили, что если хочу, то должно об этом хлопотать у директора, иначе ничего не будет». Он хочет. Это меня порадовало. Деньги, которые получу от Ворониных, отдам, конечно, ему. С Славинским сидел скучно, и я заметил, что когда я распространяюсь о социалистах, не слушает, т. е. рассеянно слушает, и стал писать катехизис, вроде: «верую в прогресс» — но, конечно, не написал; он просил, чтобы я написал и принёс завтра, но я, конечно, ничего с ним не сделаю. Теперь я начал было писать, да тотчас бросил.
18 [октября] — Читал L. Reybaud в «Revue d. d. Mondes» 1842 г. о социалистах. У Устрялова Корелкин сказал, что не написал к завтра, и поэтому нет ли чего у меня. Я сказал, что нет; он сказал: «Напишите что-нибудь», а потом сказал Никитенке, что ни у него, ни у кого нет ничего, чтобы читать,— потому что мой ответ был неопределённый. Я тотчас вздумал писать о Гёте, которого отношу к Гоголю и его так называемому лицемерию, и когда пришёл, сначала не писал, после стал писать в 8 час., а раньше просидел так, говорил с Терсинскими, играл с ними в бостон и даже несколько времени решительно не хотел писать, потому что хотелось написать лучше, чем можно в один вечер, и потому, что снова уже сказал, что не будет ничего написано, и Никитенко хотел говорить о критике[167]. Всё-таки написал несколько, завтра почитаю и напишу ещё; теперь не знаю ещё, буду ли читать. [150]
19 [октября]. — Утром встал в 6½ часов, прочитал раз свою статью, несколько приписал и пошёл в 9 часов. Не хотел быть у Грефе, да и не знал хорошенько, что первая лекция, просидел в библиотеке. У Никитенки, когда он входил, было волнение некоторое; когда он спросил, будет ли кто читать, я сказал: «Если позволите, то я» — и начал читать. Никитенко обращал внимание на то, что более нападали на Гёте за то, что он не участвовал в движении против Наполеона, а не [на] его частную жизнь. Я много говорил с ним; он говорит, что нет, не во всех сферах человек одинаков,— я говорил против этого. Когда звонок был, меня прервал он на середине повести о Лили; он похвалил очерки характеров отца Гёте и его матери. Уходя, он ничего не сказал в том роде, что «буду иметь удовольствие дослушать в следующую лекцию». Он показал, что довольно много существенного знает, и вообще возвысил моё о себе мнение; а как ничего не сказал, то мне было несколько неприятно, и я теперь не знаю, придётся ли мне дочитывать мою статью, которая, кажется, получила несколько более обширный размер, потому что нужно будет говорить о том, что человек всегда и во всех сферах деятельности одинаков. Когда шёл из университета, думал об этом, хотя без большого напряжения и почти в забытьи, но всё думал, теперь перестал, конечно. Как Ив. Гр. ныне именинник и ждал хозяек, то я ушёл к Вас. Петр., у которого застал отца,— не слушал, что тот говорил, скоро ушёл; мы играли в карты с Над. Ег.; она мне решительно как раньше; у него болели зубы. Пришёл — у нас сидит хозяйки дочь, такая гадость и пошлость по лицу и натуре, что смерть, и, признаюсь, жених её даёт весьма невыгодное понятие о себе: мне кажется странно, что такие невесты находят женихов! Я не хочу её сравнивать и с сестрою, а не то что с Над. Ег. или Ольгою Ег. Мне смешно было, как она хвалила Любиньку, излагая свои понятия о замужестве: что она не будет хозяйничать, ездить только по вечерам и с визитами. Пришло в голову и то: к чему ведёт цивилизация, если даёт этакие плоды — глупость и пошлость чрезвычайные. «Да,— она говорила Любиньке,— вы золото жена», и пр. в этом тоне. Мне было смешно, потому что я сравнивал эту сцену, когда Любинька слушает, и ей приятно, с тою, когда, напр., Вас. Петр. меня хвалил, и я слушаю, и мне приятно: ведь это когда другому говорят, видишь, что пошло и тривиально, а как дело дошло до тебя, то и развесил уши.
Должно сказать, что когда читал я, то, кажется, голосом твёрдым, очень порядочным, в котором не выказывалось волнения, а разве одушевление, да и то едва ли: голова не кружилась, был решительно спокоен, когда говорил с Никитенкою, т. е. против его мнений, и только, как говорили, щёки разгорелись.
20 [октября]. — У Ворониных, чего я не ожидал ещё, отдали 15 р. сер. Конечно, я, как раньше думал, 5 оставлю себе, главным образом, на шляпу, которая решительно изнашивается, а 10 само собою должно Вас. Петровичу. И вчера думал купить ему поль[151]ские [булки] и принести, но не сделал, потому что это наделало бы толков о моей доброте. Ныне купил [булки] и отнёс ему и 10 р. сер. Он ни слова не сказал, только несколько, да и то мало, пожал руку. О Никитенке думал мало, более о Вас. Петр. и том, как его дела и что будет и как тут должно делать мне — ничего не выдумал особенного. Потерял ключ, и поправка стоит 60 к. сер., я думал, что всего 15 — гадость. У Вас. Петр. посидел только 20 минут. Как пришёл, пришёл и Ив. Вас. и просидел более 3 часов, говорил всё о Клейнмихеле и себе; нетерпенья у меня не было, но слушать я его почти не слушал — бестолково, это правда. Почти ничего не сделал, прочитал только несколько страниц из Hist. de Rév. d’Angl и Мишле — всё ещё о Канте — и написал несколько строк Срезневского, т. е. дописал тексты из Иорнанда и Прокопия о старожитности. — Что ключ потерял, сначала несколько огорчило, теперь ничего решительно, так как, что делать, 60 к. сер. потерял.
21 [октября]. — Чувствовал вчера вечером и утром ныне некоторый озноб, но более усталость в боках, как перед лихорадкою, и теперь тоже, хотя менее. У Грефе не писал ничего — не было чернильницы. Потерял ключик от часов. Хочу взять 3–5 [т. т.] Oeuvres politiques Гизо (о смертной казни, о заговорах и политическом правосудии, о средствах управления и оппозиции и истории Франции 1814–1820), не знаю только, не должно ли будет возвратить раньше Мишле. Досадовал, что долго не подавали огня, а когда прислуга спрашивала, не давать ли, говорят: нет ещё. Я просидел полчаса и ужасно, т. е. хладнокровно думал, что это гадко. После пришёл Ал. Фёд., принёс [за] 8–15 «Débats», теперь читаю. Утром написал Срезневского страницу, теперь не пишу ничего — бока болят.
22 [октября]. — Утром Анна нашла ключик от часов, и поэтому 30 к. сер. остались целы, это хорошо, я их отдал вечером хозяйскому мальчику, который принёс газеты из трактира, чтобы он приносил каждый день. Утром и почти до самого чая вечернего досадовал на помехи; после обеда затворился в маленькой комнате, чтобы писать для Никитенки, но ничего не написал, потому что был не в духе; дочитал [про] Канта, половину «Débats» прочитал. Вечером расположение было ничего, потому что прохладился как-то и потому что принесли газеты, и я теперь буду читать их каждый день, а также и потому, что читал «Путеводитель в пустыне»[168], который принёс Горизонтов; прочитал теперь 117 страниц — хорошо и пусто, так что ничего не остаётся, никакой пользы, кроме разве местных красок. Вечером сидела Катерина Федот. и показалась самым пошлым, гадким, надутым существом в самом гадком роде; наконец, дошла до того, что заговорила, как один молодой человек, брат жены её брата, влюбился в неё и как был исключён из университета; настоящая гоголевская дама. Этот рассказ её стоит того, чтобы быть записану; пустое, гадкое, самолюбивое, мерзкое, с своими притязаниями на светскость, грациозность, любезность и красоту существо; мне стало прискорбно думать, что эта [152] женщина читает что-нибудь порядочное и хвалит: ведь её похвала — оскорбление, и неприятно думать о том, что порядочный человек может ей понравиться и она может избрать его предметом своих бесед и похвал и представлять себя влюблённою в него, а его в себя. Мерзость. — Писал несколько о Гёте, ничего, однако, не написал; написал страницу Срезневского. Расстройство здоровья, кажется, прошло,— ел не так много.
23 [октября]. — Вчера читал речь Roux-Lavergne об избрании президента, и меня поразили слова, которые приводит он из евангелия: «Ищите раньше царствия божия и правды его и сия вся приложатся вам»: эта мысль решительно прилагается к миру и управляет его судьбами, это так убедительно, и с этого времени, благодаря R.-Lav., который напомнил мне её, она занимает в моём уме и понятиях такое же место, как «возлюбите друг друга», и «если меня изгнали, то и вас выгонят» и проч.; может быть, даже более места, чем эти мысли, потому что это в самом деле основная мысль, которая должна управлять всеми действиями и идеями человека, призванного действовать в государстве, и человека частного; которая, конечно, обоим трудна, но должна прилагаться, несмотря на то, что кругом их не признают её,— эта мысль одна из существенных в христианстве.
Несколько думал вчера о своём тезисе, о котором спорил с Никитенкою,— что человек всегда и везде во всё продолжение своей жизни и во всех кругах своей деятельности, во всех поступках своих решительно одинаков и что нет в нём противоположных свойств, т. е. какие элементы в его уме и характере оказались господствующими в одном случае (должно только смотреть хорошенько и осторожно и принимать случай, факт не иначе как с величайшей осторожностью относительно того, что выражается в этом факте), но как скоро мы знаем, что выразилось в этом факте, то я утверждаю, что мы всегда во всех других фактах жизни этого человека найдём вслед то же самое. Конечно, между многими принципами, которые управляют понятиями и деятельностью человека, много разнообразности, и в данных случаях выражается то один, то другой, но мы говорим, что все эти принципы проистекают из одного общего начала, поэтому относятся между собою, как части одной системы, и никогда не могут не только противоречить друг другу, а даже быть в сущности различными друг от друга, и что в каждом факте, если рассмотреть внимательнее и глубже, чем, может быть, возможно для нас, мы найдём везде следствие всего человека (как в каждой части материального мира отражается весь мир, и каждое событие в ней производится всем миром и всем существующим в нём, но для нас ближайшая по времени и месту причина заслоняет все другие), так что вся натура человека выражается вполне в каждом его поступке, только некоторые элементы, конечно, ближе и действительнее и более господствующим образом, чем другие,— напр., в еде выражается всегда весь человек, но, конечно, физическая сторона яснее для нас, чем духовная. [153]
Когда я стал хорошо это обдумывать, то мне показалось слишком трудно приложить это правило везде и всегда к действительности (особенно, например, я не умею согласовать своего платонического увлечения и благоговения перед Над. Ег. и своих ночных похождений, да иногда и дневных). Что же теперь: доказывает ли это, что я не так силён, чтобы увидеть, что противоречие только видимое и здесь и что в основании единства лежат принципы, которые допускают равно и то, и другое при данных обстоятельствах, или в самом деле (как и скорее может быть) моё мнение слишком односторонне и априорично, так что действительность противоречит в самом деле ему и отвергает его? И у меня родились две противоположные мысли о себе: что я поверхностная и мечтательная голова, которая слепо, наобум, с бухту барахту, вдруг болтнёт и вздумает быть убеждена в том, что чёрт знает отчего взойдёт в мысли решительно случайным образом, что так скоро сам вижу свои ошибки,— и это скорее, может быть; или у меня так много не то чтоб проницательности и не то чтоб глубокомыслия, а способности что ли выводить следствия из начал и прилагать быстро начала к фактам и осматривать их с различных сторон, что необходимо тотчас мне представляются противоречия действительности с известным мне началом или этого начала с другим? Это, кажется, я выразил что-то не так, как думаю, но одним словом, открываю ли я противоречия в своих мыслях и так скоро начинаю сомневаться в них, оттого ли, что мысли в самом деле пусты и слишком неосновательны, или потому, что голова слишком крепка, и трудно убеждению выдержать напор этой головы и её критику? — моё мнение, о котором я говорил, состоит в том, что если, напр., человек устроен так, что он смотрит на цель, он всегда смотрит на цель (человек с сильною головою), если ставит средства вместо цели (тупая голова, не понимающая дела), он всегда будет думать так везде и обо всём, педант — во всём педант, человек, самоотвергающийся из разумных целей, всегда пожертвует собою для разумной цели (для разумной, это должно прибавить, потому что из-за вздора он и раньше не жертвовал и не хотел жертвовать собою).
Вчера ждал Вас. Петр., и Любинька сказала, что его давно не было. Я сказал: главным образом давно не был он потому, что много дела. Ныне вздумал, что получу, может быть, с нынешним письмом деньги и их хочу отдать уж Терсинским, а не Вас. Петровичу, потому что совестно, что так давно живу у них и ничего не давал им.
Вчера мне понравилось моё сравнение, которое я сказал, когда ушла хозяйская дочь, Терсинскому,— она говорила, что она обратила какого-то развратника: «как свиньи обратили блудного сына»,— это мне показалось остроумно. Ныне утром читал снова Купера, хотя вздор решительно относительно пользы и анализа души человеческой,— ничего нет, ни характеров, ничего, разве только местные типы тех мест и того времени, так что это род [154] исторического или лучше — этнографического романа, а между тем я так ещё не развит, что легче читается этот вздор, чем Гизо или Мишле. — Это всё писал у Фрейтага.
Когда пришёл из университета, читал «Débats», чтоб отнести Ал. Фёд. Когда дочитал, отнёс ему. Конечно, не застал, как и хотелось, а взял [за] 16—19 октября. Потом читал и спал, и хотя теперь половина десятого только, ложусь по предложению Любиньки, чтобы встать раньше завтра.
24 [октября]. — День прошёл занимательно довольно и без неприятности, хотя без пользы почти (т. е. для письменного дела) и с некоторым сожалением и тяжестью, что я не пишу Никитенке на всякий случай. После обеда принимался, да не делалось[169], я и оставил до завтра. Любинька снова спрашивала, что я давно не был у Вас. Петр., я сказал, что ныне жду его, и если не придёт, пойду вечером. Конечно, это говорится так же, как я сказал это Ив. Гр. о Горизонтове, так, по учтивости дружбы, но всё-таки мне весьма приятно. Читал и прочел «Débats», списал имена подавших за и против министерства Дюфора 16 октября. После немного конец 12-й части Беккера о переходе терроризма в Директорию (это вечером решительно) и теперь буду читать Мишле. Купера дочитал,— патетические места весьма у него напоминают Любинькину улыбку: знаешь, что чувство выражается доброе, а приторно и кисло (при этом, конечно, вспомнил В. П. и Н. Ег., у которых этого нет), говорят действующие лица так красноречиво, как не следует говорить. — 10 ч. 35 м.
25 [октября]. — В библиотеке ещё не было вынуто «Revue», и я читал Гизо предисловие к «О теперешнем положении истории Франции» — прекрасно, так что увлекаюсь, и видно, что писатель велик, как и мыслитель велик,— итак, до того времени, т. е. до 1820 г., он был уже членом королевского совета, т. е. министром или товарищем министра! Этого я не знал. Когда вышел от Срезневского, он остановил меня и сказал: «Правда ли, что вы начинали дело, но оставили?» — «Да, оставил»,— сказал я спокойным голосом, между тем как думал, что скажу взволнованно и, как обыкновенно, чрезвычайно мягко, почти рабски. — «Решительно оставили? а это жаль». — «Покорно вас благодарю, но так вышло, что я должен был оставить». — «Да что мне в вашей благодарности, а лучше бы вы дали нам дело, с вашею аккуратностью (которую он мне приписывает, что хорошо, и кроме которой, кажется, ничего не приписывает, что, конечно, не так хорошо, хотя решительно так, справедливо) вы бы сделали хорошо». — «Покорно вас благодарю».
Когда пришёл, пришёл Мотинька, после Ал. Фёд., принёс [за] 20—21 октября; газет мальчик снова не принёс; просидел до 8 часов. Мотинька просил (он приходил прощаться) проводить его в четверг в 6 час. в почтовой карете; я сказал, что буду и верно [155] посижу у Вольфа. Он, мне и теперь показалось, смотрел на меня с любовью, а я ему не отвечаю — что делать, человек ленив, это один из главных его пороков и причина большей части неприятности и горя. После писал Никитенке; после письмо; после вот это, теперь ложусь читать. 12 часов. Завтра у Грефе не буду. Деньги получил и отдал Любиньке, она стала говорить: «За что? Я стану теперь считать себя тебе должной». Я, как обыкновенно, промычал, что нет.
26 [октября]. — Встал в 6 часов, прочитал раз Никитенку, это до 9 вышло; после в 10 ч. пошёл в университет,— читал Гизо, Историю Франции после 1814 г. Никитенко, когда вошёл, спросил Корелкина и Главинского: «Вы будете читать?» — «Нет,— говорят,— Чернышевский». — «Очень хорошо,— сказал он мне,— я хотел тоже ныне говорить о критике. Извольте начинать, или начну я, как угодно». — «Если вам угодно говорить,— сказал я,— то я буду читать после, потому что ныне я верно не успею кончить». — Не знаю, заговорился ли он, или понял меня не так, а что я сказал, что буду лучше читать в следующий уж раз, но читал всю лекцию, и я ничего не читал. Волновался я несколько перед его приходом, думал и теперь несколько думаю, что, может быть, это и оттого, что он не хотел слушать меня, потому что дрянь и скучно и некстати ему показалось тогда же, в первый раз, и так и останется, может быть, недочитанным.
Вечером хотел быть Корелкин, и поэтому я стал ждать его; пришёл с Поповым, просидели 1½ часа, в 7 ушли. Я тотчас к В. П., где просидел до 9½; играли в карты, я шутил и смеялся относительно Над. Ег., т. е. то притворялся, что плутую, то что-нибудь другое. Она смеялась этому, но, может быть, также и показалось ей это, наконец, некстати, что с ней шутят. Вас. Петровичу обещает похлопотать о месте, которое приносит 2 000, брат тех, которые живут у Невского и у которых он раньше давал уроки. Теперь сплю. Куторга отказался подписать Гизо.
27 [октября]. — Прислугу отвёз Ив. Гр. в Калинкину больницу. Был Вас. Петр., говорил, что чувствует, что с ним чахотка. Тотчас у меня зародились мысли: как же это? что будет с Над. Ег.? что буду обязан делать после него я? должен поддерживать её? как должен? Раньше у меня в этом случае выходило в мысль жениться на ней, теперь нет — разочаровался почти и вижу в ней, конечно, не то, что Любиньку, какое сравнение, а так, только весьма хорошую в сравнении с другими женщину. Это известие мне было неожиданно и горько и как [бы] оглушающе, но сердце теперь у меня не болит,— хоть горько, но голове, а не сердцу, которое не волнуется, но всё-таки это что-то поразительное и приводящее в недоумение, думать, что он умрёт. Пришло в голову тотчас просить Срезневского о месте в журнале ему; после вздумалось: пускай кончится то дело раньше, что хотели ему похлопотать о месте письмоводителя, где мало работы, жалованья 2 000 и награды. Жалкая, горькая участь человека, такого как он! [156] — Написал о племени сербов Срезневского, тотчас как Вас. Петр. ушёл. Утром чувствовал в голове не хорошо и вздумал, не от боли ли это в…
28 [октября]. — Это пишу у Фрейтага. Утром вместо Грефе был в библиотеке, читал 1843 г. «Revue d. d. Mondes» и ничего нового не прочитал. Из университета был у Вольфа, просидел до 5 час., читал несколько «Отеч. записки», прочитал «Illustr. Zeitung» за 21 окт., там бранят Вену; узнал, что она взята[170]. В 5 час. пошёл проводить Мотиньку; после пришёл Олимп. Мне несколько приятно было, что я увижусь с ним; проводить у меня ровно никакого чувства не было, ровно ничего, ни хорошо, ни худо. После воротился домой, поел хлеба, после чаю уснул, и мне показалось, что так утомился, что не стал писать вчера вечером это (это в первый раз не пишу вечером), а оставил до утра, так и сделал. Какие мысли были вчера, ничего не могу хорошенько сказать, только думал о Вас. Петр. и его чахотке.
29 [октября]. — Теперь буду писать более об этом. Думал, как быть с тем, чтоб он не умер? Что будет, когда он умрёт? Тут моя мечтательность открывает себе широкое поле и прогуливается по нём. Я давно уже об этом думаю (всё равно, как, напр., о том, как отомстить попечителю): вот он говорит, что умрёт, что убьёт себя или что-нибудь этакое — что тут будет? Какие будут мои отношения к Над. Ег.? Конечно, я должен поддерживать её; может быть, должен жениться на ней и т. д. в самом целомудренном духе, конечно, в самом тихом и грустном, конечно, и теперь думаю так: она останется без всякой помощи,— у отца жить мученье, потому что пошлый человек, дурная будет жизнь, в том роде, как обыкновенно изображается жизнь сироты и воспитанницы в повестях, или как, напр., жизнь Александры Григорьевны у своего отца (Клиентова). Я, конечно, как человек, который любил Вас. Петр. как никто, конечно, во всяком случае, как я никого не любил, как его брат, должен употребить всю свою жизнь для неё, должен жениться на ней, потому что так ведь нельзя жить молодой женщине и принимать помощь от человека вроде меня, тоже молодого. — Итак, вот роман, как он представляется в моей голове: человек, какие редко бывают на земле, пропадает; у него остаются жена и друг; я, пока в университете, должен употребить все усилия (для этого прибегаю тотчас к Срезневскому, чтобы достал место в журнале; если не удастся — к Никитенке; если нет — сам снова к Краевскому; если нет — в «Современник»; если нет — даже к папеньке, которому объясняю положение), чтобы она не могла терпеть ни в чём недостатка, даже должен всеми силами стараться о том, чтобы она жила в довольстве. Я бываю у неё редко, потому что бывать часто нехорошо для её репутации, и потому что и сам я не должен подавать никому повода догадываться о наших отношениях и о романтической привязанности к покойному, а если я буду часто бывать, это нельзя будет скрыть (где я бываю) от своих, от Ал. Фёд. и Ив. Вас. Когда он умирает, я ничего никому [157] не говорю, не показываю ровно никакого признака, никто кроме меня не должен из нашего круга знать об этом; итак, я редко у неё бываю, ничего не говорю ей о наших отношениях,— если можно, она не должна знать и о том, чьи это деньги, и должно стараться об этом. Жить должно ей одной, взяв к себе какую-нибудь старуху, или что-нибудь в этом роде. Когда я кончу курс, устраиваю все свои дела, решаюсь на бракосочетание. Должен сказать, что я об этом думаю так, без особенного волнения, и подобные мысли не только в этом одном деле, а и везде и всегда и во всём всегда бродят у меня в голове, т. е. что я мечтаю или, лучше, думаю, как Манилов, о том, как «и вот они с Павлом Ив. в прекрасных каретах, и как слух об их дружбе распространяется везде, как даже высшее начальство узнает об их дружбе и пожалует их за это генералами». То, что вообще я никогда не могу оставаться в границах мечты сколько-нибудь рассудительной, а всегда зайду чёрт знает куда и думаю чёрт знает что о себе и приключениях со мною. — напр., хоть постоянные мечты о том, как я отомщу этому гадкому попечителю, и раньше, напр., о том, как император, призвавши меня к себе, говорит: «Вот ты изобрел машину, которая превращает вид шара земного, избавляет всех от работы телесной и лишений, которые терпит человек в мире физическом,— что тебе надобно?» — «Переведите сюда в Сергиевский собор моего отца» и проч. в этом роде. Я давно уже мечтаю в этом роде, точно так же, напр., о том, как Вас. Петр. будет жить роскошно; о том, напр. (в августе или, собственно, в июне), как во время именин Над. Ег. они будут иметь уже, конечно, хорошую квартиру, и я туда с радостью в сердце являюсь поздравлять Над. Ег., или, напр., о своей свадьбе и проч., да и вообще я всегда заношусь куда вовсе не следовало и не было никакого повода заноситься. Но когда я раньше об этом думал, не входило в мои мысли двух элементов, которые вошли ныне утром: во-первых, её согласие? Как могу я так легкомысленно думать, что это будет зависеть от моего предложения, а что она, конечно, согласится? Разве я не знаю, что хорошего во мне мало? Потом — каково будет это принято папенькою и маменькою? Но в этом отношении едва ли будет сопротивление, а если и будет, то ведь только отрицательное, и я скажу: «Если вы не хотите, конечно, я не женюсь на ней, но само собою, я не могу жениться и ни на ком другом,— как угодно». Кроме этого, я должен сказать, что если б это было за три месяца, я стал бы думать о том времени, когда буду её мужем, с наслаждением, потому что такой женщины никогда, казалось, трудно найти в мире, т. е. я был уверен, что буду решительно счастлив с нею, а теперь думаю о том, буду ли счастлив: её необразованность смущает меня; то, как она обходится с кошками, т. е. её голос, как она говорит: Микишечка (так она называет котёнка,— уже и самое имя это мне не нравится), мне кажется не совершенно хорошим. Когда она начинает ласкаться к Вас. Петр., мне тоже кажется, что некоторые движения не со[158]вершенно грациозны и т. д., так что у меня рождается сомнение, буду ли доволен я этим, т. е. буду ли смотреть на неё, как на существо высшего разряда.
Странно сказать: серьёзно ли у меня бродят в голове все эти мысли или нет, или я их просто считаю за сон, бред, роман — этого нельзя сказать, этого я не могу решить; кажется, это принадлежит к тому же разряду, как, напр., мои мысли о коммунизме и решительном господстве этой системы; не могу сказать, что это только мечта, а спросите: «Да неужели вы думаете, что это что-нибудь такое положительное в будущем, как, напр., то, что вы кончите хорошо курс, или что человечество, конечно, достигнет многого, что теперь кажется невозможным для достижения?» — конечно, я должен отвечать: «Нет», а между тем, эти мысли хотя и не волнуют меня, а всё-таки странно — ведь толпятся в голове, и нельзя сказать, чтобы мало занимали; конечно, занимают не бог знает как, а ведь думаю о них. Какой странный я человек, преуморительный.
30 [октября]. — Утром писано о вчерашнем дне, т. е. о 29 окт. — Был у Ворониных, как обыкновенно. Залеман принёс 14-ю часть Беккера, о которой я говорил ему несколько времени назад (когда он был у меня), и я читал её. Итак, Гизо всегда был последователем одной и той же партии, исповедывал одни и те же начала — хорошо, я его уважаю — един всегда был в теории и практике.
30 [октября]. — Как Антон не подал самовар во-время, то я не успел к Фрейтагу. Взял письмо на почте; после в библиотеке сел читать «Revue d. d. Mondes» и позабыл было о письме; вспомнил, и когда стал распечатывать,— сердце билось: в этом, письме должен был быть ответ на моё письмо, в котором говорю о неудобстве квартиры. Хорошо,— отвечали так, что меня обрадовало. Теперь жду случая сказать об этом им; так, я имею доверие от папеньки и маменьки. Третью лекцию также читал в библиотеке. Перед четвёртой, с Корелкиным когда остался в аудитории, как это обыкновенно теперь бывает (я не выхожу в коридор, потому что мне смерть не хочется встречаться ни с кем, ни с Алекс. Иван., ни с кем из суб-инспекторов, так, по какой-то всегдашней моей антипатии видеть тех, кто имеет право сказать что-нибудь мне), в аудитории никого обыкновенно не остаётся на несколько секунд, раньше всех приходят назад обыкновенно Корелкин и Соколов,— так я с Корелкиным стали выжимать губку, которая была уже сухо выжата: он не мог выжать воды обеими руками, я два раза, раньше и после его пробы, выжимал одною. Это мне было приятно — так, в самом деле, странен человек: я весьма рад своей телесной силе, весьма рад и доволен ею и случаями выказать её.
У Срезневского сели мы с ним, и у нас не было чернил, так что должны были пересесть — я к Тушеву, он к другому месту. Несколько дней у меня явилась мысль о том, что я слишком много говорю в аудитории с Корелкиным, и это мешает моему сближе[159]нию с другими студентами, и я как-то стал от него отстраняться, т. е. первый не стал заговаривать с ним, да и пошлым мне он стал казаться, хотя хорош тем, что я всегда господствую над ним своими мнениями и имею свободу говорить их. — Когда пришёл, хотел идти к Вас. Петр., но дожидался чаю, а его подал Антон только в 7½ час., поэтому не пошёл. Читал 14-ю [часть] Беккера и писал Срезневского; дописал до собственных имён, как доказательства родства между славянами и немцами. Теперь половина 12-го. Купил почтовой бумаги в магазине подле Юнкера (у Косковского[171] в доме) и конвертов на 50 коп. сер.
31 [октября]. — Вчера день прошёл ровно без всякой пользы. Ничего не думал. Только слегка головою чувствовал досаду, что мешают. Весь день читал сначала «Сын отечества»[172], после роман Купера «Последний из могикан». Всё это хорошо, если угодно, но ничего нет, ни характеров, т. е. типов, ничего, а только чудаки и герои в различных формах. Это не то, что Гоголь, и читать его можно только раз (это писано поутру). Ходил к Вас. Петр. и не застал обоих и был отчасти доволен этим. Пойду ныне.
Ноябрь
1 [ноября]. — (Это пишу снова поутру на другой день.) В университете виделся с Вас. Петр., который сказал, что получил приглашение явиться в театр и пойдёт завтра, т. е. нынешний день. Дай бог успеха. Вечером был у них. Застал Ив. Вас. и в 8 час. пошёл к нему. Он был мил, а я сначала несколько обрезывал его, так что Над. Ег. смеялась (за то, как мог приходить в пальто). Вас. Петр. сказал ещё, что то место, которое предлагают, зависит от того, получит ли сам тот, который предлагает, то место, о котором теперь хлопочет, потому что это право его — тогда будет место письмоводителя. У Устрялова вчера, во второй раз уже, не писал ничего — не было чернил — и теперь решился носить их к нему, однако, что нельзя будет писать — не догадывался.
2 [ноября]. — Написал домой два письма: одно вложил Ив. Гр. со своим и сам отнёс; другое, в котором я написал ответ на доверенность ко мне и что теперь обстоятельства изменились и сами верно Терсинские перейдут с квартиры, отнёс я сам. — Никитенки не было. Я дочитал историю (3 том) Гизо в университете — великий человек, он переменил несколько мои мнения и, как сам думает, что souveraineté[173] принадлежит не народу, a au droit, à la justice[174], и решительно убедил меня в своих мнениях, которые излагает там,— человек гениальный решительно, что за светлость ума и взгляда, что за сила в мыслях, что за логика в доказательствах! И он решительно приверженец новой Франции, как называет её там,— и между прочим после этого для меня ещё тем[160]нее, как мог он ошибиться и пасть — рок увлёк этого человека! Но я верю в совершенную чистоту его.
Дал Куторге подписать Droysen Alexander der Grosse, чтобы вместо этого взять Гизо IV и V томы. После был в бане, где было весьма много народа, так что мне было неприятно, шум, крик, воды не дождёшься, и поэтому я, кажется, плохо вымылся. После писал Срезневского. (Да, я ему, как и думал, сказал, что вчера он говорил, читая Паннона житие Кирилла, что Амвросий волхв (он говорит: верно эмир) и что ответ Кирилла: «Я внук изгнанного царедворца» — должно понимать в богословском смысле,— что «я внук падшего Адама». Он сказал, что это уже думали, но что это не так и что здесь в самом деле пропущено несколько строк в ответе, где Кирилл говорит о достоинстве своего отца. Кажется, я слишком настаивал на своём мнении в последнем случае, так что показался ему долбоголовым, но говорю решительно без всякого ощущения и предзанятия и думы об этом: это хорошо, новый шаг к устранению робости и глупости.) Дописал до литовских слов в славянском для Срезневского.
Прочитал 10-ю статью о Пушкине Белинского («Борис Годунов»), которую взял вчера у Ив. Вас.: в самом деле, снова хорошо писано, и мне кажется, что взгляд во многом весьма отличается верностью и большими сведениями в истории человека вообще — во всём, может быть, верно, разве только замечание «Борис не гений, а талант, а на его месте мог удержаться только гений» несколько преувеличено или, как это, переходит в декламацию мысли; в самом деле, Белинский был тогда не то, что в последних своих статьях, где пошлым образом говорил о романтизме и проч.
3 [ноября]. — (Это всё писано 5 числа утром в 10¼ час.) — У Никитенки: он предложил взять списать свою программу с тем, чтобы, кто возьмёт, тот бы и отвечал за целость. Залеман, который сидел ближе, взял и после лекции сказал: «Господа, я вам дам список, а подлинник возвращу, чтобы он не был замаран, потому что я за это отвечаю». Другие стали говорить, что нет. Он сказал, что не может отдать другим, потому что отвечает за это. Я сказал высоким своим голосом, как обыкновенно говорю, напр., вздор, т. е. пронзительно и высоко: «Если вы не хотели давать другим, так зачем же вы и брали? Взял бы другой и передал бы другим». — «Ну, если угодно, я и отдам». После пошёл я в библиотеку и получил от самого Лерхе Гизо, замарав Droysen IV и V томы, а боялся, что не получу, потому что много книг у меня и потому что замаран билет (это последнее, однако, знал, что ничего). Вечером читал «О смертной казни» Гизо — превосходно, превосходно, свидетельствует о глубоком уме. Почти дочитал.
4 [ноября]. — Утром читал Гизо, дочитал о смертной казни (конец V тома) и прочитал 40 страниц IV тома: о средствах управления и оппозиции — превосходно. После пошёл в университет в [161] библиотеку, а не к Грефе. — Мост разводили, и я зашёл к Вольфу на полчаса, пробежал газеты, ничего не брал, а хочу зайти завтра почитать газеты и «Современник» и «Отеч. записки». Оттуда зашёл к Алекс. Фёд. взять и взял «Débats» 22–28 окт. и до этого времени читаю их. Вечером был у Вас. Петр., пил чай; у Над. Ег. узнал, что болит голова, она хотела ложиться, и поэтому ушёл в 6¾. Вас. Петр. сказал, что ещё не было испытания, а будет ныне (т. е. 5-го, в пятницу утром). Признаюсь, что я как-то мало волнуюсь этим и им вообще, хотя думаю по прежнему,— вот что значит: без поддержки огонь затухает, и остаются только искры в пепле. Стало досадно, как это охладевает наша связь, и я ничего не делаю, т. е. не делаю ничего для того, чтобы она могла возобновиться, т. е. для перемены квартиры, или чтобы разойтись с Терсинскими, и решил говорить как можно скорее, т. е. во-первых, узнав, что его дело кончилось хорошо, потому что я тогда могу располагать деньгами.
5 [ноября]. — Утром были Ив. Вас. и Вас. Петр., который сказал, что ничего ещё нет, но завтра будет решено. Над Ив. Вас. смеялся и много колол глаза ему графом[175] и дорогами. Просидел с час, ушёл. Мне стало несколько досадно, что вот прекратились наши беседы с Вас. Петр., а всё от моей глупости. Дочитал «Débats». После обеда не хотели зажигать огня; хотя было весьма досадно, что не зажигают, так и просидел 1½ часа в потемках, а зажигать сам не стал. Когда уходил к Ворониным, Любинька сказала: «Ну, зажги же мне огню»,— это патриархальность. Занёс «Débats» Ал. Фёд.; он толковал, как обыкновенно, о своих делах, как и Ив. Вас., и мне было довольно скучно; однако к скуке я привык, так что, если можно так сказать, она мне уже не скучна. Перед уходом к Ворониным, да и после прихода, бесился головою на себя и свои глупости, которые довели меня вот до того, что чёрт знает, в каком отношении к Терсинским, да не имею свободного времени, нельзя ни читать, ни писать, не могу выпить чашки чаю. — Дурак!
Хотел сказать, но останавливает Любинькина болезнь, а что останавливает? ведь предложи Зуров квартиру, конечно, болезнь не помешает переехать.
11 часов. — Срезневского дописал до Новгорода[176]. Завтра хотел идти к Вольфу, теперь не хотелось идти, но завтра, может быть, будет досадно сидеть дома, а после чаю побываю у Вас. Петр. узнать. Гизо произвёл некоторое впечатление, так что я теперь как бы колеблюсь говорить, что должно бы дать suffrage universel[177] теперь, может быть ещё рано, потому что ещё не воспитана большая часть народонаселения. Но как бы то ни было (прибавлю свои старые мнения), это отвратительно, что одна часть населения господствует над другой. [162]
6 [ноября], суббота. — Утром в 12 час. был Вас. Петр.,— итак, я весьма хорошо сделал, что не пошёл к Вольфу, а не пошёл потому, что думал, что должен буду быть у Ворониных в понедельник, а лекций не будет, так поэтому и просижу у них; нет, мосты есть, в понедельник праздник. Вас. Петр. смеялся над Ив. Вас. (Ив. Гр. не было) с Любинькою и говорил довольно много, как Ив. Вас. невежлив с ним и с Над. Ег. Это мне не понравилось: к чему говорить о себе, что кто-нибудь не уважает его? — Сказал, что снова ничего не было, а будет завтра, т. е. в воскресенье, потому что ныне не было русского режиссёра. Посмотрим, будет успех или не будет ничего. Хотел быть завтра. «Если не успех,— говорит,— не дай бог, если не успех». Я опасаюсь за него, если он не успеет. Говорит, что грудь болит жестоко, днём ничего, а ночью; кровь не идёт.
Я весь день писал Срезневского и написал всего Нестора, так что теперь остаётся всего, пожалуй, 4 листка; завтра думаю написать два (едва ли напишу, однако), однако, должен буду кончить к субботе, чтобы отдать Срезневскому. Под вечер была несколько тяжела грудь. Читал о средствах управления около 30 страниц, теперь на 110-й странице. Ложусь. Половина 11-го.
7 [ноября], воскресенье. — Утром, как встал, стал писать Срезневского. Писал почти весь день. Утром был Вас. Петр., сказал, что началась генеральная репетиция и что ему велели в 1 час приходить. Вечером был Ал. Фёд. и другие гости у Ив. Гр.; я был ничего, ни в хорошем, ни в дурном расположении. Завтра вечером буду у Василия Петр., утром, если не будет лекций — у Вольфа. [Из] Срезневского написал Константина Порфирородного, Александра и начал писать Анонима Баварского,— итак, почти сделал, что хотел сделать, и теперь остаётся только два листка, и кончу это во вторник. — Читал Гизо и дочитал до 190-й стр. — Ив. Гр. от Зурова принёс «Les femmes de la Bible», я смотрел, сравнивал с Над. Ег. и ища красавицы — ни одного лица, кроме разве Аталии, где есть выражение, и матери Макавеев, т. е. пожилых женщин, и это полные госпожи — ничего решительно и портрет Над. Ег., конечно, не уступит ни одной из них.
8 [ноября]. — Начало дня было проведено в хорошем расположении духа. Проснулся рано, дописал текст Анонима Баварского и, взяв с собою чернильницу и целковый, пошёл к Ворониным, чтобы оттуда в университет. Думал, у Ворониных будет праздник и пропадёт урок,— нет. Когда шёл в университет, туда через мостки, мостки начали опускаться в воду, и у меня явилось не беспокойство, нисколько, а так, обыкновенные мои забегающие вперёд мысли о том, что могу утонуть. У Вольфа прочитал в «Отеч. записках» № 11 Даля, «Маруся»[178], понравилось (где упырь) и думал, что хорошо такие вещи, которые резко характеризуют наши поверья, но вместе и жизнь простого народа, перевести, напр., на французский. — Записки Шатобриана[179] также, и живость и естественность тех сцен его детства, которые он рассказывает, весьма [163] понравились; это что-то вроде «Wahrheit und Dichtung» Гёте, и хорошо, что он подписывает числа, когда писано, весьма хорошо, но слишком как-то есть туманность в расположении и порядке всего, как-будто теряет беспрестанно нить; может быть, это показалось только потому, что читал я в кондитерской, где, однако, было весьма тихо и нисколько не мешали.
В Берлине от 12-го и 13-го числа известия в «SPB Zeitung» весьма меня взволновали приятным образом: «Мы уступаем силе, не будем призывать к войне,— говорят депутаты,— а спросим наших избирателей: если они скажут, что мы действовали так, мы будем продолжать действовать, если нет,— нет; а восстания, вооружённого сопротивления в Берлине мы не хотим, потому что не один Берлин должен интересоваться нами, и если мы справедливы, восстать за нас, а всё государство, всё 16 миллионов»[180]. — Весьма хорошо! весьма хорошо. Я тогда сказал — молодцы! и дорогою несколько раз сказал — молодцы!
За обедом говорил несколько об «Отеч. записках» Ив. Гр., хотя давно стараюсь приучить себя ничего не говорить, особенно о том, что несколько относится ко мне и к моим чувствованиям и впечатлениям (однако я это так записал, а не потому, чтобы мне было неприятно, что я говорил ныне, потому что говорю весьма вообще и весьма мало). Ив. Гр. сказал, что Ив. Гр. Виноградов просил сказать Ал. Фёд., чтоб увиделся с ним. Я взял это на себя, потому что должен был идти за газетами. У Вас. Петр. встретил Ив. Вас. в халате,— это уже слишком по-свински,— а он так глупо-добродушно ещё говорит: «А я нынче вот как». Хорошо, что не было дома Над. Ег. Я принял свой тон, каким читаю ему проповеди, только посерьёзнее обыкновенного, и сказал: «А что же, разве это хорошо?» — «Ну, вы всё хотите заковать в форму». — «А учтиво было бы с моей стороны идти к вам этак?» — Он переменил разговор и сказал: «Вот вам записка, прочитайте». — «Да ведь вы здесь, так скажите сами, зачем же записку?» — «Да прочитайте». — «Не стану читать: зачем, когда вы сами здесь?» — «Ну, я говорю». — «А я не прочитаю». — Взял записку, не развертывая, повернул её спинкою, после развернул, оторвал полулист, на котором было написано, и, держа к себе задом, зажёг на свече (я сидел на диване к окну, Вас. Петр. к другой комнате, Ив. Вас. подле меня у окна на стуле). — «Жаль,— сказал он,— было написано весьма интересное». — «Тем хуже для меня». Мне хотелось так поругаться над ним в глаза,— может быть, и догадается, что мне такая его невежливость кажется глупой. — «А моя хозяйка»… — «Да что? вы хотите жаловаться на то, что не уважает вас? Да делайте сами то, что требуете от других, ведь вот вы никого не бьёте, и вас не бьют; уважайте других, и вас будут уважать»… — «Ну, вы, кажется, хотите читать мне самому проповеди вроде тех, как вот видел я книжку, в которой собраны изречения греческих мудрецов, так что в 10–12 фразах вся его философия вроде — [164]
И за малые дары Господа благодари.
— «Что ж такое? Извините, что я вам скажу это в глаза — ведь вы и этого не выдумаете». — Чтобы не пришла Над. Ег. и не застала его в его белом тулупчике, я встал и взял шляпу. Ему должно было встать, чтобы пропустить меня, а может быть, он и сам встал, для того, чтобы тоже идти, мне было всё равно. — «Вы тоже идёте?» — «Иду». — И пошли. Как вышли, я спросил: «Вам, я думаю, холодно в этом тулупчике?» (Мне хотелось узнать; не надет ли по крайней мере под ним сюртук, хотя я знал, что нет, но в эту минуту мне пришло сомнение.) — «Нет, не холодно, ведь вот — распахнул — это (т. е. его красный плюшевый халат) греет не хуже шинели». Ах, какой скот! идти так! к даме!
Я был несколько доволен, что так его отделал, хотя он этого нисколько не понял и принял за пустую шутку, нисколько не относящуюся к его настоящему состоянию. — У Вас. Петр. ещё ничего; завтра должно решиться. Я сказал, что зайду; после пошёл к Ал. Фёд., поджидал его там, всё ничего, был в очень порядочном расположении духа; как вышел вместе с ним (он принёс 29–4 ноября мне), меня разобрала досада на свинство Ивана Вас., и я тут же сказал, что во мне вдруг взорвало сердце на Ив. Вас., и весь вечер после этого было гадко. Я когда пришёл домой, стал досадовать на Терсинских и на себя. У Вольфа пил кофе, сдачи 85, итак взяли 15. Мне приятно, что мальчик тотчас подаёт журнал, когда я ему скажу.
9 [ноября]. — 10 час. утра, наливаю чай. Я не знаю, пойду ли в университет, если будут лекции. Меня сильно интересует Никитенко,— скажет ли мне он что-нибудь о моём Гёте, или нет; но есть другие стороны: почти наверное знаю, что моста нет, потому что сильная оттепель и вчера не было моста и, кроме того, может быть, зайдёт Вас. Петр. из театра и, кроме того, хочется ныне дописать, а если можно, [то] и кончить корректуру Срезневского. Утром ныне дописал мнение об Анониме Баварском и дописал до Адама Бременского, который и Гельмольд остаются только одни.
5¼. — Кончил Срезневского и помолился, однако, холодно. Думаю теперь отнести на дом к нему, чтоб иметь случай поговорить с ним — или о медали и почему я не писал, или о том, не достанет ли нам с Вас. Петр., если можно обоим, а если нельзя, так хоть одному ему, места в журнале, если понадобится ему, т. е. если он не успеет здесь в театре. На этом несколько основываются мои планы, хотя должно сказать, что я не верю в их осуществление, а знаю, что это пройдёт так. Если успею прочитать, отнесу завтра, если нет — в четверг, если не будет моста.
6 час. 10 мин. — Я сшиваю тетради Срезневского. Марья воротилась из аптеки и рассказала, как она ошиблась и прошла мимо своей улицы, когда шла назад,— и я вздумал: это её занимает,— так всякий ничтожный, т. е. не имеющий никакого отношения ни к какой идее случай, чисто минутный случай, интересует человека, [165] стоящего на самой низшей ступени развития; чем больше развивается он, тем более его мысли и внимание обращаются к общему, к постоянным интересам, к постоянным мыслям, напр., хоть о своём возвышении или приобретении чего-нибудь, тем более приобретает для него важности всё, что относится к этому, и тем менее важным, менее занимательным, более ничтожным становится всё, не имеющее к этим постоянно занимающим его мыслям отношения; так всё идёт к идее и всё полнее и постояннее и глубже проникается ею и сознанием её, и всё более и более теряется из глаз развивающегося существа частное, индивидуальное, и если имеет какую-нибудь цену, то что имеет отношение только к идее. И вот вам в опыте доказательство, или, лучше, не доказательство, а пример, или не пример, а, как это сказать (ну, я говорю, что на дереве есть листья, и показываю на дерево тому, кто спрашивает у меня доказательство), частный случай из общего правила, что всё из идеи, что идея развивается сама из себя, производит всё и из индивидуальностей возвращается сама в себе: развитие идеи по Гегелю.
10 час. 40 мин. — После чаю пошёл к Вас. Петр.; пришёл туда в 8 час., просидел почти 1½ часа; он был один дома; смеялись над Ив. Вас. и Терсинским. Над Ив. Вас. я довольно злобно, над Терсинским с некоторым участием; он сказал, что Любинька что-то весьма плоха,— кажется, как будто не будет долго жить, что лицо как будто мёртвое и уши жёлтые, а я этого ничего не замечал. Это на меня ничего не произвело. У него ничего ещё нет, сказал об этом своему хозяину, потому что он помощник режиссёра и от него уже нельзя будет скрыть, а после этого должно будет сказать и Над. Ег., которая, думает он, не скажет своим, потому что отец говорит, что актёры прокляты. Хозяин сказал, что это все проводят его, и должно просить директора, который иногда и сам берётся за эти дела и живо ведёт их.
Я говорил ему, чтоб он прочитал мне, что писал, потому что кажется, что когда я пришёл, он писал; он не хотел, сказал, что не писал. — «Да писали». — «Ну, [а] вы пишете?» — спросил он меня. — «Как же, пишу и уже 3-ю часть романа теперь пишу». — «Ну, прочитайте мне». — «Тогда и вы прочитаете? » (У меня родилась мысль написать и прочитать что-нибудь, всё равно, хорошо или нет напишется, чтобы он прочитал также, потому что мне хочется узнать, как он пишет; если, как я думаю, весьма хорошо, то этим можно воспользоваться.) — «Конечно». — «Ну, так, конечно, я прочитаю, только что? С начала или самые лучшие места? мне кажется, что лучше самые лучшие места?» — «Ну, как хотите»,— сказал он шутя, а я не шутил, чтоб только он прочитал, и когда шёл, дорогою вздумал писать рассказ о Лили и Гёте, который ввёл в то, что читал Никитенке, только в обширном размере романа. Напишу — так напишу, не будет писаться далее, так напишу только начало, чтобы прочитать Вас. Петр., и меня нисколько не оскорбит, если будет дурно, потому что я не сомневаюсь, что, [166] может быть, я не одарён этою способностью или ещё слишком молод и неопытен; но может быть будет и хорошо (в этом подкрепляет меня отзыв Никитенки об очерке характеров отца Гёте и матери его). Итак, верно буду писать. Прочитал перед уходом к нему и после, сейчас 2½ листа и завтра вечером, может быть, отнесу. Ныне открыл утром новую манеру писать набело, как написаны последние страницы Срезневского,— весьма мелко, так, чтоб буквы были в вышину немного более того, чем теперь писано здесь и выходит гораздо красивее, чем прежний, довольно крупный почерк; кажется, теперь буду держаться этого мелкого письма набело.
10 [ноября]. — От Ворониных зашёл на несколько минут к Вольфу, оставаться было некогда, потому что должно было дочитать Срезневского. Ничего нового не прочитал. В 4 час. 20 мин. кончил корректуру Срезневского, и Любинька, когда заметила, что я хотел идти, сказала, не хочу ли выпить раньше чаю; я сказал, что очень хорошо, и в 5 час. 20 мин. вышел. Срезневский несколько секунд заставил меня подождать, потому что дописывал мысль в программе, которую готовит по требованию министра для представления ему и которую просил меня переписать. Я сказал, что хорошо,— подобострастие, если угодно, но я думаю, что это не то, а как что-то в другом роде, и когда он сказал, что недурно было бы иметь ему на то время, когда составляет программу, тетрадки славянской литературы, которые я видел у Залемана, но что их нельзя достать, потому что верно они в университете, я сказал, что может быть достану, и оттуда заходил к Залеману, чтобы взять, если у него [они]. Его не застал. После к Олимпу — тоже нет. У Срезневского пробыл две-три минуты, потому что ему было некогда. Теперь 10 час. 10 мин. и я ложусь.
11 [ноября]. — Утром дочитал «Débats»; около 10 часов, когда уходил Ив. Гр., я стал разбирать письма, чтоб уложить их по нескольку в один конверт, чтобы таким образом они не топырились так и уложились в меньшем объёме. Как только начал складывать, пришло в голову складывать в один конверт письма за каждый месяц и надписывать на конверте, какие номера, за какой месяц и сколько прислано было в них денег. Таким образом перебрал все письма 2-го и 3-го курса и последней половины 1-го курса, и первую тоже постарался сложить поуютнее, и в самом деле, наконец, успел так, что вышло только две такие пачки, которые укладываются в ящик. Разбирал также несколько бумаги; в этом дело прошло до 2 часов. Был одержим и теперь одержим желанием поскорее побывать у Срезневского, чтоб скорее кончилось всё это дело чем-нибудь. Только сомнение: что, если придёт Вас. Петр. в то время, когда меня не будет дома? А если придёт, то, конечно, в это время, между 4 и 5½, когда я думаю воротиться.
Вчера были Ив. Гр.[181] и Ив. Вас. — Любинька, когда я перебирал письма, сказала, чтоб я написал, чтоб не присылали мне так много денег. Хозяева присылали за деньгами, потому что, говорят, спит Наталья Ивановна, а нужно провизии. Любинька дала 2½ р. [167] сер. Ив. Гр., когда узнал, рассердился на хозяев очень и сказал: «Если б не была ты больна, через неделю же перешли бы; что за бессовестность — дано ещё за 1½ месяца вперёд, а они требуют, когда сами колотимся». — Это мне показалось хорошо для моих целей: значит, как Любинька выздоровеет, можно будет перейти.
11 часов с половиной. — Зашёл к Залеману в 3¾, они обедали, значит, я им помешал. Взял у него листки, пошёл к Срезневскому и в Гостином Дворе придумал купить себе стальных перьев дюжину, по той линии, которая идёт по Садовой. Вот, думал, когда писал Срезневскому программу, что будут толсты и для лекции понадобится покупать другие,— нет, превосходны и гораздо лучше моих прежних, которые так же дороги; это меня радует. Заплатил 20 коп. сер. за дюжину. — Срезневский пил кофе с своей женою, когда я взошёл и высматривал было его, взглянувши и на жену, как это обыкновенно со мною бывает (между тем и её не знаю до сих пор и теперь не видел хорошенько её лица); но он сам встал. Хотел давать почтовой бумаги,— я сказал, что лучше бы большой, обыкновенной; он говорит: «У меня другой нет». — «Ну, всё равно,— сказал я,— у меня есть». — «Да что вам всё убытки». — «Ну уж эти расчёты слишком»… (вот и позабыл, какое слово употребил: не деликатны и не тонки, а что-то вроде того и другого вместе) и ушёл, постоявши только несколько минут: у него готово было всё, а я, когда шёл, думал, не купить ли самой хорошей бумаги; но, между прочим, помешало то, что я думал, нужно будет ½ дести, а у меня было только 30 коп. сер. Когда пришёл домой, было 5 час. 20 мин., до чаю не хотелось начинать ничего, не стоило. После чаю до 8 часов провозился всё с транспарантом, потому что прежние не были прямы для этой бумаги. Теперь написано по-своему 41 страница, у Срезневского 3½ листика, почти ¼ всего, и завтра надеюсь отнести ему, когда пойду к Ворониным.
О Вас. Петр, думал, т. е. беспокоился, мало; конечно, в мыслях постоянно был, но нисколько не беспокоился,— отчего это? Конечно, оттого, что с глаз долой и из памяти вон, долго не видел и не говорил как должно, вот и охладел; и, конечно, не от симпатии, по которой чувствую, что решительно ещё ничего нет, хотя он вчера хотел быть у директора.
12 числа [ноября], 11 часов. — Весь день писал Срезневского и всё-таки не успел дописать. Я думаю, что кончу завтрак к 12 час. и в таком случае отнесу до обеда, если нет — после обеда, в 4 понесу, что и скорее. — Вас. Петр. был поутру на несколько минут, говорит: «Было испытание ныне утром, но так холодно, невнимательно, и слушает, и сам твердит к репетиции, и проч. и проч., послушает 3 минуты — «вас зовут» — и бежит, а меня оставляет; не знаю, будет ли мне, говорит он, какой толк из этого; в субботу или понедельник узнать можно». — «Дай бог, говорю я теперь, чтобы был успех».
Отнёс Ал. Фёд. «Débats» и к счастью не застал его дома. Читал в промежутках Гизо и почти дочитал «О средствах управ[168]ления и оппозиции». — Великий человек, великий ум и практический, совершенно практический, ничем не ослепляющийся, хоть и увлекающийся тем, что не может ослепить: любовью к истине, к праву и проч. Он сам решительно убеждён, и я во всем согласен с ним и в том, что власть есть нечто высшее, а не à gages serviteur[182], как говорят те, против которых говорит он, и многое другое, что раньше считал вовсе несправедливым; другой человек, пожалуй, даже стал бы подозревать его в макиавеллизме,— так он знает всего человека и велит удовлетворять всему человеку, а не по частям, и так хорошо умеет знать, что должно делать с ним, чтоб сделать из него то и то; но какой это макиавеллизм? это всё вздор, он великий человек. Только у меня от прения с Никитенкою образовалось мнение (нет, раньше, постепенно), что всякий великий человек велик во всём и если велик по уму, велик и по душе,— а он с невыгодной слишком стороны отзывается о Наполеоне в нравственном отношении, и в этом, я боюсь, как бы он тоже не перетянул меня к себе и я снова не стал верить, что есть великие негодяи, которые делают что-нибудь в истории и заслуживают имя действователей на человечество; нет, кажется, этого не бывает.
13 [ноября]. — Утром встал в 6 час., в 11 дописал Срезневского и прочитал корректуру и уж начал было собираться и вместе хотел отнести Залеману его листки, как вдруг вижу, что они идут ко мне с Лободовским; очень хорошо, рад видеть В. П. и не идти к Залеману. Посидели около получаса или побольше. В. П. хотел курить, Ив. Гр. сказал, что нельзя, доктор не велел; посмотрю, так ли это, верно так. — В. П. и Залеман говорили почти всё об Элькане: он хорошо знаком Залеману и немного ему родственник и он просил его за В. П.: в Управе благочиния есть место переводчика, так чтоб он доставил; тот согласился и сказал, что должен раньше испытать его. В. П., который раньше чрезвычайно много наслышался о нём от Залеманов обоих, говорит, что шёл с робостью, потому что думал найти чёрт знает какого высокого человека — вышел простой, умный, весьма хитрый человек, с виду простяк; он дал ему перевести несколько строчек с немецкого и французского. В. П. завтра отнесёт ему их. Они все толковали об Элькане и, разумеется, было много сказано, что не рекомендует его, напр., для Терсинского, который, конечно, слышал и слушал об отношениях к нему В. П. Из разговора открылось Терсинскому, что он весьма нуждается. Всё это было мне весьма неприятно, я даже перебивал разговор,— снова начнут. Я пошёл к Срезневскому, В. П. к Залеману.
У Срезневского мыли полы, поэтому все сидели в кабинете жены, на которую я взглянул мельком, когда входил; после, когда говорил с ним (во второй раз довольно неловко свёл глаза с него, когда он смотрел мне в глаза), мне показалась весьма мила, и когда сказала в ответ на слова, которые сказал он мне, несколько слов, [169] мне было весьма приятно, что она вмешалась в разговор, хотя и не со мною говорила: вот этакий чудак! Это в том роде, как после свадьбы было относительно Над. Ег. — молодая, красавица, и мне чрезвычайно приятно было бы быть с ней вместе и не подвергаться насмешкам. Он говорил о том, где я беру чернила, перья, которые ему понравились (я носил с собой чернила, чтобы вписать Мухара, которого не разобрал, как кажется, для того я вывел слово отделение, которое написано не на своём месте, пропустил было несколько строк — такой чудак). Я пробыл 3 минуты, не садился, ушёл, пошёл в университет. Там ему письмо, я взял отнести, думал, что, конечно, нельзя будет уже снова с ним увидеться, почему я, конечно, отдам письмо служанке, которая отворит дверь, но всё-таки может быть увижусь, и он заговорит со мною. Мною руководила надежда навести его на разговор, который кончился бы так, что я попросил бы доставить место Вас. Петр. в журнале, а после весьма приятно было бы услужить и самому себе. Отнёс, отдал служанке и пошёл, не входя в дверь. Когда шёл по Вознесенскому против церкви (я пошёл домой через Мещанскую), вдруг слышу сзади женский голос; не служанка ли это догоняет меня воротиться (я должен сказать, что я для этого сходил с лестницы медленно и даже на 4–5 секунд остановился на нижней площадке)? — чухонка просила милостыни. — Теперь, кажется, дело с Срезневским кончено, если не навсегда, то, вероятно, очень надолго, до выхода почти из университета; я сам никогда не начну с ним говорить, разве что-нибудь для объяснения себе или ему на лекции. — Папенькино письмо написано шутливым тоном — это мне было приятно. Когда шёл через мост Чернышев, догоняет В. П. — «Откуда?» — Я сказал, что был в университете. Он стал говорить о том, что Залеман чрезвычайно выгодно говорит обо мне; говорит, что даже притворщик: «Говорит, что не знает, а сам всё знает». И говорил ему о моём «об эгоизме Гёте»,— говорит: «удивил нас всех,— и такой скромный, удивительно: когда Никитенко спросил, будет ли дочитывать, сказал, что не стоит» (вот уж это-то не говорил). Мне было весьма приятно, что Залеман так обо мне думает; кажется, это в самом деле потому, что я самолюбив, и крупно и мелко. Пришёл к нам и перевели вместе несколько строк, которые он хотел перевести для Элькана, из Code Civil чей-то, 106–110 или той статьи о приговорах и из Real. Encycl. Брокгауза, с начала Rechtwissenschaft; я педантически выказывал своё знание. После обеда несколько спал, несколько времени говорил с Любинькою, потому что совестно было не говорить, наконец, списывал Срезневскому листочки его лекций, которые оставил Залеман мне, и из 5 списал почти 3, до конца выписки из Шафарика, завтра думаю отнести. Дочитал IV том и начал «О заговорах» Гизо: так хорошо начинается, что приходит охота читать Ив. Гр., хоть и не хотел читать. Любиньку несколько жаль головою,— но чисто головою, и то мало,— что вот сколько времени томится бедная, и ещё, по крайней мере, 6 недель это будет. — 11 ч. 50 м. [170]
14 [ноября], 2 часа. — Всё утро хотелось идти к Славянскому, к которому задумал идти ещё вчера, но не пошёл, потому что Ив. Гр. Не было дома, так и самому сидеть так, и Любиньку оставить одну несколько не хотелось, а думал идти ныне и пойду. Утром встал в 6 час., к 9 дописал Срезневского листки (всего 5, теперь остались 8 из тех, которые есть у Залемана), после лежал в зале, дочитал «О заговорах» Гизо и не знаю, перечитывать ли в другой раз — может быть. После читал Мишле о Гегеле, и на несколько времени уснул, сейчас пообедал.
До 5 час. Просидел с Любинькою, гадали и играли в карты. Марья уходила в больницу, я дожидался её. Я спросил у Любиньки между прочим, так, хотелось ли маменьке, чтобы я приехал нынешний год? Она сказала: «Не слишком, но они всё беспокоились, что тебе беспокойно жить». — «Напротив,— сказал я,— мне было гораздо спокойнее, чем дома»,— несколько в намерении, чтобы разговор пошёл так, как он и пошёл. — «Стало быть и теперь тебе беспокойно с нами?» — «Не знаю, как тебе сказать — отчасти, конечно».
Когда Марья пришла,— к Залеману, его не было дома, отнёс листки; после к Славинскому,— они играли в карты; мы ушли и стали говорить. Отец принёс газеты, субботы и нынешние, и там я прочитал окончательно о том, что Роберт Блюм, член Франкфуртского Собрания, расстрелян в Вене[183], и о том, как единогласно во Франкфурте принято требование наказания всех, кто участвовал в этом поступке. Это меня взволновало, и теперь я об этом думаю: как Европа так ещё близка к тем временам, когда деспотизм осмеливался даже нарушать формы явно! Расстрел члена Собрания, без его ведома! Это ужасно, это возмутительно, моё сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который показал бы всему миру тщету и безумство злодейства; да падёт на их голову кровь его и прольётся их кровь за его кровь! И да падёт дело их, потому что не может быть право дело таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех! Господи, помилуй раба твоего, да воцарится он в жизни твоей! — Когда шёл от Славинского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам. Франкфуртское Собрание поступило хорошо, что выказало единодушие: я думаю, что из этого выйдет серьёзное столкновение и или решительно падёт центральная власть (чего не дай бог), или решительно поражена будет ольмюцкая партия,— и да будет поражена она!
Славинский всё толковал о Фанни Эслер — он был несколько раз в театре. Он хочет купить Гегеля. Что будет в Пруссии — неизвестно; верно Собрание победит, и дай бог.
15 [ноября]. — От Ворониных, у которых не получил, хоть думал получить, денег, пошёл, как думал, к Вольфу, где просидел до 4 час. с 11. Прочитал «Современник», XI, только не всё, а статью Майкова[184] — есть вещи хорошие и живые, как будто нося[171]щие что-то вроде мысли и волнующие мысль, но целое бог знает что и какая-то нелепица! Читал журналы почти все. Итак, Берлинское Собрание окончательно-таки поддерживает! Молодцы! Молодцы! И Франкфурт хорошо делает, что требует единодушно наказания за Блюма и проч. — После был у Вас. Петр., в 8 час. пошёл, пришёл в 10. Там говорили несколько о «Современнике», играли в карты. Когда пришёл, у нас был Ал. Фёд., который заговорил и о политике, и я-таки сказал о Блюме и что хорошо б, если бы повесили Виндишгреца, которому наши дали орден[185]. Молод, горяч и поэтому не мог удержать язык за зубами и когда говорю, то не могу удержаться от волнения чувства.
Когда шёл к Вас. Петр., был пожар, и когда я переходил переулок, который между Пяти углов и Гороховой, извозчик задел меня серединою оглобли, потому что я засмотрелся (огонь был в углу между нами и Семёновским плацом); я нисколько не смутился, решительно как бы спокойно, решительно спокойно, только без всякой обдуманности, так естественно, как естественно и без всякого расчёта двигаешь одну ногу за другой, когда идёшь не смотря ни на что, а так, само собою как-то, лёг на сани грудью, т. е. боком, между ног седоков (после увидел, что это были купцы, а то не обратил внимания) и, доставши голову извозчика (после увидел, что это был мальчик лет 18, может быть менее), взял его, сдвинувши шапку, за висок, весьма сильно стал не теребить волоса, а как захватил широко, всё сжимал, так что довольно много вырвалось и проехал в таком положении шагом сажен 15. Я встал, когда подумал, что довольно, и пошёл назад решительно спокойно, не сказав во всё время ни слова решительно. В этом открывается для меня ясно новая черта моего характера, что я теряю всякую обдуманность, т. е. боязнь или расчёт в такие минуты и делаю решительно безрассудно, решительно спокойно и холодно, ничего не видя, не думая, т. е. теряя голову или прибегая к её помощи. — Теперь вздумал, что подобное расположение было и во время Касторского экзамена — сердце ни разу ни ударилось. У Вас. Петр. ничего особенного нет. Завтра хочу быть у Корелкина и Михайлова братьев.
16 [ноября]. — Когда напился чаю, в 10 час., пошёл к Корелкину, чтоб оттуда пойти в Горный Корпус. Был снег. У Корелкина было скучно, потому что толковали о Матвееве и Академии Художеств, о Вологде и древних рукописях. Пошли было с Корелкиным в Горный, но, дошедши до 13-й линии, узнали, что он в 25-й, и поэтому я воротился, когда Корелкин хотел идти дальше, и так как шли мимо Соколова, зашли к нему. Корелкин отделывал его, мне было его жаль и поэтому я, заступившись за него, отделывал Корелкина.
В 2 часа был уже у Вольфа, где просидел 1½ часа и ничего не брал. Завтра снова буду, потому что весьма любопытно, во-первых, рассказ Фребеля, который воротился во Франкфурт, потом берлинские дела — суд признал министров виновными — и как го[172]рода примут декрет о неплатеже податей. — Тьер за Бонапарте; это нехорошо, по моему мнению, и, как говорят все лучшие газеты,— с противореволюционными целями, из него хотят сделать[186] émissaire; перебить парижан картечью и низвергнуть прежнюю династию, а самому править — это самохвальство.
Вечером был Ал. Фёд. и перед ним доктор, который сидел с час и который толковал Любиньке о том, что эта квартира очень дорога, вся цена ей 8 р. сер. Это было мне весьма приятно, и когда пришёл после Ив. Гр., очевидно было из их разговора, что тотчас, как Любиньке можно будет переходить, перейдут; это хорошо. Ал. Фёд. сидел и всё вёл разговор о политике, что мне было приятно, и я с удовольствием толковал ему различные вещи часа с два, кажется. После списывал конституцию и списал 1-ую страницу и 1 столбец (до половины 10 §) 2-й страницы. Читал «Библиотеку» за 1835 г., принесённую Ив. Гр. В критике более остроты, чем в нынешней её и менее узкости, хотя направление пошлое; так то сначала человек бывает нечто менее глупое, чем является впоследствии. — 11 часов.
17 [ноября]. — У Ворониных получил за 12 уроков 17 р. 15 к. 14 р. сер. отнёс после обеда Вас. Петр., 3 р. оставил у себя, чтоб заплатить было чем за головки Фрицу, который кстати взял их вчера: у меня обувь уже оплошала. Оттуда пошёл к Вольфу, где сидел без особенного удовольствия и почти ничего нового не узнал, кроме того, что есть у них «Revue d. d. Mondes». Завтра, если не будет лекций, снова там буду, если не будет лекций, то весьма долго буду. В 2 часа (думал, что уже было более, поэтому и ушёл) воротился домой, пописал конституцию; как пообедал, в 4 ч. к Вас. Петр., чтоб застать его одного,— и в самом деле Над. Ег. спала. Отдал, он ничего не сказал. У Элькана, говорит, верно не удастся; в театре, говорит, тоже, хоть справлялся ещё,— если б что-нибудь было, то хозяин уже сказал бы. Ив. Вас. не был у него с тех пор, как я его отделал. Я посидел не более 20 минут и ушёл; в 5½ был уже дома и почти всё время писал конституцию, дописал. Читал только «Библиотеку»; в «Отеч. зап.» статья о Кантемире[187] показалась весьма посредственной и без мыслей, впрочем, читал её слишком бегло, почти не читал вовсе. Утром сжёг большую часть конвертов, но некоторые остались, потому что спрятались между бумаг.
18 [ноября]. — Утром думал на-двое — будут ли, нет ли лекции? Если нет — посижу утро у Ворониных, если есть — в библиотеке. Всё-таки я зашёл к Вольфу на ¾ часа более приятные известия о новом министерстве в Пруссии. В библиотеке читать начал «Revue d. deux Mondes», 1844,— политическую историю,— весьма мало занимательного, только в начале 44 loi sur la dotation[188], как мне кажется, ясно выражено, что представлен Гизо по при[173]нуждению от короля и, как кажется, он сам не мог удержаться, чтобы не высказать этого. И было бы хорошо, если бы я убедился, наконец, что если что было не так, то это не так было не от него, а от короля, а Тьер, говорят тут, молчал через это целых полтора года. Итак, они вот как молчат иногда — этого я не знал: не говорят, когда не надеются получить успеха. Демократы (Гора) и социалисты, газеты говорят, примирились. Луи Блану тоже предлагают кандидатство[189], он принимает и письмо ясно носит на себе его всегдашнюю прелесть — обворожительно. — Великий человек, великий чувством братства к своей партии. — У Куторги говорил с Антоновичем о политических делах, это мне приятно. Вечером писал сначала две польские песни Срезневскому, а после писал table des matières[190] «Истории французской революции».
19 [ноября]. — Вчера за ужином взял читать «О смертной казни в политических делах», никак не мог удержаться не прочитать несколько строк (1½ страницы предисловия) Ив. Гр-чу. Он говорит: «Верно этот Гизо был филантроп»; это меня взбесило несколько, однако сначала только голову, а когда уже кончил спор (который был 2–3 минуты) — уж и сердце. Этакий народ: в голову ничего нельзя вбить нового и может держаться только теми пошлостями, которые удалось услышать в первой молодости (относительно к нему до выхода из Академии, потому что после уж «я самостоятельный человек и сам должен учить, а не учиться»), и все, кто говорит не общепринятую пошлость, фантазёры. И всего забавнее его притязание на знание человека и хода дел и того, как должно обращаться с человеком: он лучше Гизо знает, что возможно и что невозможно, что действительно полезно, что нет; это преуморительно!
Противополагать себя этим людям! Если говорю что-нибудь против общепринятых авторитетов, так ведь во всяком случае не приписываю же себе заслуги, что говорю по собственному опыту, что своим умом дошёл, а просто говорю: «Так думал раньше; теперь явились вот какие идеи и вот какое положение их в этом деле, и тот, кто не соглашается на это положение, не знает или не может понять, потому что одарён такою головою, что что раз взошло к нему в голову, то уже неспособно ни к какому развитию и видоизменению», и смешны для меня эти люди, которые так высоко ставят себя и своё знание дел,— а знание этого света всё состоит в том, что они видят, что вот люди, которых глупость часто сами они видят, делают по рутине вот что и думают, что через это они достигают того-то,— они после этого и заключают так; a делается для достижения b, следовательно, b достигается a, потому что как идёт, так и должно идти, и всё, что предполагают люди по рутине и по поверхностному знанию результатов в отдельном случае, прилагается к вещи вообще. [174]
Однако, я не стал много спорить, да и он ушёл курить трубку, и после тотчас я стал жалеть, что вздумал читать ему: я постоянно стараюсь удерживаться от всяких вообще разговоров с ним о чём-нибудь, в чём я убеждён и что относится к кругу того, на что он не согласен или даже на что и согласен,— не стоит, потому что с презрением слушает, как от молокососа, и только внушаешь ему о себе странные понятия, чего я вовсе не любитель.
Из университета может быть пойду к Вас. Петр., может быть, и скорее нет,— а скорее пойду.
Свои листочки, на которых записываю лекции, с начала года носил в Helmoldi выписках, а когда кончил Срезневского и Helmoldi почти весь разорвался по сгибу — в своей риторической задаче о речи pro Milone.
Это всё писал у Фрейтага; решился ничего не говорить с ним, ровно ничего. Когда, как ныне, забуду дома Светония, весьма неприятно, потому что может быть, что Фрейтаг заметит и войдёт в объяснения, которые я ненавижу, потому что мне всё кажется, что честь от этого страдает. Против Терсинских снова у меня какое-то тайное желание схватки или в этом роде; всегда, когда нужно зажигать мне особо себе свечу, жду, что скажут что-нибудь, хоть знаю, что не скажут, и отчасти мне это было бы приятно: я промолчал бы, а нето купил бы себе особо свеч.
Да, должно сказать, что когда я в первый раз в этом месяце (около 9-го, что ли) читал у Вас. Петр. «Отеч. записки» № 11, там прочитал я о термометре с часовым прибором, который проводит под карандашом, который двигается сообразно изменениям термометра, бумажку, которая там; сделаны часы недельные. Это самое думал сделать я, только вместо Брегетова термометра, как там, кружащегося, я думал употребить просто длинный металлический (цинковый) прут, один конец которого прикреплён, а другой растягивается и сжимается, и к которому приделан карандаш. Это вздумал я довольно давно и постоянно придумывал усовершенствования. Основная мысль (прибор часовой) родилась, я думаю, месяца 4 назад, как следствие случайной мысли о приделке карандаша к ртутному термометру, что в первый раз пришло в голову ещё, когда раз дожидался Троицкого для бабеньки (лет шесть назад), в чём теперь у меня отнято обоснование.
У Устрялова. — Устрялов сказал, что у Гизо везде двоится в глазах, везде двойственность, две причины, два следствия и проч. — Не знаю, где эта двойственность, постараюсь заметить — и что, наконец, это становится приторно и этому подражал Полевой в своей истории.
У Куторги. — Когда переставляли скамьи, сходил в шинельную, чтоб сходить на двор, воротился — свертка Лыткиных лекций Срезневского, которые принёс отдать ему,— их нет. Где? Сердце дрогнуло; взглянул мельком в IV аудитории — нет; вниз побежал — нет; в XI аудиторию, где сидел у Устрялова — нет. Сердце дрогнуло: ну, что теперь? Должно писать снова для Лыт[175]кина, да кроме того, репутация растеряхи. Наконец, воротился в IV, взглянул, не надеясь найти, в скамьи — он там, где я хотел сесть. Чрезвычайно приятно, что нашёл — тотчас же отдал Лыткину с многими благодарностями.
20 [ноября]. — Утром пришёл Фриц, принёс сапоги, я ему отдал 3 р. сер.; он хотел после зайти, чтобы сделать калоши, которые сам увидел он, что худы. Принёс записку от Ал. Фёд., что у него есть «Отеч. записки» и «Débats», чтоб я пришёл, поэтому я пошёл, просидел почти до 12. Сидеть у Вольфа долго было нельзя, поэтому я зашёл на минутку, почитал — ничего нового, о новом прусском министерстве ещё ничего. Оттуда в университет за письмом — повестка на 50 р. сер. Я отложил до понедельника. Ивану Гр. или [на] платье? Конечно, скорее первое, но ныне уж было поздно. Когда пришёл, читал «Отеч. записки» № 10 и прочитал Светёлкина[191]. Всё остальное — не слишком (я читал последнюю половину книги, а первую ещё не читал, и о последней только говорю). В «Débats» 11–13 ноября тоже ничего нового нет.
21 [ноября]. — (Это писано 22-го в вечеру.) С 20-го на 21-е читал «Отеч. записки» до 3 часов. В воскресенье читал «Отеч. записки» все и всё прочитал. Был Ал. Фёд. вечером, сидел недолго. В эти дни Терсинские сказали, что у них нет денег, и что было у меня, я отдал всё почти, т. е. целковый в субботу и ныне поутру 50 к. сер. В воскресенье всё утро просидел в кондитерской, читал между прочим «Revue d. d. Mondes» 1 октября, где о датском вопросе,— нового почти ничего не узнал. Ал. Фёд. спрашивал, есть ли у меня деньги, хотел занять.
22 [ноября], 10 час. вечера. — Расположился уйти раньше, чтобы раньше прийти в университет, взять там повестку, а после к Ворониным, чтоб не делать два пути вместо одного, и сделал три вместо двух, потому что не было подписано и должен был ходить во вторую лекцию, чего не хотел, во-первых, потому, что лень, во-вторых, потому, что хотелось лучше читать «Revue d. d. Mondes» 1844. Думал, что там все мне присланы деньги — и для этого в особом письме, на одежду, вышло нет. Решился сшить брюки без всякой борьбы и сомнения, во-первых, потому, что эти худятся, во-вторых, чтоб, наконец, хоть раз могли бы Терсинские видеть, куда я употребляю деньги. 9 или 10 р. сер., конечно, Вас. Петровичу из 20, которые присланы мне. У Устрялова почти ничего не записано, потому что почти всё знаю и почти всё есть в книге.
У Срезневского был попечитель, и Срезневский, говоря о наших, без имён, но очевидно наших и древних, хоть в новых рукописях, проповедях, сказал: «Вот, напр., „Слово христолюбца“, которое списал для меня г. Чернышевский, там то-то и то-то». После лекции попечитель сказал с ним несколько слов, вероятно спросил: «Так Чернышевский делал кое-что для вас?» Срезневский отвечал: «Весьма много», а может быть и просто «много» — по крайней мере, я расслышал хорошо одно последнее это слово, подо[176]шедши в эту самую минуту к первой скамье на левой стороне (я сажусь всегда направо на вторую, чтобы попечитель не был у меня в глазах и я у него, потому что кресла его слева от кафедры, конечно, ближе к входу). Однако я думал, что я продолжаю быть у него на дурном счету и что он скорее, чем к другому, обратится ко мне с замечанием о пуговицах, волосах и т. п. (В промежутке этого ужинал.) — Попечитель сказал мне, подвинувшись ко мне на шаг: «Я должен передать вам, г. Чернышевский, что г. Срезневский весьма доволен вами». — Я не слишком заметно и, кажется, с заметною неохотою поклонился несколько и сказал, что весьма благодарен,— чего мне не хотелось говорить. — Итак, теперь я у него на хорошем замечании, хотя, конечно, гораздо после Корелкина и Лыткина. Вот ещё доказательство того, что вообще мы ошибаемся, если думаем, что нами так же занимаются другие, как мы другими: я думал, что попечитель помнит и хранит на меня неудовольствие, имеет ко мне антипатию, как я к нему,— разумеется, нет. И теперь, кажется, у меня будут гораздо реже приходить мысли о том, как я ему дам пощёчину и проч., которые весьма часто бродили в моей голове; всё это вздор — благоволение и неблаговоление других к нам; должно предполагать всегда в других индиферентизм, который всегда готов на то и [на] другое.
Мне было неприятно, особенно в ту самую минуту, что попечитель это говорит мне: во-первых, ставит меня в ложное и неприятное положение к себе, во-вторых, снова перед студентами резкое напоминание о моих отношениях к Срезневскому.
Когда выходил, получил письмо от своих, ещё и от Алексея Тимофеевича. С час посидел у Вольфа; нового ничего. Дорогою шёл с Славянским, который рассыпал комплименты, как преемнику Дон-Жуана — довольно, по моему мнению, мило и умно. Едва ли это слово попечителя не произведёт мало-по-малу в моих мыслях и расположении к нему перемены и не заставит смотреть как на бестолкового добряка решительно; это я и раньше думал, но раньше выставлялся элемент грубости, теперь, может быть, выставится элемент доброты. Посмотрим, какие будут следствия; хорошо, если я [не] окажусь подлецом.
Читал Гизо о смертной казни, прочитал до 80 страницы,— около 50 страниц, конечно, спал тоже, потому что как лягу — конечно, усну, и дочитал «Débats» [за] 10–13, потому что завтра отнесу вместе с 3-й частью Беккера, которую просил Ал. Фёд. и которую завтра принесёт Залеман.
23 [ноября], вторник. — Идя в университет, зашёл к Шмиту у Каменного моста, его не было дома (в 9 ч. 20 м.). Я в библиотеку, где пробежал Chronique и после статью о Гётевской поэзии, о de Sallier[192]. У Никитенки должен был читать снова о Гёте, чего не думал, прочитал всего две страницы, потому что всё толковал с ним,— другие никто не вмешивались; он сказал, что [177] для объяснения убеждений Гёте хорошо бы разобрать вторую часть «Фауста», чего ещё никто не мог, и поставить в параллель с ним Байрона. К концу лекции пришёл попечитель, как будто б нарочно, чтобы снова во второй раз застать меня в деятельности. Это мне было ровно ничего, только, конечно, неприятно, и хорошо, что у [него] завязался разговор с Никитенкой о Жуковского «Одиссее». Я при нём почти ничего не читал. Куторги не было, я пошёл вниз, и когда надевал шинель, вдруг вижу подле себя Ханыкова, который сидел у Никитенки. — «Вы, кажется, читали у Никитенки?» — «Я». — «Так вас сильно интересует разгадка характера Гёте?» — сказал он мне. — «Да, конечно, сильно». — «Ну, так это сделано уже в науке». Я думал, что он говорит что про Гегелеву школу, и сказал несколько неловких слов, невпопад. — «Нет, у Фурье, который нашёл гамму страстей, 12 первоначальных и их сложение, которое составляет основу всякого характера». — Мне должно было идти по Невскому, чтобы взять у Залемана Беккера 3-ю часть, и он, толкуя мне учение Фурье, прошёл до Фонтанки, после мы воротились, и он пошёл по Конюшенной. Прощаясь,— и раньше,— он звал меня к себе в субботу вечером в дом Мельцера в Кирочную — «Если хотите, я дам вам Фурье». Говорил с жаром и убеждением беспрерывно всю дорогу, говорил иногда весьма умные мысли для объяснения его, напр., как он пришёл к этому «не через отвлечённости, а через то, что обратил внимание на земледелие, увидел, что помочь ему лучше всего через ассоциацию, но как попробовал осуществить её, был поражён тем, что 2–3 семейства не могли никак ужиться вместе, и начал исследовать, почему это», и проч. Мне показалось странно, что он так скоро начинает говорить и объясняет с такою ревностью; эта ревность как будто бы немного бестолкова. — Вот что значат дурные привычки: они заставляют подозревать в глупости за то, что доказывает только ревностное, горячее убеждение в истине и веру в то, что она должна распространяться, что всякий, признающий её, должен быть апостолом её. — Я у него буду.
У Залемана взял; после домой; в 4 часа к портному,— между прочим, потому не откладываю до завтра, чтоб поспело к субботе, к Ханыкову. Оттуда к Вас. Петр.; посидевши при ней с ¾ часа (у них сначала была хохлушка довольно забавная и бойкая, прачка, которая приносила бельё, после играли в карты), я попросил проводить себя, чтоб отдать. Он пошёл, и когда мы прошли переулок, я хотел проститься. — «Нет, я вас провожу ещё, мы долго не виделись»,— сказал он тоном от сердца и проводил до конца линии. После мы снова дошли до угла, раз с полдороги повернувши снова назад, потому что вперёд нас вышла из ворот женщина и пошла впереди. — «Жизнь, говорит, для меня весьма тяжела, весьма тяжело это положение, сам не умею сказать — отчего, Надя мне почти в тягость и сам, признаюсь, ей в тягость» (мне кажется оттого, что, во-первых, положение его тягостно, во-вторых, потому что она неразвита умственно, это, конечно, тягостно [178] не по-другому, а нравственно); «не знаю, как теперь разделаться с нею; продал кольцо своё и её подвески и теперь не знаю, как выпутаться,— сказал, что отдал поправить. Хорошо, что она мало на это обращает внимания».
Вот как он нуждается и она, а ничего не говорит. Ему хочется видеться со мною, а я не исполняю того, что сказал ему, что перейду от Терсинских,— это всё моя деликатность или нерешительность, которая заставляет дожидаться конца Любинькиной болезни. Слова его произвели довольно сильное впечатление на мою голову, но я слушал сердцем спокойно.
Воротился домой в половине 7-го, после чаю в 8½ лёг читать и уснул до ужина, 10½, потому что был утомлён ходьбой. — Никитенко сказал, больше как комплимент, что у меня логический, строгий порядок и простота; главное, что это. Это мне приятно, хотя я слова эти принимаю решительно как комплимент и нисколько они меня не радуют.
Что-то будет из этого начала знакомства с Ханыковым? Рассохнется оно или превратится в обращение меня в фурьериста — что-то бог даст? Кажется, моя трусость и нерешительность и несмение оставить прежние понятия, которые привились ко мне, заставят меня остаться в таком же положении в этом отношении, как и теперь, что основание: «страсти обыкновенно законны и привести только в гармонию» — истина, а остальное большею частью мечты: особенно подозрительно, что их 12 — число слишком подозрительно, как бы не из природы найденное, а натянуто для 12 звуков в музыкальной гамме, а если так, то, конечно, человек, делающий такие натяжки,— человек фразы.
24 [ноября]. — У Ворониных не было урока,— это меня, однако, не взбесило, а так, ровно ничего,— мать именинница. Время в то провёл кое-как в университете; несколько ходил по коридору, где шкапы, и сидел большую часть в сборной. Куторги снова не было. Никитенко, показалось мне, почти всё смотрел на меня. Как пообедал, в 4 часа к Вольфу, там слишком много было и не мог дождаться [газеты], поэтому через полчаса ушёл и зашёл, в намерении только посмотреть, потому что думал, что там ещё более народу, к Излеру,— напротив, почти никого в той комнате, где читают, и гораздо тише, только сначала двое мальчишек — один студент, другой в фуражке — мешали своим разговором. Там вместо «Gaz. de France»[193] — «Presse»[194], что, конечно, лучше. Я просидел там с 5 до 8¼, прочитал весь «Débats» 26 ноября, где только всё отчет этот в interpellations[195], и два номера, 26-го и 27-го, «Presse» и проч. Новости: в Бранденбурге нет beschlussfähige Zahl[196][197] — это хорошо. Кавеньяк, сколько мне кажется, педант по своему образу действий, которого педантство стоило крови, и вместе с тем коварный честолюбец, который через это хотел и успел возвы[179]ситься. Мне кажется, что нападающие решительно правы. — К Олимпу Як. оттуда, он спал; к себе — уснул также. Кофе у Излера лучше, чем у Вольфа.
25 [ноября]. — Утром отнёс Ал. Фёд. «Отеч. записки», оттуда в библиотеку, где читал «Revue d. d. Mondes». Большая часть их возгласов против социалистов показалась глупа, особенно, напр., Limayras о «Парижских тайнах»[198]. Когда воротился домой, стал читать [за] 14-19 «Débats», которые взял у Ал. Фёд., хоть его не было дома. В 5½ пришёл Вас. Петр. — ничего нет. Он сказал: «Пойдёмте к Залеману». В 6¼ пошли, посидели до 7 часов в пассаже, почти ничего не говорили там, а говорили дорогою туда. Он говорил, что ему досадно, что Ив. Гр. смотрит на меня, как на мальчика, и что должно быть он меня не любит, потому что сознаёт моё превосходство перед собою. Последнему-то я не верю, а первого не знаю. У Залемана сидели, потому что мать праздновала ныне свои именины. Оттуда в 7½ пришли ко мне, Терсинские напились чаю, но Любинька спросила тотчас, пили ли; между тем как я, когда шёл, готовился употребить свои initiatives[199] — так мои враждебные расположения вообще глупы и дурны. Вас. Петр. говорил довольно много дорогою об Ив. Гр. и его нелюбви ко мне. Я ему сказал, что не хочется мне теперь перейти, потому что им нельзя переменить квартиру, потому что Любинька больна и они говорят: «Мы нанимали, чтоб жить вместе, а теперь для нас одних дорого». Так от слабости характера я всегда лгу: я говорил в таком тоне, как бы решил, что перейду от них, а сам решил только, что перейду с этой квартиры, вместе [с ними] или нет — всё равно. Из всего поведения его у меня родилось подтверждение мысли, что он aegre fert[200] , что не с кем ему говорить, и поэтому — довольно, однако, не твёрдо ещё — решился расстаться с Терсинскими. Само собою разумеется, что хозяйственные хлопоты мне неприятны, но равно неприятно и то, что, живя с ними, я лишён всех наслаждений дома, особенно наслаждения едою, без которой нет наслаждения чтением, и наслаждения говорить с Вас. Петр., да и вообще как-то стеснён. После я его проводил до квартиры тестя, и говорил он о том, что в каком-то ложном положении к родным, что они теперь узнали от какого-то, кажется, студента, который бывает у Ник. Сам., что он не бывает в университете, и сообщили это Над. Егоровне. Конечно, есть у меня мысль, что он говорит отчасти об Ив. Гр., и потому, что ему неприятно, что я живу с ними, но, само собою, я эту мысль отвергаю, как недостойную его и себя. В воскресенье буду у него с Залеманом утром, он у меня вечером. Вечером, когда он ушёл, читал объявления в «Débats» и захотелось купить «Almanach républicain», который издает Montagne, и поэтому ныне утром заходил к Исакову, но ещё не получены [180] альманахи здесь. Снова несколько захотелось узнать, что делается в Пруссии. — Это всё писано в пятницу у Фрейтага.
26 [ноября]. — Не знаю, может быть буду завтра у Иринарха. Между прочим, кроме того, что приятно познакомиться с ним, пришла мысль, что может быть полезен для Вас. Петр., только не знаю,— кажется, через меня пользы никому нельзя дождаться. А может быть и не буду, как случится. Когда ложусь и встаю, несколько думаю о моём свидании с Ханыковым.
Получил повестку на 50 руб. сер., думаю, что несколько и мне, и, конечно, Вас. Петровичу назначил; дал швейцару 30 к. сер. К Устрялову пришёл Вас. Петр., посидел и у Куторги. Когда мы сошли вниз, я пошёл в шинельную, он остался в сенях. Выходя оттуда, я увидел Ханыкова и подал ему руку и должен был идти с ним, а Вас. Петр. не пошёл с нами, а сзади. Ханыков повторил, чтобы я пришёл к нему в субботу, и сказал, что он хочет просить меня прочитать у Никитенки о страстях из Фурье, статью, которую написал он; я сказал, что очень хорошо. Он пошёл на Невский, я в Гороховую и на Адмиралтейском бульваре мы разошлись. Я догнал на углу Гороховой Вас. Петр., сказал на его вопрос, что это за человек со мною шёл, зашёл к портному, а Вас. Петр. в это время в лавку за сахарным песком. Брюки не готовы, поэтому я решил, что не буду у Иринарха Ивановича, у которого думал быть на его именины, чтоб возобновить знакомство. Пошли после снова вместе до Семёновского моста, после повернули по Фонтанке, ведя его; он проводил меня — видно, что ему хотелось подольше говорить со мною; после пошли через пустое место вроде прохода, которое вывело к углу Казарменной площади и Загородного проспекта, здесь расстались.
Он сказал, когда мы шли к Семёновскому мосту, перейдя Садовую: «Ну что, если у Нади родится дитя, что с ним делать? задушить?» — Это на меня произвело впечатление только на голову, показавши всю безнадёжность, в которой он считает себя, и в самом деле я думал уже о том, какое новое обременение будет, если в самом деле родится, и несколько в самом деле и в настоящем обеспокоился, потому что я думал, что есть уже признаки беременности. — «А разве родится?» — «Да почему же нет?» — Нет, я думал, он сказал это так, в раздумьи об этом, как и я, а не потому, чтобы уже было заметно что-нибудь. Я задал себе вопрос, когда шёл один: «Если бы в самом деле он сделал то, что сказал, как и я сам говорю такие вещи всегда, то стал ли бы я гнушаться им, или бы решительно извинил его и только стал бы видеть в нём человека, ещё более угнетённого судьбою, чем как до сих пор даже я предполагал?» Я думаю, что конечно последнее, а первое глупо. — От Ворониных когда шёл, не устал против обыкновения; пришедши домой, всё-таки, когда лёг читать, уснул. — Это писано в субботу в 5¼ после обеда, перед тем как идти к Ханыкову. Продолжаю нынешний день.
27 [ноября] 5½ веч. — Утром хотелось получить деньги, не хо[181]дя лишний раз из университета; и пока ещё не должно ждать. Поэтому не был у Фрейтага, который, как нарочно, как после узнал, ныне переспрашивал всех по списку, кто где учился, как у него есть эта манера. Письмо не распечатывал до половины 3-й лекции. На 3-й лекции читал начало статьи о молодости Benj. Constant. Его письма меня очаровали, как автобиография Гёте — это решительно Вас. Петр. во многих отношениях, между прочим по своей страсти к путешествиям. Замечания его о характере большею частью показались пошлы, т. е. писаны в духе мещанской морали. — Деньги все Любиньке. Когда пришёл, отдал письмо, она стала плакать, что присылают столько денег. Меня это тронуло, однако, весьма мало, потому что эта любовь её весьма бесплодная, ограничивающаяся тем, что отвергает возможность говорить; «Я не слишком люблю их», но более тронула маленькая записочка папеньки, приложенная к этому письму для меня, чтобы я сошёл с квартиры от них решительно.
Заходил из университета к Вольфу — ничего нового. В понедельник буду у Излера, 1 числа вечером у Вольфа. Читал «Отеч. записки». — Бездействие и нерешительность Франкфуртского Собрания мне не нравятся[201],— кажется, оно должно было бы понять, что, произойдя из воли народа, против воли правительств, оно и должно, если не хочет осудить себя на смерть, стоять с народами против правительств, да и совесть должна принудить бы его к этому; если незаконно делает народ теперь, незаконны и те его акты, которые дали бытие этому Собранию. — Что оно? ни да, ни нет, в прусском и особенно австрийском деле. По-моему, должно послать комиссаров с полномочиями требовать, чтобы без их согласия ничего не делалось; одним словом, действовать в том роде, как требует левая сторона, а то эта мелочная осторожность, желание не компрометировать себя, ладить со всеми — э, так нельзя жить. Прусское правительство подлецы, австрийское — подлецы, но этого названия для них мало, я не нахожу слов, чтобы выразить то отвращение, которое я питаю к убийцам Блюма. — В последние 2–3 недели, а может быть и более, я жалею, что нет человека, который бы умел править всем этим великолепным движением умов, что нет Мирабо ни в Германии, ни во Франции. Росси мне жаль, хоть я ничего не знаю о нём и далек от того, чтоб осудить его убийц[202], между тем как Латура решительно было не жаль, как и Лихновского, потому что Росси человек известный, человек умный, учёный, не нуль пошлый, как эти господа.
11½. — У Ханыкова просидел с 8 до 10. Он человек умный, убеждённый, много знающий, и я держал себя к нему в отношении ученика или послушника перед аввою, как держу перед собою, напр., Славинского. Он дал мне «Phalange»[203] четыре номера, какие — запишу после, «Paris révolutionnaire» 1838, который я начал сначала читать — хорошо довольно. Ханыков весьма мил, знакомил меня с новыми общими идеями (не о фурьеризме только говорю я, а вообще) и дельный человек, ужасный пропагандист, но [182] мирным путём убеждения; кажется, я свяжусь с ним; он нисколько не увлекает меня, но теперь я его уважаю, как уважаю человека с убеждением и сердцем горячим. Ложусь.
28 [ноября]. — Утром дочитал «Débats» и начал читать лёжа статью Фурье о космогонии. Первое, что я начал читать в «Phalange» — примеры и приложения идей,— кажутся странны или смешны почти мне, может быть потому, что я невежда в этом и не знаю путей, которыми получены они, напр., что бык порожден Сатурном, осёл — Марсом и проч.; но основа идеи решительно, кажется, справедлива, что каждое тело небесное имеет свои отправления, состоит во взаимодействии с другими телами и проч., что это взаимодействие не ограничивается тяготением, а есть много и других процессов между ними, которые незаметны для наших чувств.
В 3 часа к Вас. Петр. Он говорил о себе с большою безнадёжностью, и заметно, что наконец ему становится невтерпёж. — Не знаю, что мне здесь делать; сердце, однако, холодно. Завтра, может быть, обращусь к Срезневскому, что ни будь. — Когда пришёл, у нас был Ал. Фёд., мы толковали о политике; после пришёл Горизонтов, священник, и Ал. Яковлевич, толковали. Горизонтов показался не так непогрешимо умён, как в первый раз, и не так мил, но всё-таки в довольно высокой степени. После Ал. Фёд. остался (Ив. Гр. не было дома и разговор поддерживал Ал. Фёд. по большей части о семинарии) и стал спрашивать у меня анекдоты из римской истории, которые написаны в скобках косыми буквами у Смарагдова. Я, нисколько не тяготясь, говорил ему, правда и без большого удовольствия своему самолюбию, но без обременения, говорили до 10 часов. После я стал переводить, чтобы прочесть Никитенке во вторник о «Фаусте» и проч., из «Фаланги» и перевёл введение до «I». После ужинал, теперь ложусь. Перевод писал полно, а не с сокращениями.
29 [ноября]. — Положил, что ныне буду у Излера, и был после обеда, как думал. Утром после Ворониных не пошёл в библиотеку, а в XI аудитории сел на самую заднюю скамью посредине, для того, чтоб, если войдет кто из знакомых, успеть спрятать книгу, и начал переводить из «Phalange» о характерах. Сходя по лестнице, сказал несколько слов мне Никитенко, что мне было приятно, хотя слова эти состояли в том: «какие у вас сегодня лекции?», «так вы ещё не успокаиваетесь,— а я вот уже успокаиваюсь» — и только, но всё-таки приятно, что стал говорить. Срезневского не было. Дома переводил, в 4¼ к Излеру, там посидел с удовольствием-таки до 8¾; после к Александру Фёд., которого, как и знал вперёд, не застал; после [к] Ол. Як. — тоже; после, до этого времени (11¼), переводил и теперь остаётся только 2½ страницы, потому что уже кончил 145-ю и теперь следует: «Que cherchait donc Alceste? » Маленькое сомнение у меня: ведь это против общепринятой системы нравственности, и совестливость прочитать такие мысли несколько тяготит, однако, весьма мало,— эмансипация страстей и проч. — всё равно, думаю, что завтра непременно буду читать. [183]
30 [ноября]. — Проснулся в 7, в 9 кончил перевод и в 10 пошёл в университет, написавши письмо. Был снег, не протоптанный ещё, и резкий ветер; было скверно. Перейдя Исаакиевский мост, встретил Ханыкова, которому сказал, что перевёл, и сказал, что лучше, если он будет у Никитенки. Я хотел, как он войдет, сказать, чтобы позволил после себя прочитать одну вещь, потому что я знал, что он хотел принести ныне темы и говорить о них, но думал, что успею сказать это и что тогда он сократит свою речь. Был Вас. Петр. на лекции, может быть, для того, чтобы послушать «об эгоизме Гёте», которое он говорил, чтоб я прочитал ему, а я не прочитал ему, а может быть потому, что нужно поговорить с Залеманом об Элькане, и потому, что был уже в этих краях. Место уже назначено почти человеку, ничего не стоящему, дожидались кандидатов две недели, не было. Встретил у входа в VI аудиторию Ханыкова, стоящего с Фурсовым, который согласился справиться о деле; потолковали кое о чём, о Михайлове и проч., который приедет в феврале. Никитенко говорил всё время о темах; я положил листки на стол перед собою и показывал, может быть довольно заметно, нетерпеливый вид; вошёл он в аудиторию весьма быстро, так что мы стояли у дверей и увидели его только, когда он подошёл, и я, идя впереди его, только обогнул стол от стены и обернулся, как он уже начал говорить. Я думал, что если и не удалось сказать, то, может быть, он заметит, что у меня бумага, и кончит скорее, но надежды разрушились, когда я увидел, что остаётся только уже полчаса и ещё три темы разбирать из семи. Дело проиграно. Я смотрел с сожалеющим недовольным видом на Ханыкова и после сказал ему об этом несколько слов. Сначала решительно слушал Никитенку, после менее, потому что думал о том, что не удалось сделать по душе Ханыкову.
После дома спал; после говорил с Любинькою, так как Ив. Гр. был у Зуровых. Мне было несколько неприятно оставить её скучать, и я говорил о свадьбе Шатобриана, [про] которую вчера читал в «Presse», об электрическом освещении, и наконец, читал отрывки из первой статьи IV тома Paris révolutionnaire[204], который дал Ханыков, где сцены из заговора Tories[205], те сцены, где король и проч. радуется, что он s’avise conspirer[206]. Ей понравилось. Деньги хозяевам отдали ныне за месяц или до января. Итак, ещё месяц жить здесь или вместе с ними, если не захочу перейти, более не хочу. Читал вечером март — апрель «Фаланги» — lа question religieuse[207], что-то вроде «Маяка», хотя есть дельные мысли, напр., что в Евангелии нет ясных мест о боге, как существе бесконечном, и что если мы говорим о нём в науке, то как о существе, которое состоит в отношениях с конечным, только поэтому круг действия которого конечный. После необходимость науч[184]ной реформы — правда, Ассоциация делателей науки, и хорошо развита необходимость. Теперь прочитал до 235 стран.
1-го [декабря]. — Фишер показался на лекции ещё пошлее и недалече, чем в прошлый раз. Когда шёл из университета, было так холодно, что я не захотел к Вольфу после обеда и спал до чаю. После читал о новом административном праве в май — июнь, потому что там говорится о сериарном законе, который основа учения, поэтому стал раньше других статей читать. Что основание, крылья, переходы — это всё решительно так, это я и раньше думал, что исключения — индивидууму, образовавшемуся под влиянием 2 законов, это решительно так; в религиозном вопросе в этой книжке что мне более понравилось, чем в март — апрель, хотя, конечно, не бог знает как — Фома Мюнцер: превосходный взгляд, решительно мой.
В желудке было нехорошо, поэтому чай вечером пил без хлеба и не ужинал. Теперь 10¾ и через четверть часа лягу, а теперь начну читать июль — август. Да, утром прочитал библиографию и смесь во всех книжках, которые начал читать вчера вечером.
Когда шёл к Ворониным, снова несколько думал о своей машине, и мелькала мысль расположением известным образом магнитов устранить неравномерность, при различной глубине во время круговращения, веса столба воды.
2-го [декабря], 11 [час.]. — Было менее холодно, чем вчера, и я сумел, особенно когда шёл в университет, весьма хорошо закутаться, так что уши нисколько не озябли. Теперь во второй раз зимою ходил без калош, между прочим по экономии; не достанет, ли этой пары сапогов и старых калош до лета? Конечно, нет, но всё-таки. В университет пошёл в 10½; не пошёл к Грефе, как и хотел, а в библиотеку, где читал «Revue d. d. Mondes» критические статьи Limayrac’a — пошлость, так же, как и замечания о бездушии, непостоянстве и проч. отсутствии принципов у Бенж. Констана. Чудаки,— они думают, если человек в негодовании говорит; «я не верую, люди подлы и глупы», так это в самом деле потому, что он менее их одарён душою, жаждущей верить, любящей человека, а не потому, что, напротив, у него эти силы жаднее ищут удовлетворения и что горше для него несообразность действительного с разумным?
Когда сидел, Залеман сказал, чтоб если я буду у Вас. Петр., сказал бы ему, что в 11-й линии Тарасов (в собственном доме) ищет переводчика; я решился идти к нему, от него к Вольфу, проводив его к Залеману. Но я ещё обедал, как вошёл он, просидел 1¼ час. Мне было досадно, что присутствие Терсинского его стесняет и меня тоже,— перейду, как будет можно. Ушёл в 5¼, я уснул; проснулся в 7½ пить чай, после читал (да и раньше тоже) «Phalange» — никакого сравнения с «Revue d. d. Mondes», которое довольно надоедает своими «умеренными и благонамеренными» мнениями — точно Булгарин. В субботу, может быть, отнесу эти книги Ханыкову. [185]
3-го [декабря]. — Вас. Петр. вчера, напр., говорил, что моё присутствие стесняет Никитенку, как опасного судьи, и что он менее позволяет себе высказывать свои мнения, которые считает подозрительными, при мне; что, напр., когда он, как пришёл, сказал, что выходит весьма хорошая книга, грамматика Давыдова, я тотчас сказал: «Конечно, не знаю, следует ли это сказать, но, судя по имени автора, ничего слишком хорошего нельзя ожидать». Это, говорит, его сконфузило, потому что он уважает Давыдова — как же так ниспровергать его авторитеты? Я отвечал, что, вероятно, это не так, что Никитенко смеётся над ним, как человеком устарелым, поклонником Батё. И вообще, напр., Вас. Петр. говорит, что Ив. Гр. стесняется моим присутствием потому, что сознаёт моё превосходство над собою. Мне приходит сомнение в голову, не лесть ли это от него — может быть, по простому искушению польстить, сказать приятное человеку, а может быть по нашим денежным отношениям. Конечно, последнего, как решительно недостойного его, я не принимаю, но сейчас пришла в голову мысль, что какое же сомнение в друзьях заставляет нас питать богатство, могущество и проч., когда уже мне приходят в голову такие мысли.
К Терсинским в последнее время снова какая-то странная вражда, так что мне кажется, что с минуты на минуту должно ждать какой-нибудь схватки (точно так же, как, напр., и с Фрейтагом, у которого на лекции пишу это), и когда я в одной комнате с ними, принимаю мрачный вид, который должен бы быть смешным для того, кто знал бы это, смешным потому, что едва ли есть какие-нибудь в этом роде намерения и чувствования у них. Когда, напр., я зажигаю свечу, я всегда ожидаю, что скажут что-нибудь вроде, что можно бы сидеть всем вместе, и знаю, что если это скажут, то Любинька, и без всякого дурного намерения, и что если скажет, то я промолчу, потому что не люблю связываться, а между тем всё-таки готовлюсь дать отпор. — Смешно, всё равно, что жду сражения с Фрейтагом, которого от души как-то не то что не люблю, не то что презираю, а и то, и другое вместе понемногу. Напр., ныне, когда шёл сюда, когда дошёл до Чернышева моста, вспомнил, что не взял листочков из Светония и что он это может заметить — знаю, однако, что не заметит — и сказать что-нибудь в этом духе: «Что, у тебя нет?» — и когда шёл, большую часть дороги думал о том, как ему отвечать на это: «Noli, quaeso, res alienas», или «ea quae nihil ad te spectant scrutari»[208] или «Моneri non (и вздумал, что собственно должно сказать minime) amo»[209].
Напишу что-нибудь про «Phalange». — Что говорится об ассоциации — кажется решительно справедливо, только бог знает, le travail attrayant[210] каково,— и потом мешает несколько предрассудок относительно Луи Блана, которого мысли, ещё кажется мне, должны быть решительно справедливы и про которого говорят [186] они: «один писатель, которого, однако, не все принципы мы принимаем».
Завтра отнесу книги Ханыкову, если увижусь ныне с Вас. Петр., который может быть будет в университете, если нет — нет, потому что я сказал вчера, что буду у него в субботу вечером, а если так, то слишком устану. Если увижу, так скажу ему, что лучше буду в воскресенье, чем в субботу. Прочитываю в этих книгах почти всё, кроме рукописей самого Фурье, потому что теперь читать их бесполезно, не читавши его сочинений, при жизни изданных, в которых те мысли, на которых он основывается здесь. У него, однако,— я прочитал рукопись в двух, я думаю, книжках — ясно виден ум весьма самостоятельный, поэтому очень сильный, хотя, так как я не знаю путей, по которым доходит он до результатов, результаты если не очевидно справедливы — странны.
Ныне может быть буду у Вольфа, а скорее не буду из университета, а домой. Вот и мало пишу, и в голову идёт мало.
Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmer mehr!
Wo ich ihn nicht hab,
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.
Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armes Herz
Ist mir zerbricht,
Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh’ ich
Aus dem Haus.
Sein hoher Gang,
Seine edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,
Und seiner Rede Zauberfluss,
Sein Händedruck,
Und ach! sein Kuss!
Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmer mehr.
Mein Busen drängt
Nach ihm sich hin:
Ach, dürft’ ich fassen
Und halten ihn!
Und küssen ihn
So wie ich wollt’,
In seinen Armen
Vergehen sollt’! [211]
Когда я это писал, меня как-то расшевелили сердцем эти стихи, как довольно давно уже не шевелили, я читал их официально, более ничего, а теперь почувствовал особенно последние куплеты, потребность странной любви. Когда я их читаю, всегда приходят мне в голову слова Веры у Лермонтова: «Вы, мужчины, материалисты и не понимаете блаженства взгляда, пожатия руки! А я, когда слышу звук твоего голоса, ощущаю такое глубокое, странное блаженство, какое не доставляют самые страстные поцелуи».
10½. — У Устрялова был Вас. Петр. и у Куторги,— верно невесело,— и после мы пошли вместе до Семёновского моста. После он немного проводил меня в сторону по Фонтанке. К нему в воскресенье, завтра к Ханыкову. Дома немного вздремнул от усталости — и к Ворониным. Когда туда шёл, чувствовал уж утомление, поэтому думал, что понадобится взять извозчика, но когда вышел от них, вздумал, что лучше зайти отдохнуть к Вольфу, и зашёл; нового мог узнать мало, потому что слишком бегло читал, а замечательного сделал только то, что вырвал и унёс листок из «Illustr. Zeitung», где перечисляются партии и их предводители во Франкфуртском Собрании. Вот и вырвал, и нисколько не мучит совесть, а только, как всегда, я трушу, что может быть заметят. — Конечно, нет. Ложусь теперь. [187]
4-го декабря. — Утром проснулся поздно и поэтому не был у Фрейтага. Когда пришёл в университет, сказали, что мне приходилось быть назначенным писать вместе с Корелкиным и нас обоих не было, он сказал: «Верно эта болезнь продолжится долго и поэтому назначаю других», с усмешкою. Мне это было неприятно, и я думал, не сказать ли ему, когда он будет у нас в следующий раз, чтобы он удерживался от шуток. Получил деньги с почты,— мне 10 р. сер., из которых, конечно, 9 Вас. Петровичу.
Из университета пришедши спал, после — к Ханыкову, у которого просидел с 8 до 11; у него был один господин молодой, Дебу, и мы толковали. Сначала разговор был больше между ними, после между Дебу и мною, после между всеми, после между мною и Ханыковым. Я ушёл, он остался. Говорили о политике в радикальном смысле,— это всё так и я решительно согласен; о семействе, против которого они оба сильно восстают,— с этим я уже не согласен, напр. детей отнимать от родителей и отдавать государству — разумеется, говорю про теперешнее положение вещей, когда государство, так глупо; о боге, в которого они не веруют,— на это я также не согласен и всё-таки в этих двух пунктах я не противоречил им по своей обычной слабости или уступчивости. У него взял II том Фурье, где о libre arbitre и de l’unité universelle[212] и Катехизис Ж. Б. Сея. О libre arbitre теперь прочитал (теперь 9½ утра, 5-го воскр.) 40 стр., и снова тоже всё равно, как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество (т. е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто несколько) здравых мыслей, но странностей бездна. Пришёл домой, как весьма давно не приходил, в 11¾ и писать здесь не стал, потому что не хотелось.
5-го [декабря] (пишу это 6-го в 9¼ утра). — Утром, как напился чаю — к Вольфу, где читал «Отеч. записки», XII, Записки Шатобриана и Литерат. летопись и смесь; науки и повести — нет, потому что не успел. Записки Шатобриана весьма хороши — это описание этой любви к созданию его воображения, живой, всемогущей потребности любить, его исключительно,— всё это дышит жизнью. Одно из мест так мне понравилось, что когда он прибавляет: «Когда ты будешь читать, я буду уже перед богом» — я поцеловал это место.
В 4 почти часа пришёл домой; как пообедал — к Вас. Петр., у которого с 4½ до 7½ просидел, играл в карты с ними и всё плутовал и смеялся: она не догадывалась об уступках, которые делал ей, когда играли в короли,— как дитя, решительно дитя. После пришёл и читал Фурье. Когда Ив. Гр. спросил, чтò это, я сказал, что политическая экономия. Когда спросил — чья, я сказал, что не знаю — я завернул и запечатал эту книгу, чтобы нельзя было видеть, чьё это сочинение, и печать спрятал (это после чаю 9¾). Надежда Егоровна, которая не бывает у своих, потому что недо[188]вольна ими, была рада, что я пришёл, и оставляла посидеть, говорила, что ведь им одним скучно, и проч. — Когда вышли, я отдал Вас. Петр. деньги, который вышел в сени. Он хотел быть ныне, т. е. в понедельник 6-го. Я сидел у них без скуки; Вас. Петр. снова в суждениях показывал своё превосходство надо мною, напр., говоря о глупости рожи попечителя и проч. Я пил у них чай, чего давно не было. Он между прочим сказал, что вчера хотелось ему страшно сходить к Ив. Вас., чтобы покурить табаку, да не знал наверное, есть ли у него. Это меня затронуло: я со своими глупостями стал так жить, что у меня ему нельзя и покурить. В субботу взял у Шмита брюки.
Фурье своими странностями и чудным беспрестанным повторением одного и того же как-то отвращает, но между тем виден во всём ум решительно во всём новый, везде делающий не то, что другие — если можно с чем сравнить это его свойство, что обо всём говорит не так и не то, как другие, и так спокойно, так это с «Записками сумасшедшего» Гоголя — вещи бог знает какие и высказывает их. человек так уверенно. Прочитал я у него до этого времени до 20 стр. его de l’unité universelle[213], прочитавши уже о свободной воле и введение к unité.
6-го [декабря]. — День моих именин. Как встал, помолился несколько минут, стоя на коленях. Мысли были: дай, боже, чтобы в этот год решительно поправились дела Василия Петровича и чтобы не нанести мне никакого прискорбия папеньке и маменьке, чего я опасаюсь, и чтоб служил им в радость (между прочим, чтобы не вышло чего-нибудь неприятного для них по университету). О себе не помню, молился ли, кажется (да, верно), чтобы быть здоровым и чтобы освободиться, наконец, от этой мысли, не имею ли какого-нибудь рода сифилиса. После этого читал Фурье и его, когда встали Терсинские, спрятал в ящик и читать буду Гизо и Мишле.
Сходил к обедне, пришёл к самому началу, ходил не по внутреннему побуждению, а более по внешнему приличию. Там, сажени на две от меня, стояла какая-то молодая женщина вроде швеи или в этом роде. Я случайно взглянул на её лицо — полное, кругловатое, довольно правильное, но с неприятным выражением, какое показалось мне издали похожим на лицо Златорунного, моего товарища по семинарии, который казался мне портретом лисицы, и лицо её поэтому мне не понравилось; но когда я остановил на ней глаза, она также стала смотреть на меня смело, но как бы показывая вид скромности. Мне захотелось позабавиться и заставить её подумать, что она мне понравилась, и я довольно часто стал смотреть на неё; она тоже постоянно оборачивалась на меня, и тут я понял, что она в моём распоряжении и ждёт только повода выказать свою благосклонность; это было для меня так ясно, как никогда ещё относительно женщины — чувства никакого, кроме некоторой приятности, что вот хотел бы, так можно бы, да, конечно, не хочу, потому что [189] не хочется и потому что дрянь. Хотел выйти до молебна, да дожидался конца, чтобы пересмотреть женщин, и половину пересмотрел. Когда пришёл, стал переписывать по порядку имена франкфуртских членов, которых в том листке более 100. Пришёл Ал. Фёд., сказал, что был Корелкин, когда я был у обедни. За обедом Терсинский купил бутылку вина, я не стал пить, потому что не захотел, потому что не стоит. Это может быть несколько оскорбило Ив. Гр. Был Вас. Петр., который не дожидался чая, а ушёл перед самым чаем,— что для меня было неприятно,— потому что должен был прийти в это время, потому что Над. Ег. должна была в это время воротиться от Самбурских, а ключи у него. Вечером читал Дон-Кихота Ламанчского (?), спал и говорил. Читать почти ничего не читал, теперь 11½, ложусь читать Фурье.
Через несколько минут снова выдвинул ящик, чтоб записать, что когда стоял у обедни, пришла в голову мысль, которая, кажется, не выйдет из неё, а сделается основанием взгляда на мир,— что когда человек решается на благородный поступок, против страстей, которые советовали ему сделать другое, эти страсти не покидают его, а переходят и в это его состояние и прилепляются как могут к его поступку и стараются и здесь найти удовлетворение; тоже и нужды и потребности и вообще всё личное, мелкое, эгоистическое. А теперь пришло в голову сравнение: это всё равно, напр., [как] чувство гастрономическое велит мне выбирать из молочной кашицы и какого-нибудь дорогого, великолепного и чрезвычайно приятного для меня соуса последний, но я должен, потому что он нужен для больного, есть молочный: чувство вкуса против этого выбора и жалею об этом, но всё равно, чувствую приятное и довольно большое удовольствие от молочного супа. Или: я должен продать свой прекрасный фрак, но когда надену старый и дешёвый, который один остался у меня, чувство желания быть хорошо одету не покидает меня, напротив, заставляет прихорашиваться, чиститься, даже, пожалуй, рисоваться — что из этого? разве я шёл теперь против него? и разве что следует из этого? Так оно всегда со мною, всегда, всегда, но не имеет никакого на меня влияния, как скоро есть что-нибудь кроме него и выше него.
7-го [декабря]. — У Никитенки читал статью из «Phalange», слушателей было весьма мало. Никитенко нашёл взгляд решительно неосновательным, сказал, что автор видит в характерах то, чего в них нет. Я отчасти спорил, отчасти поддакивал ему, и вообще эта неудача произвела на меня неприятное впечатление. После, как пообедал — к Излеру, у которого пробыл до 6½, читал 9 декабря газеты; нового ничего почти не узнал, кофе не пил. Оттуда к Ал. Фёд., у которого посидел до 10, скучал не во всё время, а разве в продолжение полчаса, когда он говорил о своих делах у Оржевского и о брате. Говорили о политике, Ханыкове (мало), наконец о Резимон, которая ему весьма нравится и в душе какое-то платоническое чувство наслаждения, когда он смотрит на неё — всё сколько-нибудь возвышает человека над мелким эгоизмом. Взял [190] «Débats» 21–26 ноября, статью прочитал до половины 3-й страницы, половину характера Д. Ж.[214].
8-го [декабря], 10½. — В университете Фрейтаг и особенно Куторга так надоели, что нет мочи, и сам Никитенко показался пошлым, чего раньше не было: казалось, что толкует вздор, но не казался пошлым — это всё открыл мне глаза Вас. Петр. Из университета зашёл к Вольфу, там в «Прусском Монитере» [215] 10 декабря ничего нет. После обеда уснул и спал до 7½ (2½ часа, я думаю), когда разбудили к чаю; так-то я всё сплю — я думаю, главным образом, оттого, что с Терсинскими живу. После писал Фрейтагу и написал черновую в продолжение 1½ часа, завтра пересмотрю и перепишу. После ужина, да и перед ним, да и утром читал Фурье и прочитал до 150 стр., где начинается о страстях: вещь не так нелепа, как казалось с первого раза, посмотрим. Любопытства у меня мало теперь, между тем как раньше было весьма много, и не думаю, чтоб увлёкся его системою.
9-го [декабря]. — Утром встал в 5 часов, это хорошо, потому что вчера спал, прочитал латинское сочинение внимательно (около 1½ часа) и дочитал до avant propos[216] самого трактата De l’unité (всего стран. 60–70), после пошёл в университет, по дороге — к Вольфу, где пробыл около 1½ часа, ничего не брал; после в библиотеку, где читал сначала каталоги и записал политические сочинения Sismondi, чтобы читать там вместо «Revue d. d. Mondes», которого 45 год и 46-й у Чайковского, а 47-го ещё нет. Других журналов не хотел уже читать, потому что не стоит, я разве примусь за Вентурини; итак, раньше с нетерпением читал «Revue», а теперь вижу, что не стоит читать: направление знаю, приложения этого направления не стоит читать. Когда пришёл; читал «Débats» с час; после переписал сочинение и спал; после пришёл Ал. Фёд., просидел час, толковали о политике, взял прежние журналы и принёс новые, 27—4 дек. Теперь сплю и читаю «Débats». В субботу хочу быть у Ханыкова, завтра верно побываю у Излера от Ворониных или у Вольфа из университета. Фрейтагу верно ничего не скажу, потому что не хочется, потому что сам не слышал ведь его насмешек и не знаю, в каком тоне, а в сущности, кажется, потому, что трушу связываться!
10 [декабря]. — Фрейтаг читал сочинение гораздо тише, чем другие, и мне показалось, что несколько оправдываются слова Василия Петровича, что опасается делать замечания. Написал ас oracula,— должно быть atque, решительно так, я сделал глупость; времена всё так, между тем как я не знал, так ли. Может быть не знает сам, так или нет, и не поправляет, потому что слишком ясного противоречия с правилами нет. Начал переводить Лыткин, между тем как хотел кто-то другой.
Когда узнал, что австрийского императора принудили отказаться не либералы, а Виндишгрец к проч., т. е. военные депутаты, тотчас [191] переменил тон своих суждений о нём и стал жалеть о нём, между тем как раньше смеялся.
Что до Вас. Петр. — ничего не могу сказать; деньги всегда готов жертвовать, к нему — уже не тянет, напротив — не то что лень ходить, а в этом роде, похоже на то, как к Ал. Фёд., только с другой стороны, и теперь, когда раздумывал об этом, кажется, что даже странно такое живое постоянное участие в человеке, как я себе раньше воображал. Когда иду к нему, то желаю лучше, чтобы Над. Ег. не было дома (это уже давно, почти как перешли к Максимовичу,— нет уже после правда), между тем в первое время [после] свадьбы хотелось смотреть на неё, и теперь решительно хладнокровно бываю у них; думать не хочу и не буду сладострастно, а платонически восхищаться как прекрасным созданием божиим перестал уж, кажется, и смотрю только как на доброе и красивое существо, но которое не может сильно нравиться, потому что не развит ум.
Когда Фрейтаг прочитал, не делая никаких замечаний, и сказал спокойно после: bene[217], мне стало совестно, что я всегда так восстаю против него и перед этой самою лекциею бранил его. — От доброты это или от низости душевной? И мне захотелось не связываться с ним.
Ныне или из университета посижу у Вольфа и буду пить кофе, или от Ворониных зайду к Излеру и после к Ал. Фёд.
Когда шёл в университет, вдруг вздумал, что до нового взноса денег в университет только 3 недели, а не 2 месяца, и перемены в положении в это время не может быть. Никитенке хочу писать первую о влиянии образования чувства изящного на человека с точки зрения единства сил в человеке, абсолютного единства: развитие его необходимо, потому что должно развивать всего человека; односторонность пагубна и невозможна, так что если человек не весь развит, он и не развит, и с этой же точки зрения буду говорить о произведениях изящных — они должны служить не одному этому чувству — это было бы дело пустое, а вместе всегда разрешать [задачи] истинного и доброго (истина и добро решительно одно и то же, два выражения одного и того же, которые никогда не отрываются и не могут быть одно без другого), и всегда должно быть содержание их взято из жизни, живых потребностей времени, того, что волнует или должно волновать общество, поэтому политическая литература — высший род литературы, и писатель раньше всего должен быть человек с мнением о настоящем и прошедшем. И напишу это ко вторнику, чтобы отвязаться от Никитенки с его незанимательными задачами и чтобы другой кто не отнял единственной порядочной.
Чувствую превосходство Вас. Петр. в проницательности передо мною: он с первого раза, видя человека, говорит то, что я скажу о нём, когда коротко его узнаю, т. е. вот человек пошлый или порядочный (последнее редко). [192]
Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. Если умру, не перечитавши хорошенько их и не переписавши на общечитаемый язык, то ведь это пропадёт для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным человеком.
Сейчас по случаю того, что ведь гладиаторы бились по странному мнению, о котором напоминал Фрейтаг (deos manes placari victimis humanis[218]): во время Цезаря немногие очень верили в это из образованных людей, немногие верили в языческие учения, а между тем вот что делали — даже человеческие жертвы и миллионы для предрассудка, над которым, конечно, смеялись, но в который верил народ, хотя не решительно верил, жертвовали; и точно то же положение христианства в Западной Европе, можно сказать, и как тогда падающее язычество пробудило маленькую, но чрезвычайно энергичную в верованиях и убеждении, что не погибнет язычество, партию, так и теперь видим маленькую партию на Западе: александрийцы, которые сливают учение Павла и Юпитера, равняются Buchez и Genoude, которые соединяют якобинцев и католицизм. И пришло на мысль: что, если мы должны ждать новой религии, которая ввергнет меч между отца и сына, между мужа и жены, как христианство, и если я приму её? но это — желание повторения, а повторения редки, и скорее вместо христианства, если оно должно пасть, не явится уж такая религия, которая объявляла бы себя непосредственным откровением, а по системе Гегеля — вечно развивающеюся идеею.
А что, если мы в самом деле живём во время Цицерона и Цезаря, когда saeculorum novus nascitur ordo[219] и явился новый мессия и новая религия, и новый мир? У меня, робкого, волнуется при этом сердце, и дрожит душа и хотел бы сохранения прежнего — слабость? глупость? Что угодно богу, то да будет. Если это откровение — последнее откровение, пусть будет так; если должно быть новое откровение, да будет оно, и что за дело до волнений душ слабых, таких, как моя.
Но я не верю, чтоб было новое, и жаль, очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаешь о нём.
Пришло в голову вчера, когда думал о влиянии смерти Р. Блюма и о предложении Chabot: «Убейте меня и подкиньте мой труп реакционерам, чтобы народ восстал против них», и проч. Когда хорошенько вздумал об этом и приложил всё это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если б только был убеждён, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, [193] и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что [не] увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убеждён.
3 часа. — Куторги не было, поэтому по Невскому пришёл домой сейчас и стал читать Фурье, как раскрылось, и прочитал полстраницы или менее, несколько строк, строка 10 снизу 28-й стран, avant propos[220] (полного собрания сочинений II том) — отношение раздробленного к associé[221] обществу, отношение тьмы к свету, планеты к комете — пришла в голову (потому что он говорит противоположным образом,— комета выше планеты) теория развития небесных тел и вообще развития — когда я ими буду доказывать общую мысль, что всё развивается, происходит через развитие (т. е. когда Гегель будет защищать свою систему), и буду ссылаться на все эти примеры, то собственно это не доказательство настоящим образом, а указание, что эта мысль уже сознана веком в известных частных случаях и приложена по мере возможности и что всё должно быть едино, по единой мере и весу должны мы смотреть на всё,— там признаете это, следовательно должны признавать и здесь. Таково стремление идей века, и поэтому моя идея превозможет, будет для вас (а может быть и навсегда) истина.
11 час. у Фрейтага на лекции. — У Устрялова был Вас. Петр., сказал мне, что в театре его хорошо отрекомендовали и завтра он будет у Сосницкого; это хорошо, дай бог. К Ворониным, оттуда в кондитерскую к Излеру, где пил кофе, просидел до 10 час., нисколько не устал. Выбран, конечно, будет, как пишут, Луи Наполеон действительно[222]; деревни не выросли ещё до подавания голосов в таких обширных делах, и может быть не несправедливо говорили те, что рано ещё suffrage universel[223],— вот как меняются мои мнения,— но, однако, это только начало и это новое мнение далеко не пустило корней в мою душу и много надо событий, чтобы оно превозмогло. С Вас. Петр. увижусь в воскресенье или понедельник.
11 декабря. — Ночью просыпался и пошёл в кухню и там делал свои известные дела, но совершенно неудачно, наконец разбудил Марью, которая спала на печке, и едва ушёл. Хорошо, что было слишком темно. Не знаю, кажется, не заметила. Что за глупость и низость! И как бог допускает меня до такого унижения! В самом деле, странное дело человек! Днём я сам едва понять могу, как отпускаю такие скверные штуки ночью.
Не знаю, что будет с Вас. Петр., дай бог ему освободиться от своих тесных обстоятельств, потому что, наконец, как же это можно ему! Это нечто противоестественное и странно, что такой человек находится в таком положении, но нет, правда, это не должно бы быть так! Кроме того, это желание усиливается во мне coincidentia[224] [194] с ним и того обстоятельства, что таким образом и я освобожусь от своего затруднительного положения: 1) что все деньги должны идти к нему, и я в неприятном положении перед Терсинскими, 2) самому не могу ничего сделать, напр., одежда плоха, 3) не могу разойтись с Терсинскими или выйти из этого смешного положения (однако, это всё ничего: я человек пустой,— он главное).
Дочитал ныне утром Фурье, т. е. собственным образом и не дочитал, а пробежал глазами, потому что вечная палинодия надоела, наконец,— то же и то же во всем предисловии ; теперь вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений: странное дело для меня кажется, что человек с такими странностями и ограниченный в своих толкованиях, умствованиях должен быть поставлен главою школы, которая неоспоримо занимает великое место в истории, что он первый провозгласил новый принцип — удовлетворения инстинктов, хотя может быть (я это ещё не знаю) и придал ему странный вид, так что вышло что-то похожее на смешное; притязания его так ограничены и ясно случайное и не самостоятельное, напр., вознаграждение эмигрантов и проч., и весь этот II том так отзывается рассуждениями сумасшедшего у Гоголя, а между тем он провозгласил первый нам несколько новых мыслей, которые называют нелепыми, а я нахожу решительно разумными и убеждён, что будущее принадлежит этим мыслям,— напр., о вреде торговли в теперешнем виде, и проч. и проч. Мне кажется, это несообразность, и мне хочется предполагать, что все эти мысли заняты им у его предшественников,— должно это узнать, а то это слишком любопытный и запутанный психологический вопрос,— Лейбниц ведь не так писал о диференциальном исчислении. Это должно собственно узнать, хотя я и не думаю, чтобы я мог скоро это узнать, потому что для этого должно хлопотать и доставать различные книги, которые без просьб нельзя достать; но, конечно, со временем узнаю, а то слишком странно.
Ныне вечером буду у Ханыкова; идя к нему, зайду к Излеру: у меня правило бывать раз надолго и пить кофе, другой — на полчаса даром, чтобы менее выходило денег и вместе чтобы не совестно было.
После лекции (это уже писано в воскресенье 12-го в 10¼, перед тем, как пойду к Славинскому, которому вчера обещался быть) [Залеман] сказал мне, что есть место у нашего посланника в Штутгарте учить сына, только не знает он, поедет ли туда Вас. Петр. на первый раз без жены или нет, и спрашивал меня, должно ли этого ждать или нет, и должно ли ему говорить об этом. Я сказал, что решится ли он — я решительно не знаю, сказать должно во всяком случае, и по просьбе Залемана обещался быть у него, чтобы сказать ему и позвать его к Залеману, который в этот же вечер хотел побывать с ним у тех людей, с которыми должно для этого видеться. Зашёл — ему не хотелось идти, Над. Ег. была дома и мне весьма понравилась лицом, но при ней, конечно, я не сказал зачем, а сказал, что захотелось посмотреть «Современник» [195] XII №, и сказал, что Залеман непременно просил у себя быть. Он надел брюки к сюртуку. Тогда я сказал, чтобы во фраке; ему не хотелось и он взбесился, но Над. Ег. и я настояли. — «Может у него,— сказал он,— этот дурак из Гельсингфорса, с которым он давно хотел меня познакомить; если это так, то дуралей же он». — Я играл самую жалкую роль. Вышли, я ему сказал, он говорит; «Всё это вздор, не знаю, с чего и как приходит, пришло в голову Залеману это,— нелепо: как можно, чтоб посланник не нашёл человека с дипломом и значением и проч.». И мне тогда показалось, что это в самом деле вздор, а раньше я не думал и верил в возможность. В самом деле нелепо, и мне стала ещё жалче, кажется, моя роль, что принудил, бог знает зачем, идти человека, которому не хотелось идти и оставлять одну Над. Ег. Чтобы отвлечь его от неприятных мыслей о Залемане и себе, и своей глупости, и его положении, я начал говорить насмешливо или желчно о людях. Он слушал и смеялся и поддакивал, а может быть и не слушал. Пришли к Залеману,— он за фортепьянами, поэтому пошли мы к Излеру.
Он ушёл, я дождался, пока принесут газеты, которые переменяли, и прочитал, что 2 миллиона у Луи Наполеона, едва полмиллиона голосов у Кавеньяка. После к Ханыкову, с которым более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, напр., раскольники, общинное устройство у удельных крестьян, недовольство большей части служащего класса и проч., так что в самом деле многого я не замечал, или, может быть, не хотел заметить, потому что смотрел с другой точки. Итак, по его словам, эта вещь, конечно, возможна и которой, может быть, недолго дожидаться. Это меня несколько беспокоило, что, как говорит Гумбольдт о землетрясениях, этот твёрдый неподвижный Boden[225], на котором стоял и в непоколебимость которого верил, вдруг, видим мы, волнуется как вода. Просидел до 11 час. с удовольствием, но не слишком большим и иногда скукою (по временам на несколько минут), взял I том «Положительной философии» Конта и Адскую комедию, которой перевод помещен в «Revue d. d. Mondes» за 1846, потому что следующей части Фурье у него не было. Иду к Славинскому, половина 11-го, в З½ ворочаюсь, потому что в 4 будет Вас. Петр., или во всяком случае хотел быть.
12-го [декабря]. — День прошёл почти без пользы. Утром пошёл к Ол. Як. Туда пришёл Балбенков, и моя довольно жалкая роль перед ними и потом, главным образом, сравнение с их участью участи Вас. Петр. сделало тяжёлое впечатление на меня, так что когда я вместе с Ол. Як. вышел и пошёл к Славинскому, я дорогою ругал себя и махал руками. У Славинского говорил больше о том Славинскому, который восхищается слишком мимикой и Фанни Эльслер, что это односторонность жалкая, что ограничивать се[196]бя мимикой так же унизительно, как играть на фортепьянах одним пальцем вместо десяти, плетью на скрипке вместо смычка, и что если общество принуждает такой род развиваться, то об этом обществе и о тех, кого оно принуждает делаться сухими фиглярами, должно жалеть. Ушёл в 3 часа, чтоб не проглядеть Вас. Петр., его, однако, не было.
Читал вечером Aug. Comte, «Положительная философия», I том — математическая часть не для меня, почти ничего не понял, а 1-я часть 1-й лекции сначала было довольно понравилась, а теперь, прочитавши две первые лекции, в сильном подозрении, не вздор ли всё это, и эти 3 периода и всё: может быть, это просто довольно ограниченная голова вздумала подвести под свою математическую систему социальные и исторические и философские науки,— не знаю, только этого тома больше читать не буду, а попрошу другие томы. Прочитал и Адскую комедию в книжке от 1 окт. 1846 «Revue d. d. Mondes», отчасти оно порядочно, но кажется подражание Фаусту и вздор и риторика, которая вдобавок делается бестолкова от этой узкой драматической формы. И чёрт знает что; и глуп, кажется, довольно символизм этот: чёрт знает что. — Не понравилось, но нельзя сказать, чтоб решительно гадко было, а просто дрянь. — Что-то Василий Петрович! Он не приходит. В ожидании его не садился писать Никитенке, как хотел писать, и ныне вздумал рассматривать влияние искусства на развитие человека только с одной точки зрения какой-нибудь, чтоб по крайней мере можно было хоть об одной стороне что-нибудь сказать.
13-го [декабря], 11 [час.]. — Пришёл из университета (там был Кочубей), заходил к Вольфу; в 5 часов у Ив. Гр. был канцелярист, с которым читал он корректуру записки напечатанной. Это меня взбесило, что нельзя писать Никитенке, хотел было писать. Любинька ушла и села в тёмной комнате, это меня ещё более взбесило, я ушёл к Ал. Фёд. и Ол. Як. У Олимпа просидел до 8, Ал. Фед-чу отнёс «Débats», его не было дома. Воротился, думал, что уже ушёл и тихо,— нет, просидел до этого времени, до 11. Я писал письмо, спал, прочитал VII лекцию 2-го курса Гизо, de colonis и ужасно был взбешён на себя, что не мог предвидеть или предупредить этого,— теперь время проходит без всякой пользы, решительно без возможности заниматься,— дурак, подлец. Давно не был так взбешён, ужасно было досадно, всё ворчал и не стал ужинать. ещё более взбесило, что когда уходил, приходил Корелкин и не застал меня, это ещё более взбесило.
14-го [декабря]. (Писал утром в 8 часов 15-го.) — Вышел, как напился чаю, к Излеру, где выпил кофе, и к Никитенке — в самое время. Сказал Корелкину, который спрашивал, что написал и забыл дома. Никитенке, когда тот пришёл, начал было говорить, что кто писал, не пришёл, и хотелось сказать, что что-нибудь прочитаю. Он того ждал, что не будут читать, и начал говорить о критике, приводя в пример Державина. [197]
После университета пригласил к себе Корелкина, который пришёл в 6 часов, просидел до 8; После пошли вместе к Излеру, где он повёл меня в отдельную половину, куда я хотел уже раньше идти, думал посмотреть на шахматы там,— там читал «Allgemeine Zeitung»[226] и проч., выпили по чашке кофе, Корелкин курил трубку. Деньги были только у меня, у него не было, поэтому я и отдал, да раньше 20 к. сер., итак в один день 65 к. Пришло в голову, что ведь Вас. Петр., кажется, говорил, что хорошо играет на бильярде, так нельзя ли этому быть источником денег? Пришло стремление узнать, что с ним делается, и ныне после обеда непременно буду у него, тем более, что может быть (хотя едва ли) получу от Ворониных деньги. Когда получу,— 3 р. сер. на калоши, которые делает Фриц (приходил и взял для этого сапоги без меня, дней 5), другие ему.
Ив. Гр. просидел до 8 час. в Сенате, дожидаясь напечатания записки, которой корректуру читал вчера, и мне стало его жаль, как бывает жаль себя, что утомился, а ещё более, когда он просидел всю ночь теперь за письмом, потому что, не думая, что выйдет в 5 час., обещался к ныне составить краткую записку; человек трудится до утомления, и тогда мне нельзя не принимать в нём участия, хотя он мне и не нравится. У Излера читал «Presse», Шатобриана, за субботу и воскресенье (16 и 17 декабря), где говорит он о своей любви к Miss Ives — прекрасно, прекрасно и решительно в моём духе; хотя как-то мысли, которые напечатаны в 4-м или 5 столбце первой страницы, показались несколько ограниченными и несколько расстроили моё расположение, но после снова решительно понравилось оно: как трогательно это свидание через 20 лет, когда оба волнуются, и раньше какая нежность, а в воскресном номере (то в субботу) в первых столбцах, 3-м или 4-м, он объясняет это событие и говорит о своём характере: не откровенный, какой-то сжимающийся, ничего про себя не говорящий, потому что знает, какую скуку наводит это на других, когда говорит человек о себе, поэтому никто,— говорит,— никогда не знал меня — и, конечно, самые короткие друзья мои гораздо более узнают и меня, и обо мне из этих записок, чем знали до сих пор. Это решительно как бы я, решительно как бы я (я и раньше замечал в себе много его характера, весьма много сходства, конечно, такое сходство по качеству, а не по количеству, какое есть между шаром в вершок в поперечнике и солнечным шаром, но всё-таки они подходят под один разряд).
15 [декабря] (писано 16-го в 8¼). (Из университета вчера (14-го) я ходил с Славинским в Пассаж и смотрел там на женщин.) Читал Гизо, прочитал лекцию и спал. Хотел начать снова писать словарь из летописей, но не начал, потому что знал, что не кончу, да если и кончу, то нечего отличаться перед Срезневским до окончания в университете. После чаю — к Вас. Петр., у которого просидел до 10¼. Над. Ег. оставляла, когда я хотел уйти раньше. Играли в карты. Вас. Петр. мастерски плутует, и [198] мне так не удается. Говорил ему о том, хорошо ли играет на бильярде,— сказал, что нет, и сказал: «Это пробуждает во мне дрожь — то, когда я играл на нём, была самая мрачная эпоха в моей жизни». Говорит: «Надя говорит, что поедет в Штутгарт, вы проводите». — Хорошо, я уж и думал, что это так — если бы это было так, хорошо бы было. Да едва ли будет. Она бы приехала туда, не зная по-немецки, поэтому несколько времени, пока образуется (в это же время и по-немецки выучится), не бывала бы в обществе, её никто бы не знал,— и после явилась бы решительно дамою — это было бы хорошо, как это будет здесь — я не знаю. Вас. Петровичу какой-то господин, родственник Залеманов (Гринцевич), предложил переводить какое-то рассуждение. В пятницу будет в театре и у него и в субботу у меня.
16 [декабря] (писано у Фрейтага на лекции, 17-го в пятницу). — Утром в 10 к Излеру, где ничего нового не нашёл; в 11 оттуда вышел, просидевши час, и в университет, где читал Лафатера Физиогномику[227], которая не удовлетворяет меня, потому что только (читал я конец I и II тома) замечания инстинктивные, но в этот час несколько развились мои понятия, но и кроме того в библиотеке слишком много нужно времени для того, чтобы с пользою читать, потому что [нужно] много времени и внимания, чтобы внимательно разбирать портреты; хорошо он говорит об однородности черт в лице, так что если хоть одна черта в портрете истинна, то по ней собственно, говоря по теории, можно бы было поправить все неверные, если б наука была совершенно развита.
Идя в университет, заходил к Ал. Фёд., у которого взял 5—9 декабря «Débats» и оставил записку, в которой говорил, чтоб пришёл ко мне. Пришёл в самом деле в 6½. Как пришёл из университета, я (но времени[228] за обедом до пяти) в баню за 7 к. сер., много народу было, однако, ничего, вымылся, кажется, хорошо. Пошёл собственно потому, что на подбородке стала от грязи дрань, руки слишком загрязнены от кисти до локтя, и своё дело в нужнике слишком делал грязно и неловко, так что всё должен был чесать. Ал. Фёд. просидел до 10; после читал «Débats» и теперь принёс 9 ноября Славинский, которому хотелось прочитать Прусскую конституцию, которая здесь помещена. Залеман в университете сказал, что надежда на Штутгарт решительно не потеряна, но граф в холере и должно ждать, когда выздоровеет.
17-го декабря. — Ныне последний день, в который до нового года будет мне это тяжёлое обстоятельство — сходить утром в университет, после к Ворониным, отчего я всегда почти уставал весьма, и поэтому пятница, день усталости, и вторник, Никитенкиной лекции — два основные дня недели, из которых один я не дождусь пока пройдёт и рад, когда пройдёт, а другого, когда придёт, жду, поэтому суббота — понедельник лучше для меня были дни, чем среда — пятница. [199]
О Вас. Петр. — Мне лучше хотелось бы, чтоб он получил хорошее место в театре, чем в Штутгарт, однако, сказать хорошенько не могу, чтобы последнее для него могло быть лучше, а если для него всё равно, то лучше для меня, если б он остался здесь. Расскажу свои мечты относительно того и другого случая. В первом случае он тотчас принимается за образование Над. Ег., занимает хорошую квартиру, я бываю у него и у неё; с нею мне становится говорить так же приятно, как в первые дни после свадьбы было приятно смотреть на неё; так как ему не нужны деньги от меня, то я или заставлю Терсинских занять такую квартиру, где мне особая совершенно комната и особый ход, так что они обо мне и знать почти ничего не будут, не только мешать мне, или схожу от них. Во втором случае — Над. Ег. после, до лета, переходит жить, конечно, к отцу; я бываю там часто, но не так часто, чтобы можно было подать повод к каким-нибудь недоразумениям; говорю много с ней, делаю ей всяческие услуги мелкие и удовольствия, сколько могу; она всегда принимает меня с удовольствием, потому что я приятель Вас. Петровича и говорю с нею о нём; приходит июнь и я провожаю её в Штутгарт. Здесь рождаются различные у меня сомнения в возможности мне ехать; во-первых, от папеньки и маменьки,— но они, я думаю, согласятся, чтобы я побывал за границею, потому что это для меня в самом деле полезно в отношении учения и всего; во-вторых, главное, со стороны правительства, которое не позволяет выезжать раньше 25 лет или окончания курса — ну, это как обделать, это я уже не знаю, это меня вводит в сомнение. Какой я чудак, напр., думая об этом, я знаю, что, во-первых, едва ли и поедет Вас. Петр. в Штутгарт, а если поедет, то, конечно, не меня, такую россомаху, попросит проводить Над. Ег., для чего нужно, конечно, опытность, и предусмотрительность, и расторопность, и проч.; но всё думаю, т. е. не думаю об этом, а само приходит в голову и развёртывается там и о приятности свидания с ним и оказания ему услуги, и проч.; потом думаю о переписке с ним и о том уже думаю, будет ли правительство распечатывать письма или нет,— славный Манилов.
Что я буду делать на Рождество, это я и сам не знаю хорошенько: жар читать «Débats» и другие журналы французские в Публичной библиотеке за 1814—1847 года прошёл большею частью, так что хорошенько не знаю, буду ли там бывать; вероятнее, буду довольно часто бывать у Вас. Петр. и иногда у Корелкина; у Ханыкова буду брать книги, и эти книги его составят главное моё чтение и занятие в продолжение этого времени; а может быть, буду у Срезневского, чтобы узнать для Корелкина и для себя (потому что и мне несколько любопытно, почему — хорошенько не знаю) о том, каково рассуждение Корелкина, и может быть вследствие этого получу от него какое-нибудь поручение, что мне отчасти хочется, отчасти нет, потому что ведь нечего делать; буду бывать в кондитерских, читать газеты; наконец, может быть, буду что-нибудь писать, только едва ли, потому что для чего пи[200]сать? В «Отеч. записки» или «Современник» не попадёт, а иначе не стоит, да как-то, потерпевши два раза неудачу в «Отеч. записках», не думаю об успехе в третий раз, а о том же.
Да и о чём писать? Без материалов, книг и предварительного чтения многих книг ничего не могу написать, а книг, из которых почерпнуть и материалы и пополнить и привести в уровень с современностью свой взгляд, нет и, конечно, не будет, потому что где взять без хлопот, т. е. без просьбы? А купить — денег, конечно, нет. А хотелось бы, наконец, найти этот источник доставать деньги, потому что не бог знает же, сколько времени лежать на тяжести папеньки и всё оттуда получать деньги; ведь от Ворониных слишком мало, другое дело, если бы в 2½ раза больше, т. е. 40 р. сер. от них в месяц, вместо этих 15–17 р., которые, да и не каждый месяц, [получаю]. — Третьего дня у меня начался кашель сухой и продолжается и теперь; однако, он не сильный и в воскресенье, которое я просижу дома, конечно, пройдёт; должно только согреть грудь, что я чувствовал и теперь, когда шёл сюда и хорошо был закутан.
Теперешнее собственно моё положение и положение моё, сколько оно зависит от положения Вас. Петр., и положение Вас. Петр. я почитаю как бы provisoire[229], из которого не ныне — завтра должны выйти и в самом деле выйдем,— но, конечно, это только мысль.
О Над. Ег. моё мнение: теперь я, кажется, решительно к ней равнодушен, т. е. говорю с ней без приятности и неприятности; это весьма много, потому что собственно говорить без неприятности я не говорю ни с кем здесь, кроме Вас. Петр., с которым часто говорю с удовольствием; под «неприятно» я понимаю то состояние, когда если говорю с кем-нибудь, то почти всегда скучно, но не это главное, а постоянно присутствует в голове мысль: «э, пошлый ты человек», и если иногда говорю с удовольствием, так это оттого, что говорю о слишком интересном предмете, о своих убеждениях, которые приписываю собственно себе или которые ставят тебя выше круга русских (почерпнутые из Гизо и проч.), или о политике; но и тут, когда говорю, приятность предмета и увлечение уничтожаются мыслью о понимании того, с кем говорю; так мне неприятно, или противно, говорить всегда с Терсинским; всегда относительно собеседника, хотя не всегда относительно предмета разговора,— с Ал. Фёд. В самой высшей степени из тех, которые близки ко мне, неприятны и противны мне и в равной степени — Терсинские, после — Ал. Фёд., менее их — Корелкин, менее — Славинский; относительно последнего это чувство развилось уже после каникул. Так вот как: у меня train или pente[230] (не знаю, как настоящим образом должно сказать по-французски) к мизантропизму, т. е. я на дороге к тому, что мне [201] будет вообще противно встречаться, и разве только после долгого знакомства личного или через книги и известия будет мне приятно встречаться с людьми; это во мне, сколько я могу заметить, развивается; а между тем с Над. Ег., когда я сижу и играю и говорю, то такое же безличное чувство некоторой, хотя не живой, приятности, какое бывало в детстве, что вот с людьми, а не один; и говорю, а не молчу.
Вас. Петр. (это писано 18-го, в 4¼ после полудня) приходил к Устрялову и Куторге, чтобы в 4 часа идти к Гринцевичу. У Куторги мы говорили с Корелкиным, и Вас. Петр., кажется, показалось, что мы поехали в сторону и понесли дичь; я после лекции предлагал в субботу аплодировать Куторге, как аплодировали брату его в пятницу (17-го), Славинскому и Воронину, и согласились, и тогда, и 18-го. Пошли из университета вместе с Вас. Петр. Он сказал, что теряет уважение к Устрялову за то, что тот дурно отзывается о Соловьёве. Он сказал: «Не знаю, где побыть до 4 ч.?» — «Зайдёмте к Вольфу»,— сказал я. Зашли. Там не дал мальчик «Отеч. записки», XII, которые я спросил для Вас. Петр., сказал, что потеряны; это меня раздражало несколько; я велел [подать] две чашки кофе, Вас. Петр. ещё папироску, которую стал курить в первой комнате, где мы сели; мальчик (самый маленький, бойкий) сказал, что здесь не курят; я сказал, что вздор, но это мне снова было неприятно; несколько покуривши, Вас. Петр. ушёл докуривать в другую комнату, где курят; я посидел почти со скукою до 5½.
Гувернёр сказал у Ворониных, что в понедельник будет последний урок. — «А когда начнётся снова?» — спросил я. — «Nous verrons»[231]. Это меня взбесило отчасти, что я так глупо спросил; может быть, они хотят отказать; как хотят, но только эта перспектива отказа меня взбесила, и вечером я был недоволен, весьма недоволен.
18-го [декабря]. — Утром проспал до 8½ поэтому у Фрейтага не был; Куторги не было; моё предложение аплодировать принял с радостью Корелкин и отвергнул Славинский; мы (я деятельно участвовал) согласились не быть у Срезневского, после этого Корелкин не согласился и ушёл домой; я, когда увидел, что все ушли (остался, чтоб уговаривать уйти, доказывая, что никого не будет), ушёл к нему, где, скучая и наскучивая, просидел до 2, чтоб Корелкин не мог уйти к Срезневскому, что он хотел сделать.
(Писано в. понедельник 20-го, 7¾ утра.) Пошёл к Излеру, где просидел с 5¼ до 6¾, после к Ал. Фёд., где до 7¾, оттуда с ним к Ханыкову, ему отнёс книги, и он позабыл предложить мне новые, а я не спросил. Быть может, буду у него через две недели, в ту субботу, чтоб взять книги, а может быть, и не буду, пока [не] увижу его в университете, но это нехорошо было бы после того, как он так приветливо познакомился. Когда сидел у [202] него, защищал немецкую философию и неудачно, потому что не знаю сам. Пришёл в 11.
19-го [декабря]. Весь день не выходил. Утром был Вас. Петр., который приходит проверить свой перевод, данный ему на пробу, объявления о той книге, которую хотят ему дать переводить. Там было особенно слово durchgehn — о линии — я совершенно не знал, он лучше меня знает немецкий. Говорит, что и то, и другое верно не удастся, т. е. и Штутгарт, и этот перевод. Приходил, но на минуту, Корелкин; при нём ещё ушёл Вас. Петр. в час; после я читал «Débats», прочитал. После обеда читал Мишле о Шеллинге (философия и религия) и большую часть не понял. Также и спал часа 1½. День прошёл довольно не несносно, во всяком случае не бесился.
20-го [декабря]. — Теперь к Ворониным в последний раз в этом году, может быть, и вовсе. Деньги, конечно, получу. 4 р. сер. себе (три — Фрицу), остальные Вас. Петр. отдам. Фрицу ныне же. Буду, может быть, у Корелкина. Буду у Излера или Вольфа. После обеда должен быть у Вас. Петр.
11½ вечера. — У Ворониных не получил денег, потому что не было дома отца, а получу завтра. Спросил было гувернёр, где я живу, но после сказал, не буду ли я завтра в этих местах, я сказал, что буду в 10 [час.] — хорошо; разумеется, лучше получить там, чем чтоб прислали сюда, чтоб узнали Терсинские. После пошёл к Излеру, где ничего нового, кроме министерства Луи Наполеона и что пожали друг другу с Кавеньяком руку. В час домой, лёг на диване, где сплю, и читал Гизо II том «Англ. революции», 160—210 стр., до 5 [час.], когда уснул, проспал до того времени, когда пришёл Ал. Як. Снежницкий, к которому вышел и я. (Дографил шахматную доску и продолжаю.) Сомневался, идти к Вас. Петр. или нет,— не хотелось, потому что и завтра бы понадобилось, если бы он не согласился прийти сам ко мне, потому что должно отдать деньги, а ныне весьма холодно; не хотелось и не идти, потому что сказал, что приду. Пошёл и не озяб ничуть. У Над. Ег. показалось в такой степени деревенское лицо, как никогда ещё, так что почувствовал, что отчасти согласился с Ив. Вас., который говорит: «русская красавица», «простое русское лицо», но в некоторых положениях показались очень тонкие черты её лица. Играли в карты. Вас. Петр. мастер плутовать. Ушёл в 9 , пришёл в 8 ч. 5 м., просидел 1¾. После, как пришёл, стал делать шашечную доску, потому что он — Вас. Петр. — сказал, люблю ли я играть в шашки, и что он хотел сделать, да не умеет. Я сказал, что завтра сделаю. Завтра он будет утром, поэтому я в кондитерской не буду, разве только на минуту, да кажется, что нет. — 11¾.
21-го [декабря]. — 11½ ч. утра.— В 9¼, написавши кое-что домой, пошёл к Ворониным, но раньше зашёл на несколько секунд к Ол. Як. показать ему, что пишу о зяте Ал. Фёд. У Ворониных получил 17 р. 10 к., из которых 3 р. Фрицу, 13 р. Вас. Петр., [203] который ныне придёт. Идя оттуда, исполнил мысль, которая пришла в голову вчера, когда думал, как набрать шашки,— купил на толкучке шахматы, которые могут заменить и шашки, за 50 к. сер., но теперь пересчитал, и недостаёт красной пешки, белого коня и вместо белой пушки красная. Сначала купил было шашки за 15 к., после спросил шахматы и дали. Собственно, для Вас. Петр., чтоб играть с ним и, может быть (чего не думаю), выучимся так, что можно будет через это доставать у Излера деньги. Я думаю, что дадут недостающие шашки, или во всяком случае можно купить за 10 к. сер. Написал домой о том, почему не схожу от Терсинских, только не написал, что и отношения Вас. Петр. мешают этому. Теперь дожидаюсь Вас. Петр.
(Писано 22-го в 2 ч. 40 м.) После этого через полчаса пришёл Вас. Петр., посидел почти до 2 ч., я отдал и пошёл вместе с ним, чтобы пойти переменить шахматы или прикупить недостающие. Вошёл в лавку, множество народа, я несколько времени дожидался, наконец купец сказал: «Что вам?» — я сказал; тот говорит мальчику: «Зачем же ты подаешь неполные?» и велел подать другие, полные, на перемену. Я вышел из лавки и своротил немного в сторону, сел и начал считать — все, но одной нет пешки голубой. Я не воротился, потому что посовестился, а пошёл с места, но вздумал воротиться посмотреть на место, где сидел, не уронил ли ещё, воротился — там и лежит голубая пешка; я взял, думая, что, может быть, этой и недоставало, а может быть, что это ещё. Пришёл домой — все. Что тотчас дали новые, как я сказал, и поверили на слово, это меня порадовало. Вечером читал Гизо, но большею частью спал. Вечером вздумал купить руководство к шахматной игре.
22 [декабря]. — Утром читал Мишле, Шлегеля (II том, начало), это понятно всё. Пошёл купить руководство, сначала в мелкие лавки, там дорого — 60 к. сер. за плохое, изданное Поляковым, поэтому к Исакову, думая там найти лучше и дешевле,— самое дешёвое 1 р. 05 к. сер., и вижу, что не слишком хорошо. Жаль растратить деньги, которые следует Фрицу или собственно если не ему, то Вас. Петр.; всё-таки совестно не купить, и купил. Когда купил, стало совестно, что так трачу деньги, которые следует Вас. Петр., который нуждается,— пожалуй, не буду за это в кондитерских до нового года. Пришёл домой,— руководство скверное, и должен был бы купить в немецкой лавке, где, конечно, лучше и дешевле; разобрала досада на свою расточительность и глупую (прикидывающуюся совестливостью) неосмотрительность, ужасная досада, которая продолжается и до сих пор, так что читать почти не мог,— жаль Вас. Петр. и себя стыдно. Большую часть времени разбирал игры по руководству.
(Продолжение. Писано 23-го, 12 ч. 10 м.) — Досада всё продолжала разбирать, так что наконец не стало терпения: взял и пошёл к Славинскому, чтобы оттуда к Александру Фёд. занести газеты, которые думал только показать Славинскому и сказать, [ # 204] что ничего любопытного нет. Но он оставил у себя их и хотел принести ныне утром. Я отнесу, идя вечером к Вас. Петр., и напишу Ал. Фёд., чтобы он пришёл завтра вечером. У него ни о чём не толковали как следует, только он об Ал. Герасимовиче со своим братом медиком, который поссорился с Ал. Герасимовичем за картами. Я спрашивал посмотреть стихотворение «Wörter des Wahnes» Шиллера, и он сказал, чтоб я взял хрестоматию. Мне хотелось, тем более, что предвижу нехорошее расположение духа, но хотелось, чтоб он сам дал, а не просто предложил, и знаю, что всегда измараю книжку, что и сказал ему.
В 6 — к Ал. Фёд., у которого сидел до 12 почти; толковали обо всём, я разговорился и провёл время весьма занимательно; принимая несколько на себя тон знатока, говорил о великих людях, Шатобриане, которого историю с мисс Ives я рассказывал ему, как раньше рассказывал Корелкину и Терсинским. После стали говорить о Терсинских, оба находя их чудаками, и я довольно резко уже выражался на их счёт, так что, может быть, и не следовало бы быть так откровенным в своих мыслях — с этого времени не буду смеяться перед Терсинскими над Ал. Фёд., потому что этот разговор был откровенный, мы почти во всем сходились, я играл роль объяснителя, высказывал свои мнения о людях, их сердце, совместимости в них противоположных, повидимому, свойств; как основания учения брал факты из себя и Вас. Петр., Ал. Фёд. тоже. Я нисколько не скучал, напротив, было несколько приятно, и решительно рассеялась моя хандра из-за шахматов, так что когда пришёл наконец домой и теперь (на другой день поутру) — решительно ничего. Кажется, не выспался, уснув в час.
23-го. — Завтра буду у Корелкина, оттуда в университет утром, вечером буду ждать Ал. Фёд., и, может быть, согласится быть Вас. Петр. — Ал. Фёд. проницательнее или вообще людские отношения ему яснее, чем я думал, потому что он заметил ужасную холодность мою с Терсинским, и с этого-то именно и начался разговор, что и он в них обманулся, ждал их с нетерпением, а теперь тяжело ему бывать у них,— Любинька насмехается над ним и колет его, это он чувствует, и поэтому тяжело и неприятно. Я никогда не хочу перед Терсинским смеяться над ним. Утром проснулся почти в 9, несколько читал Гизо, а более времени играл в шахматы.
(Писано 25-го, 11¼.) Вечером был у Вас. Петр. Лоб у Над. Ег. показался каким-то слишком выпуклым посредине и в лице показалось что-то простонародное. Пошёл в 7, пришёл в 10.
24-го [декабря]. — День именин маменьки. Ничем особенным не отличались мои чувствования, не то, что прошлый год. — Вчера утром (23) был Фриц за деньгами; я сказал, что теперь нет, а будут через несколько дней, потому что твёрдо жду, что пришлют к рождеству. Пошёл в 10 час. за письмом и занёс газеты Ал. Фед-чу, который против ожидания был дома и дал [за] 16—19 декабря. Оттуда к Корелкину, идя к которому и от [205] которого заходил в университет, но письма не было. Когда меня не было дома, приходил Вас. Петр. (жаль поэтому, что не было) и принёс X № «Современника». У Корелкина просидел до половины второго; как пришёл, он шёл с Коврайским к обедне, посидели несколько минут и после пошли. Когда сидели, я шутил с Корелкиным в известном тоне, он сказал, что идёт в актёры, я сказал, что прогонят и что он будет Толченов второй, и как-то несколько перед Коврайским это, не обращая на него большого внимания, развертывался вроде того, как Олимп,— черта, которая во мне есть. — Пошёл в Академическую церковь, там не было службы,— снова к Корелкину, где нашёл чиновника (белобрысый) Воронина. Я не говорил ничего, а только большей частью смотрел Иоанна Экзарха. Конечно, как-то устал, идя туда, да и оттуда. Вечером играл с Любинькою в шахматы и читал «Débats», между тем как Ив. Гр. читал 10 №. Когда лёг спать, читал до ½ 2-го, почти всё прочитал, т. е. «Тома Джонса» — весьма хорошо, т. е. как раньше, так и теперь впечатление. В «Прогулках по Риму», конечно, уж не то и заметно (это Майкова) подражание Гоголю в манере, что к Майкову не идёт. Остаётся прочитать критическую статью о Терещенке и «Три страны света» и «О торговле древней Руси»[232].
25-го [декабря]. — Встал в 8¾ и как напился чаю в ½ 10 и к обедне, сказала Любинька, звонили раньше 8, и, конечно, уж она отошла, сказала она, то я воспользовался этим и не пошёл. Ныне хотел быть Ал. Фёд., завтра утром буду у Славинского, вечером у Вас. Петр.
(Писано во вторник, 28-го, 5 час. вечера.,) — Вот трое суток как я пропустил вести свой дневник. Так долго я пропускаю его ещё в первый раз. Отчасти это произошло оттого, что каждый раз вечером приходил домой поздно весьма, а утром было что читать, или оттого, что было что читать, а отчасти и оттого, что часто я, как и раньше, видел, сам ослабеваю в его ведении. Итак, продолжаю.
В субботу, 25-го, у обедни не был, целый день никуда не выходил. У нас был только один Ал. Фёд. Читал «Современник» № 10 и дочитал почти весь. Большею частью, сколько помню, не было весело.
26-го [декабря]. — Утром в 9½ отправился к Славинскому, у него до 12½, оттуда в университет, где как воскресенье, сходился народ к концерту, и я довольно долго (20 минут) походил в коридоре и простоял перед дежурной, чтобы смотреть дам, но их было весьма мало и то ни одной, которая была бы хороша. Там простое письмо получил, а отдал 20 к. сер.: итак, денег не прислали, а я ждал. Вечером был у Вас. Петр. и. должен сказать, что непонятливость Над. Ег. в игре за картами, что ей уступают, а она не понимает, и особенно в короли — как решительно дитя, решительно 12 лет,— эта непонятливость заставила призадуматься и согласиться с Вас. Петр., что есть в самом деле отчего ему сказать: «Да [206] теперь я и если б и стал иметь много денег, то не мог бы быть счастлив»,— что он сказал мне и что врезалось мне в душу, когда он пошёл проводить меня, когда я раз был у него, и пошли мы по 4-й линии, и ветер дул, и баба было помешала нам говорить, идя перед нами; грустный довольно воротился я домой. Ал. Фёд. у нас был с 2 до 3½ и закусил несколько, когда мы обедали, а не обедал сам, потому что к Розенберг шёл. Сказал, что у него есть два №№ «Débats» и 12 № «Отеч. зап.», чтоб я завтра (27-го) приходил к нему за ними. Играл с Любинькой в шахматы 25-го и 26-го.
27-го [декабря]. — Утром было в животе нехорошо, пучило, и поэтому я послал на свои деньги за спичками и табаком, потому что ничего не было (всего 18 к. сер.). Всё читал «Москвитянин»[233] 1848 г., №№ 8–11, большую часть статей прочитал в Смеси и проч. и «Сын отечества» только Иностранную Словесность № 12–47 и 1, 2, 4–48 и последнюю половину № 1 за 1848 «Пантеона»[234], который принёс Ив. Гр. от Горизонтова. Курил трубку, чтоб не пучило, сидел в зале затворивши дверь. Дожидался Вас. Петр., который хотел быть у графа, после у Залемана, после у меня; не был, потому что, как сказал ныне, болела голова.
В 7½ отправился наконец к Залеману за 11 № «Современника» для Ал. Фёд. (его хотел взять я, если не возьмёт для меня Вас. Петр.). Его не застал дома и пошёл к Ал. Фёд., у которого снова просидел до 11½, снова толковали о психологических вопросах, большею частью он спрашивал, я отвечал, напр., о том, как быть любезну с женщинами, о чём с ними говорить, потому что о пустяках совестно, должно, чтоб было для них интересно, что же для них интересно? Кажется, что их вопросы науки и современной политики не трогают. Я сказал: трогают, но точно так же, напр., Пушкин занимался психологиею и Фишер тоже, но между тем Фишер скажет, что Пушкин не занимался, что это особый род занятия, что это так: А. — чисто специальным образом занимающиеся предметом, напр., Ньютон математикою, учением о красках. Б. — люди, занимающиеся этою наукою не как люди специальные, а как люди вообще, литераторы или вообще люди образования общего, но только люди в высшем значении, напр., Гёте. В. — женщины. Итак: А : В = Б : В, т. е. так [см. вклейку — стр. 208].
Так, напр., Гизо и Шлоссер, говорю я, не философы и не политические писатели, а между тем обрабатывали эти науки не хуже или лучше, скорее, других; вообще, собственно так: А1 (специальный учёный), А2 (Гёте, Пушкин, Гизо), А3 — женщина. Показатели степеней выражают различные степени общности, литературности, дилетантизма (хотя это слово и не хорошо), житейственности, практичности людей. Напр., случился развод — дама и может быть заинтересована разговорами о браке, о христианстве, отношении его к буддизму и индийской и вообще восточным религиям, и проч. Или: об отношении мужчины к женщине.— Мы до[207]шли до этого постепенно, и я сказал, что женщина у нас лакей, вольноотпущенник, взявший в руки своего барина, или дитя,— три положения, все три неестественные. И кажется, этот разговор имел следствием развитие и усиление во мне этого взгляда на неестественность положения, на порабощение женщины. Взял у него 12 № «Отеч. записок» и сказал, можно ли дать его Вас. Петр. Он сказал — можно. Дома читал до 2 часов.
28-го [декабря]. — Утром писал письмо, читал «Отеч. записки» («Гордость»)[235]; вчера прочитал «Ревнивый муж» Ф. Достоевского[236], много хохотал над этим, и это меня несколько ободрило насчёт Достоевского и других ему подобных: всё большой прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы. В 11½ пришёл Вас. Петр., выкурил 4 трубки, играл всё в шашки, сказал, что голова так сильно разболелась, что не пойдёт ни к графу, ни к Залеману, а уж разве завтра. Когда он сидел, и я посмотрел ему в глаза,— он от боли в голове не мог, конечно, ничего думать, не мог слушать или говорить со вниманием, можно сказать, потерял aciem[237] своих способностей,— эти глаза в самом деле походили на глаза других многих людей, т. е. глаза многих других в самом деле всегда такие, как у него в эту минуту, и в самом деле нет в них жизни, и ясно в глазах написано, что глуп человек или, то-есть, что он, как баран, ни о чём не думает. Вместе с ним вышел, чтобы идти к Залеману за № 11, снова не застал. Пошёл на 10 минут в Пассаж смотреть на женщин, никого не было хороших, ходил и в подвал, никого не проходило над стеклами, кроме одной женщины, когда я шёл под стеклами и смотрел вверх,— да, кажется, нельзя и видеть ног. Воротился в 2 часа, обедал, после обеда Терсинские играли в шахматы, я учил и смотрел и читал «Débats».
29-го [декабря]. — Вынимая эту бумагу, взял в руки лежавший под нею листок с выписками из «Débats» и прочитал первые строки французской конституции: «Франция s´est constituée en république. En adoptant[238] эту окончательную формулу правления, она»… пришло в голову по сцеплению идей: s’est constituée, adopté — невмешательство во внутренние дела других земель — право, каждого государства устраиваться как угодно — ведь это право, которое теперь признаём и мы, есть следствие признания souveraineté du peuple[239] и вообще теперь в зерне оно признано всеми, а если господство собственно должно принадлежать не народу, а праву, истине, добру, идее, то Гизо не прав, принимая non-interвенцию, да и мы тоже не признаём этого права.
(Это писано 29-го, 1 [ч.] 20 [м.]). Сердце как-то беспокойно, оттого, что был на вечере у Ив. Вас. Когда я писал предыдущее отделение, пришёл вчера (28-го) Ал. Фёд., как хотел. Тотчас отправились к Ив. Вас. На дороге он сказал, что это будет вечер [208] у хозяйки с танцами,— этого я не ожидал и если б знал, не пошёл бы, потому что танцы и женщины и потому что болит голова; я не думал, чтоб Вас. Петр. согласился идти, но сказал, что зайду за ним; Ал. Фёд. сказал: «Так зайдёмте». — Я испугался, что он хочет идти к Вас. Петр. — он слишком дурно живёт,— и не пошёл. У Ив. Вас. хозяйки три дочери, одна лет 30, замужем, потом Марья и Прасковья Константиновны, обе весьма похожи одна на другую. Марья была в розовом, Прасковья в телячьего цвета платье, обе очень бедно одеты, но прекрасно играют на фортепьянах, т. е. лучше Любиньки (танцевали под фортепьяна), лицо не очень хорошо, но и не дурно, держат себя хорошо. Но звездою была жена старшего сына (хотел очертить её профиль, и пробовал чертить на особой бумажке) — брюнетка с востренькими чертами лица, напоминающими несколько греков и Н. Андр. Туффу,— глаза чёрные или очень тёмно-карие, живые, одушевленные огнем, губки розовые, толстенькие, роскошные, выказывающие чувственность; вообще вся фигура роскошная, роста небольшого, хорошо сложена. Мне не нравилась только причёска: волосы были спущены слишком низко для её лица, так что оно выходило слишком широко внизу и узко кверху, что не шло к её востренькому, может быть, слишком резко идущему вперёд носу, да сзади коса тоже была приколота слишком высоко, так что через это голова вся принимала вид, как будто она слишком пригнула подбородок к горлу, и кроме того самый подбородок, т. е. не лицевая часть его, та прекрасна, а часть от горла к углу кости была слишком дугою, так что несколько как бы отвисла, что бывает, когда мы держим голову так, что лоб нагибаем вперёд, а нижнюю часть лица к горлу, между тем как шею держим прямо. Итак, кроме этих трёх вещей: волос, спереди спущенных, косы и подбородка, всё было прекрасно, а особенно глаза и губки, вся она имела роскошный вид, и я всё смотрел на неё с большим вниманием и старанием, особенно с начала вечера (после много смотрел на фортепьяна и играющих на них). Ал. Фёд. больше всех танцевал с нею и говорит, что был сильно взволнован (когда мы шли оттуда, он сказал, что эта, как Н. Васильевна,— значит, самая красивая женщина, которую он видел, и даже должно думать, что она лучше Н. Вас. и есть и ему нравится, хотя он этого не хотел сказать, потому что думает, что мне не показалась красавицей) нравственно и физически. — Я всё смотрел на неё в первую часть вечера; все девицы показались мне с начала вечера дурны, после ни одна не казалась дурна. Вечер продолжался с 8 до 12; около 10 ½ стали играть на фортепьянах хозяйкины младшие дочери одна за другою — сначала Марья романс, и я хотел благодарить её за удовольствие, и всё время сидел и смотрел на ту, которая играла,— это в последнюю часть вечера. Сначала я стоял у двери, которая ведёт в их комнату, где стоят фортепьяна, после у двери у входа; во всё это время танцевали шесть или во всяком случае четыре пары, и я смотрел на молоденькую женщину эту (не знаю, как её зовут: чрезвычайно свежа, [209] как 18-летняя девушка, нельзя думать, чтобы у неё могло быть уже дитя, а она уже родила, между тем — удивительно роскошна и свежа). Стоя у двери, я сказал Ив. Вас., что хочу поблагодарить Марью Константиновну за узор, данный сестре; после танцев он подвёл меня к ней, и я сказал ей несколько слов, нисколько не сконфузясь; после тотчас мы отошли снова к двери, вот: [следует чертеж. См. вклейку — стр. 208].
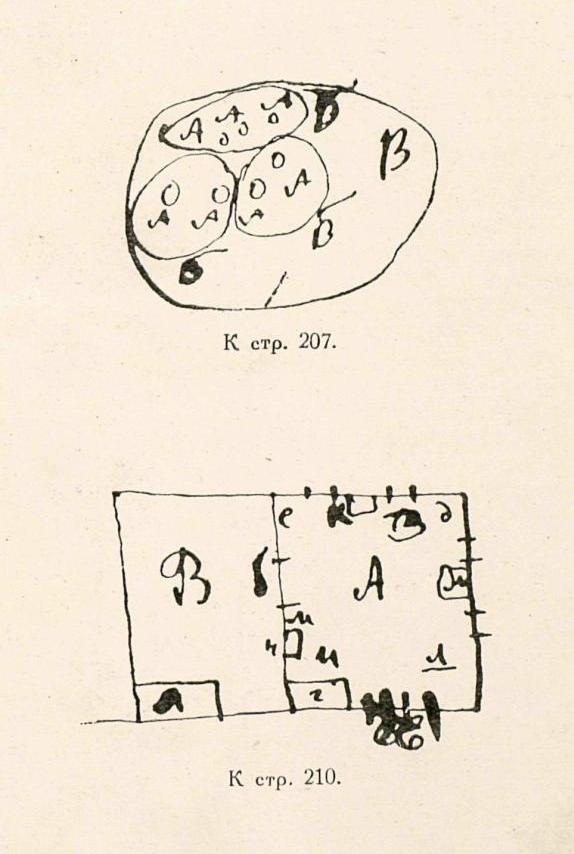
Сначала (1-я кадриль) она стояла на месте л, мы с Ив. Вас. в дверях б — я всё смотрел на неё, почти не спуская глаз; после мы перешли к дверям в, она танцевала на и и галопировала мимо нас совершенно; после этого хозяйкины дочери сели на е, и меня подвёл Ив. Вас. к ним с благодарностью; я ошибся сначала и смотрел только на одну, между тем как должен был смотреть на обеих. После этого мы говорили с ветеринарным студентом с надутыми ужасно щеками на и, и Ив. Вас. сидел с нею у ж — он к углу, она к дверям; я подошёл и сказал несколько слов; говорили о Туффе, я сказал, что Ив. Вас. испугал меня, сказавши, что он будет здесь; она спросила: «Почему же?» — «Потому что я виноват перед ним». — «А так вы знаете за собою вину, поэтому и боитесь». — Мне не пришло в голову, что отвечать, и разговор кончился. Я отошёл к Ал. Фёд. После этого некоторые дамы и кавалеры ушли и танцевали только в три пары. Мы сидели на л, она с Ал. Фёд. стояла в кадрили на з. Так было и после, когда пришли снова и составились снова четыре пары. В 10¾ ушли чужие, и своих недоставало, поэтому с час играли на фортепьянах. Она ушла укладывать ребёнка, после воротилась и села на м; когда играли, я всё сидел у к, между к и з, и смотрел на играющих и притворялся, что слушаю весьма внимательно, чтобы польстить и доставить удовольствие, потому что мне стало как-то жаль этих бедных девушек, которые дожидались этого целый год, потому что вспоминал тот вечер на святках за два года, когда Ал. Фёд. был у них в первый раз,— тогда в первый paз была и она в этом доме, куда после вошла снохою. Когда Марья Константиновна кончила, я хотел пойти её благодарить за игру, чтоб доставить ей удовольствие и вместе сколько-нибудь сам получить значение в её глазах. Но тотчас стала играть Прасковья Константиновна, и Марья Константиновна осталась у фортепьян, так что я хотел дождаться, когда кончит она, чтобы благодарить обеих вместе. Но игра Прасковьи Константиновны кончилась галопом и танцами, и тотчас же после неё села старшая самая сестра, а они начали кадриль — так и пошло, а между тем у меня начинала несколько пробегать лёгкая дрожь по коленкам, когда я готовился благодарить. Во время игры говорила мать, которая сидела между е и к, с Ал. Фёд. и Ив. Вас., который сидел подле меня (я сидел всё между к и з) между д и ж, о том, что вот нынешний вечер скучный, а тот, за два года, был весьма весёлый,— так долго помнят, так быстро идёт время! подумал я; подумал о том, что этот вечер один — важнейшее время года для дочерей её и, может быть, для неё,— как-то стало жаль, [210] что он скучен или не так оживлён, как бы они ожидали, и жаль, что я не оживляю его. Наряженные, которых ждали, не пришли. Молодые люди танцевали с танцкласскими вывертками, из [которых] большая часть (привиливанье ногой) весьма пошлы, а одна, во время, когда пары несутся в промежутки одна другой, в середине полёту[240] и даётся на минуту особая скорость именно в то время, когда пары проходят одна мимо другой — это что-то одушевлённое и хорошее, а девицы танцуют решительно как следует, не знаю только, грациозно ли,— кажется, как должно и некоторые хорошо.
У меня в мыслях всё вертелась фигура Тарнеева (Майков, «Прогулки по Риму» в «Современнике», XI №), и мне хотелось принять на себя его роль, но слишком мало любезничали другие, и потому я, зная, что середины держать я не умею и должен, если не хочу молчать, быть именно Тарнеевым, молчал всё.
(Пришёл Ив. Гр. — 2 час. 20 мин.; итак, я писал целый час,— садимся обедать, после буду продолжать.)
Продолжаю писать. Теперь 9½. — Я заметил в себе различные результаты этого вечера. Во-первых, сердце как-то волнуется и неприятно, потому что я недоволен ролью, которую играл вчера — столб и больше ничего. Потом вследствие этого я увидел необходимость знать много вещей, от знания которых раньше отказывался, и раньше всего танцёвать необходимо, решительно необходимо, но с этим вместе, что необходимо танцевать, чтоб сблизиться с девицами и молодыми женщинами, чтобы проложить себе путь в общество их и, следовательно, путь к тому, чтобы избрать одну из них в подруги жизни, потому что чем более знать будешь людей, тем лучше будет выбор (больше число и лучше знаешь), вместе с этим соединяется мысль, что это ведёт к физическому волнению, к тому, что влюбишься, а мне хотелось бы принести, сколько возможно, в супружество душу и тело девственным, так чтобы я мог сказать своей жене: «Ты первая, которую обнимаю я, ты первая, которую люблю я». Потом необходимость играть на фортепьяно или на чём-нибудь,— это менее, но всё-таки очень хорошо было бы, чтоб иметь возможность услуживать этим добрым людям. Потом мне кажется, что должно было бы уметь рисовать,— по крайней мере, настолько, чтобы мочь делать очерки профилей и лиц, а то вот хотелось бы сохранить лицо этой жены сына, а между тем я не могу этого сделать. Потом необходимо говорить по-французски и немецки, потому что я всё более и более чувствую, что начинается новый период в моей жизни, что физически-духовная потребность любви будет всё усиливаться и усиливаться во мне, что мысль о подруге жизни, с которою делить сердце пополам, которую обнимать, которую целовать, которая, наконец, будет в едино тело со мною и в едину душу,— что эта мысль всё сильнее входит в мою голову, и я теперь весьма много думаю о том, как будет, когда я женюсь, точно так же, как раньше думал много о том, [211] как, например, видеть нагих женщин. И пришло в голову, как развивается духовность и как проникается духовностью чувственность: сначала мне хотелось только просто видеть нагих женщин, чтоб физическая природа волновалась, чтоб сердце судорожно билось, а то всё равно, хороша эта женщина или нет, на красавиц не хотелось смотреть; а теперь хочется смотреть на красавиц; а между тем чувственность развилась сильно, и между тем она стала гораздо духовнее — да, так; жениться теперь моя дума, и этот вечер (не потому, чтобы меня слишком взволновала эта брюнетка, а просто потому, что здесь я был в обществе девиц в первый раз после того, как развился в этом отношении, т. е., собственно говоря, в первый раз сознательно и со вниманием в течение нескольких лет, весьма многих, потому что на свадьбе у Вас. Петр. я был занят им и Над. Ег., а раньше на девиц смотрел решительно не так),— этот вечер будет иметь большое влияние на меня, и, кажется, что он двинет меня намного вперёд: мне сильно хочется и танцевать, и бывать на вечерах, и проч., хотелось бы также и рисовать, и говорить по-французски и немецки для этого необходимо — итак, вот новый источник недовольства собою. Наконец, мне стало жаль, и глубоко жаль, этой прекрасной, умной, пламенно-чувственной и роскошной женщины, что досталась она мужу невзрачному, глупому, пошлому, настоящему канцелярскому чиновнику, истинно типичному, с пошлыми ухватками, который не может удовлетворить ни чувственности, ни души её, что должна она жить в нужде и беспокойстве,— жаль стало её и всех подобных ей, родившихся в одном с нею состоянии, т. е. собственно жаль не её, как её, а её как одно из этих лиц этого рода, не как её именно, а как символ, как сосуд, в котором проявилось это,— жаль, наконец, стало и этих девиц, т. е. снова не собственно этих девиц (хозяйкиных дочерей,— конечно, они милы), а всех девиц этого состояния, родившихся хорошими и не пошлыми в этом положении в обществе: как грустна, скудна удовольствиями, однообразна их жизнь — целый год ждут они этого праздника, и этот праздник, этот праздник так ничтожен, так всё помеха на нём, так всё не клеится,— жаль от души. И вот из этого сожаления о них, между тем как это никогда не приходило в голову мне о Любиньке, не приходило в голову о других сёстрах,— из этого я снова вижу, что я глупый и смешной человек, и даже, собственно, пошлый и гадкий человек: всегда свои кажутся мне пошлы и неинтересны, поэтому я и не думаю о них, а другие, т. е. все, которых я не знаю, о них всегда я предполагаю хорошо,— и, напр., Ступины кажутся мне лучше Любиньки, эти девицы гораздо лучше и Любиньки, и Ступиных, так что я всегда сравниваю себя с тем, что читал где-то: «О вы, чувствительные люди, плачущие в театре над мелодраматическими несчастьями актёра и не находящие места и предмета для вашего сострадания, жалости, помощи и любви в мире!» В самом деле, что за тупость: почему не примечать из того, что делается кругом тебя!
Шутя я начну учиться танцевать, но для того, чтобы начать, [212] должно иметь много денег, почему нынче я не могу, а как этого не будет, во всяком случае, весьма долго, т. е. не будет денег, то шутя я стану тосковать об этом, как тосковал, напр.,— да о чём я не тосковал?
Пришёл я оттуда, начал читать и скоро уснул. Дорогою Ал. Фёд. говорил, что если б был на месте Ив. Вас., употребил бы всё старание употребить её. Это на меня подействовало неприятно, как вообще на меня это действует, когда, говорят о соединении полов так, как об еде.
29-го. — Проснулся, когда сердце тосковало оттого, что вчера вечером был у Ив. Вас.,— т. е. отчего именно, это трудно решить; тосковало довольно сильно. Я сначала играл в шахматы один по книге, после стал собираться от скуки, т. е. тоски, к Славинскому, после раздумал, потому что думал, может быть, придёт Вас. Петр. и что не хотелось у них обедать. И в самом деле, Вас. Петр. пришёл, играл в шашки, курил и ушёл в 1 час, я стал писать в этот листик. Когда читал Гизо, писал этот листик, у меня не было на сердце ничего, решительно ничего; во время, когда был Вас. Петр., постепенно забывалась тоска. Вечером хотел идти к Славинскому, но в 4 или менее пришёл вдруг Пелопидов. Я ругнул его в голове, но ничего, конечно, остался дома: во-первых, расстроил план, во-вторых, принёс чрезвычайную скуку; но против ожидания, когда, он сидел, просто только, да и то не слишком, скучал, а беситься не бесился. Торопил чай, чтоб он скорее ушёл,— ушёл в 7.
Я посмотрю, не расположить ли так: ныне к Вас. Петр., к которому обещался завтра и к которому хожу теперь как бы по обязанности, без всякого удовольствия, даже с некоторою неохотою; утром завтра — к Пластову и Благосветлову, который в доме Соловьева, как узнал от Пелопидова, вечером — к Славинскому. Между тем стал подстригать на всякий случай бороду, если вздумается идти.
(Пошёл ужинать, после продолжаю.)
Стал вместе с этим играть в шахматы один; Любинька сказала, чтобы играл с ней,— и начал, и время прошло, и не пошлось к Вас. Петр. Ничего решительно нынешний день, а за этим листком провёл почти 2 часа.
30-го [декабря]. — Встал в 7. Пришла охота пересмотреть эти записки, т. е. сосчитать, сколько страниц,— перенумеровал, и выходит, что ровно 100 страниц, а перед этим попались в руки письма, и я сложил октябрь и ноябрь, 63 и 73 №№, в месячные конверты, более потому, что теперь топится печь и хорошо сжечь; за этими делами прошло полчаса и теперь 7½.
(Писано в 9 час., 31-го.)
Утром вздумалось, что можно после обеда быть у Славинского и Вас. Петр. вместе. Так и сделал. Утро просидел дома.
Оттуда пошёл к Ал. Фёд., занёс «Débats» и остался у него. Там был Чернявский, и мне было скучно довольно, но собственно не хотелось идти к Вас. Петр., и я просидел там до 10½. Гово[213]рил между прочим о Робеспьере и Луи Блане. Это в первый раз я обещался быть у Вас. Петр. и не был.
Утром был Фриц, я взял у Любиньки 2 руб. сер. и отдал ему. Без меня был Корелкин и принёс два письма, одно от В. И. Промптова.
31-го [декабря]. — Встал в 9 и как встал, сел за это. Хочу, так как весьма холодно, утро провести дома, в 3 [час.] к Вас. Петр., у него пробыть до 6 час., после домой,— лучше, чем поздно вечером. Итак, моё последнее посещение в этом году, и первое в следующем, будет посещение Вас. Петровича.
Хочется написать общий обзор этого года, да лень. Не знаю, напишу ли. Скорее нет.
11 час. веч. — В последний раз сажусь за это отделение моих записок. Утром в 10 [час.] хотел к Корелкину и взять письмо из университета, потому что вздумалось ошибочно, что есть уже и что теперь суббота; но дорогою вздумал, что будет только завтра, и было весьма холодно, поэтому воротился. Пришёл скорняк кроить мех и просидел весь день до 7 [час.]; было весьма холодно,— в 7 и 8 [час.] я сидел в зале в шинели, которую надел в первый раз. У нас в комнатах, даже в маленькой, было весьма холодно, 12–13° в зале и только теперь в маленькой комнате стало как следует, потому что затворена весь день дверь. Я играл утром один в шахматы и проч., читал дрянь, читал и Гизо несколько страниц. В 3½ пошёл к Вас. Петр., от которого воротился в 5¾, обещавшись быть завтра, чтоб дать возможность отговориться моим присутствием от того, чтоб идти на вечер, который даёт завтра тётка. Над. Ег. в профиль, когда взглянул, понравилась как раньше, а в лицо — только что встала, и причёска спустилась, так что лоб был слишком треугольником. Что-то будет с Вас. Петр.! О, дай бог, чтоб было хорошо!
Когда воротился, спал, читал Гизо, в третий раз начиная читать, и теперь прочитал 20 стр., играл в шахматы с Любинькою.
Прости, тетрадь! Дай бог в наступающем году записывать более радостные, более счастливые, особенно для Василия Петровича, события!
Дай, боже!
11 час. 10 мин.
Дай, боже! [214]
Дневник 1849 год
Январь
1 [января]. — Встал как бы ничего, перекрестился и поклонился несколько раз, прося бога (в которого, бог знает, верю или нет) о счастьи Вас. Петровичу и себе; после чаю читал Гизо Hist. de Rév. и в продолжение утра прочитал около 100 стр.; в 3 [час.] пришёл на минуту Ал. Фёд., после Серапион Благосветлов, который просидел с полчаса, после Ив. Вас, который просидел до 6 час. (с час); мне было досадно, что Терсинские так смеются над ним, и я готов был защищать его. С ним вместе пошёл к Вас. Петр.; он проводил до окон и пошёл домой. Я просидел там час; когда пришёл, Надежда Ег. спала, и Вас. Петр, говорил мало. Между прочим, когда она уже проснулась и потягивалась, он сказал: «Счастливы люди, которые скоро привыкают к своему положению; правда, и я часто могу скоро привыкнуть и даже к самому дурному, но не ко всякому… напр., вот хоть к марьяжу… И странное дело, что судьба ставит человека в такие положения, в которых никогда не следовало бы ему быть». Это мне открыло снова глаза на всю глубину ложности положения и горя, в которое поставлен он этим браком. И она? Разве она также не несчастлива? Мне мелькнула мысль, что уже не в самом деле ли должно его назвать человеком безрассудным и без характера,— но мне самому совестно этой пошлой мысли. Когда пришёл домой, чаю уже напились, и я сказал, что пил, когда Любинька спросила,— конечно, не стану говорить иначе,— и пришло в голову: хорошо же начинается новый год,— тем, что не пил чаю вечером. Ив. Гр. сказал Ив. Вас., что до весны уже нельзя, а тогда должно будет занять другую квартиру, получше и подешевле и поболе,— итак, и они понимают неудобства этой. Что мне делать, я, конечно, не знаю, но что сделаю — это знаю: пока Вас. Петр. не устроится, я не перейду от них, потому что деньги, сколько возможно, нужны. В зале было холодно, утром на столе перед диваном 12° и окна замёрзли, я отчищал лёд. (— Писано это около половины второго в зале, 2 числа.) — Когда воротился, спина ломила, как бы после чрезвычайно долгой ходьбы, как бы начинается лихорадка по этой боли.
2 [января]. — Утром раздосадовал головою Ив. Гр., который смеялся над Ив. Вас., что тот дурно говорит о духовных сановниках и пр. — И вчера и ныне до обеда сидел в зале у печки и ныне даже вздумал сесть на комод. Ночью была два раза поллюция, и тяжело было после неё в этом члене. Ныне дочитал до 3-й книги Гизо и опять начал снова, потому что хочется хорошенько запомнить эту историю, но успех не решительно хорош. Итак, если это пойдёт до конца так, то я буду читать её 4 раза. [215] Вас. Петр. обещался быть ныне утром вторично вечером, чтобы вместе идти в Залеману, потому что я хочу, сколько возможно, облегчить его от тяжёлой беседы. Но вот поутру его нет, что-то будет после обеда.
Вчера (или нет, третьего дня) пришло в голову, что списанная по моей методе сокращённо «Княжна Мери» поможет прочитать другим мои бумаги и этот дневник, если я стану человеком замечательным и умру, не успевши написать сам своей автобиографии, с помощью этих бумаг и дневника, а то мысль, что эти материалы могут пропасть, вообще меня сильно (т. е. не сильно, а всё равно что, напр., что будет, когда Над. Ег. после Вас. Петр. останется на моих руках, или как Манилова занимал его мост) занимала. Теперь, кажется, я обеспечен: не могу сказать хорошенько, шутя или нет я пишу это: «успокоен в этом отношении» — так глупо, что каждый скажет: шутя, насмех,— а между тем, едва ли так,— нет, это серьёзно занимает меня.
(Писано 3-го, понед., 7¼ утра.) — После обеда стала разбирать ломота в спине и проч., как бы лихорадка; я подумал, подумал, идти или нет в университет за письмом (собственно ждал я повестки), и решил, что лучше пойти, потому что может быть и расхожусь. Пошёл — и в самом деле неприятное расположение прошло в теле. Идя оттуда (там получил повестку на 100 руб. сер., чего никак не ожидал, что так много,— но чувствования это никакого не произвело,— вероятно, 70 руб. сер. или 75 Любиньке; да и мелькнула мысль: если будет мне 40 руб. сер., отдать их Василию Петр. в два раза, а не в один,— мысль пошлая, отзывающаяся холодностью и глупым педантством, которое говорит: «смотри, чтобы не шло у него понапрасну денег», как будто б он не лучше меня знает им цену и умеет их беречь), зашёл к Ал. Фёд., который был в Царском; у него взял 22–23 «Débats», эти уж прочитаны мною, вечером читал их (т. е. с 4 [час.]). Ждал Вас. Петр., но его так и не было — жаль, что не было — Ив. Гр. был весь вечер у Мих. Павл. — Прочитавши их, не стал читать Гизо, а «Москвитянин», который весьма глуп, и играл с Любинькою в шахматы. Уснул раньше, чем пришёл Ив. Гр., около 11.
3 [января]. — Проснулся в 6½. Марья тотчас стала подавать самовар, о котором я говорил вчера. Мне было отчасти неприятно, что слишком рано, целым часом. Как напился, читал Гизо и лёжа стал писать это в зале, между тем как Ив. Гр. пишет на столе в спальне. От Ворониных зайду в почтамт, оттуда к Вольфу посмотреть новые номера журналов. Вечером буду ждать Вас. Петр. — Что-то получу на почте? Однако, меня занимает несколько только то, напишут ли что-нибудь о перемене квартиры или нет, да и о шитье одежи тоже.
4 час. 50 мин. — Пришёл к Ворониным слишком рано, в 8 час. 40, сказали, что спит. Пошёл в почтамт, получил деньги. Экзекутор, когда пришёл, увидя меня в углу, сказал: «Вот хорошо, что вы рано, а то будет много». Я поздравил его с новым годом, он [216] подал руку и сказал: «Для нового года вам прислали поболе». Я сказал: «Большею частью присылают не мне, а сестре». Пошёл к Ворониным, Константин сказал, что в пятницу — это меня не взбесило нисколько. — Пошёл к Корелкину,— тот всё представлял из себя актёра. Ушёл в 10½ к Вольфу, спросил кофе и «Отеч. записки»,— ни их, ни «Современника»; я читал газеты до 2½ без особого интереса — нового только скандалёзная история Мальвиля. В 3 часа, когда пришёл Ив. Гр., обедали; раньше и после играл в шахматы.
(Писано 4-го в 3¾.) — Вчера пришли вскоре после этого Александр Яковлевич и брат Горизонтова, посидели; едва только ушли, как пришёл Пластов,— я ему весьма был рад; он громким голосом (как всегда) говорил о театре, Фанни Эльслер и проч. Как ушёл (в 8), я пошёл к Олимпу, его не было, поэтому к Ал. Фёд., у которого просидел до 11½ без особого удовольствия, но скука едва показывалась; говорил также в психологическом роде, и раз, когда он сказал, чтоб я развил мою тему, что человек не переменяется, я начал с того: «Напр., положим, честолюбие есть в человеке, ну, теперь он мальчик, если нет сил, так, чтобы быть первым в играх, он может быть меланхолик». — Это его поразило: «Удивительно верно, это мой портрет»,— сказал он. Я не сумел, да и [не] позаботился развивать его жизнь, а продолжал прямою дорогою и скоро кончил. Взял Губеров перевод «Фауста» у него.
4 [января]. — Утром проснулся почти в 9, стал после чаю писать письмо, ещё не кончил (в 10¼), как пришёл Залеман, чтоб дожидаться здесь Вас. Петр., который стал одеваться, чтоб идти к графу, с которым намерен ехать в Штутгарт. Пришёл Вас. Петр., выкурил трубку и пошёл (Ив. Гр. уже не было). Залеман остался здесь, я письма так и не дописал. Вас. Петр. пошёл к графу (это писал, дожидаясь Ив. Гр., а Любинька держала в руках «Современник» № 11, теперь взяла «Фауста», я беру читать «Современник»).
(Писано января 5-го до обеда, 5 час.) — Только что я взял вчера «Современник», пришёл Ив. Гр. и начали обедать. Мне было досадно до обеда, что он так долго не идёт, потому что хотелось идти к Славинскому; теперь мы сели обедать.
Продолжаю теперь рассказ о Вас. Петр. Вас. Петр. пришёл в необыкновенно живой радости: «Есть надежда; князь человек весьма умный и необыкновенно обходительный, во всяком случае я в первый раз встречаю между нашими вельможами такого: он говорит, что весьма много заботится о воспитании, своих детей, считает это весьма важною вещью, просил бывать у него чаще, каждый день, чтобы, говорит, мы могли с вами познакомиться. Спрашивал, занимаюсь ли литературою, я сказал да, и теперь должен понести к нему показать что-нибудь: это-то именно мне и подает надежду, что он разборчив, поэтому станет смотреть не на аттестаты. Когда спросил, есть ли у меня кто знакомый, я сказал, что Сидонский может сказать ему обо мне. Это его обрадовало,— [217] верно он знает Сидонского. Умный человек и без этих оскорбляющих и унижающих гримас, которые всегда почти в наших вельможах». Вас. Петр. был чрезвычайно рад, говорил живо, довольно, мне это было отчасти стеснительно, потому что не хотелось, чтобы сестра расслышала подробности, как и куда и что, и проч. «Теперь,— говорит,— я пойду к Сидонскому предупредить его, если не застану — попрошу быть дома в 7 час». — Я сказал, чтоб зашёл снова ко мне, если застанет, оттуда, а если нет, так в 7 час. зашёл бы, я пойду вместе с ним — сам думал я пойти к Излеру. Зашёл оттуда и сказал, что Сидонский был весьма обрадован его приходом, сказал, что дивился, что он перестал бывать у него, дивился его женитьбе (хотя, говорит, конечно, уже знал об этом от Орлова) и проч. Вас. Петр. был весьма рад. Я тоже за него и потому, что если он выйдет из стеснённого положения, то и я выйду тоже,— так-то мерзкие эгоистические стихии вмешиваются везде — и уже явились мечты, как же это будет: мне должно будет съездить за Сашею и вместе проводить Над. Ег. в Штутгарт — удивительно, что за мысли бродят в голове! — До обеда играл после этого в шахматы, у него обещал быть в среду.
(Писано 7 числа, пятница, 12 час. 10 мин. утра.) — После обеда отправился к Славинскому, увидел, что он пишет для отца ведомости, и ушёл через ¼ часа, сказавши, однако, что ухожу потому, что у него есть дело, а не по чему другому.
5 [января]. — Утром был Вас. Петр., сказал, что на Литейной глупость: жена, которую вчера он встретил, сказала, что дадут перевод, а муж ныне сказал, что не стоит его утруждать этим. Просидел до 3, так что Ив. Гр. пришёл. После обеда я тотчас к Славинскому, у которого просидел до 6, оттуда идя заходил к Излеру, и не видал всё-таки «Presse», для которой главным образом заходил, чтоб посмотреть Шатобриана Записки, поэтому зашёл в Пассаж, там увидел, что печатают не их, а что-то Ламартина. Оттуда к Вас. Петр., у которого просидел с 8 до 9¾, [он] говорил о том, что поедет, если будет тепло, завтра (6-го) на Рогатку к Ульяне Яковлевне; я сказал, что должно ехать, он не хотел. Деньги вчера вечером (4-го) разменяли, и я отдал 25 руб. сер. Вас. Петр., когда он был поутру. Взял «Современник» и «Отеч. записки» 12-е №№, и Вас. Петр. обещался прийти в пятницу (7-го) утром. — Когда пришёл, читал взятые книги.
6 [января]. — Утром с 10½ до 2¼ просидел у Вольфа, где, однако, не было ни «Отеч. записок», ни «Современника», за которым собственно я пошёл; но читал всё и между прочим и «Revue d. d. Mondes», пил кофе. После всё читал дома. Идя от Вас. Петр., купил вчера на 20 к. сер. пастилы и ел вечером вчера и утром это и отдал может быть ⅓ Любиньке, нет, меньше; это с давнего времени, с того времени, как живу вместе с ними, покупаю я в первый раз сласти. Вчера утром, когда ждал по обещанию или лучше так, потому что знал, что пойдёт мимо, Вас. Петр., сердце билось какою-то тоскою, как раньше, когда ждал его при[218]хода; в этом много участвовало то, что я думал о том, что отдам ему деньги, чего раньше не было, т. е. о чём раньше не думал.
7 [января]. — Всё до сих пор читал и прочитал почти всё. «Том Джонс» весьма хорош, но не Гоголь — болтовни много; но превосходно. Когда начал читать «Белые ночи»[241] вечером, боялся влияния Вас. Петровича похвал: «конечно, покажутся хороши, потому что он хвалит»,— но нет, кажется, сам увидел, что в самом деле весьма хорошо; кажется, что сам увидел, что весьма хорошо. Ныне вечером от Ворониных зайду к Излеру; если будет «Presse»,— останусь там, если нет — к Ал. Фёд. — К Ворониным иду решительно ничего, как бы и не прерывалось. Теперь 12 ч. 28 м.
(Писано 8-го, суббота, 1½ ч.) — Был Вас. Петр., ушёл в 2¼, хотел быть ныне от князя и Сидонского на обратном пути; я у него хотел быть в воскресенье после обеда. Он пришёл в новой шинели, я заметил это, но не стал говорить, потому что здесь была Любинька; променял на прежнюю и дал в придачу 15 р. сер.; довольно хорошая, с енотовым воротником, хотя, конечно, довольно плохим. Это мне показало, что он мог располагать теперь несколько деньгами, и — странный, пошлый эгоизм — мне пришло в голову: то, что я лишаю себя возможности располагать ими для него, сильнее, чем то, что слава богу, если он не горюет, по крайней мере, об этом. Сказал, что на Сретенье был на Рогатке, выиграл 7 р. сер. и весьма рад; весьма хорошо, если бы почаще. — Я думаю после обеда играть и в шахматы. От Ворониных, где ровно ничего особенного, пошёл к Излеру,— он перестал, кажется, выписывать «Presse», поэтому я побываю разве ещё раз у него, а то более не буду: не из-за чего, лучше к Вольфу; после к Ал. Фёд., у которого до 10½ (час.). Разговор не вязался, т. е. я не хотел вязать; взял за 24–31 «Débats» и когда пришёл, читал их, но скоро уснул.
8 [января]. — Утро всё читал «Débats» и теперь почти прочитал, кроме рассуждений Национального Собрания и иностранных новостей, которые обыкновенно отлагаю. Из 31 декабря хочу списать имена [тех], кто за, кто против сбавки ⅔ налога на соль[242] — во всяком случае, главные имена.
(Писано 10-го, 10 ч. 10 м. утра.) — Вас. Петр. не был потому, как узнал, когда был у него 9-го, что проснулся поздно и не ходил к графу, а пойдёт уж в понедельник 10-го, т. е. ныне, и оттуда зайдёт ко мне. В субботу Ив. Гр. не приходил из Сената до 6 ч., мы его ждали и всё-таки не дождались, пообедали в 5½ и я тотчас в университет. Савельич был болен, я зашёл к нему в комнаты и рад тому, что зашёл; оставил 20 к. сер. за письмо. Оттуда к Славинскому, по дороге на минуту оттуда к Ханыкову,— он всё болен, и я почти всё молчал, да и он говорил без особого жару, так что было не решительно нескучно; книг никаких я не взял у него; спорить или излагать своих мыслей не хотелось, потому что сам ничего не знаю в этом деле. Пришёл домой в 11½.
9 [января]. — Утром пошёл к Ол. Як. показать письмо; от него [219] в кондитерскую к Вольфу, где прочитал новый «Современник» («Отеч. записок» ещё не было); статей хороших нет, книга пустая довольно. Пошёл оттуда в 3, и на дороге захотелось ужасно испражниться; я зашёл в дом, который подле Милютиных лавок по каналу; это уж не в первый раз, что я досиживаюсь до того, что не могу дойти до дома. После обеда спал. В 7 ч. пили чай, и я к Вас. Петр., где просидел до 11 ч. почти. Под конец я всё говорил, хоть без всякого одушевления, о политике; отнёс ему XI и XII [№№] «Современника». Вас. Петр., обещался зайти от графа 10 числа. В эти дни я в шахматы не играл, а всё читал «Débats» и «Современник» (XI и XII) и «Отеч. записки» (XI).
10 [января]. — Хотел было утром идти к Ол. Як. за «Историею Консульства» Тьера, которую предложил он, и чтобы купить бумаги, но раздумал, чтоб не проходил Вас. Петровича и потому, что должен спросить денег у Любиньки, которая по моему расчёту должна дать мне ещё сдачи 2 р. 20 к. сер. с 5 р. сер., которые отдал я ей, когда получил деньги. Вчера был Алекс. Фёд., но не застал меня, часов в 6. Эти деньги, которые на Любиньке, не знаю, получу ли, потому что она, кажется, не думает о них.
(Писано 12 янв., 9 час. веч.) — В понедельник В. П. пришёл, и я вместе с ним пошёл (он у графа не был, потому что проспал, а пошёл к Сидонскому) купить бумаги и к Ол. Як.; купил на 40 к. сер. полдести и 25 конвертов, потом к Ол. Як., но не застал никого. Когда шёл от него домой, под ложечкой или, как это сказать, в грудных костях стало весьма больно, так что и подумал: «Ну, уж не холера ли, да нет, пустое», но на дороге прошло, хотя было минут 10 весьма больно. Вас. Петр. пришёл от Залемана, принёс себе новый «Современник» и сказал, что Сидонский сказал, что граф ещё не был у него. Вечером от Ворониных я пошёл к Ол. Як., у которого застал Ал. Фёд. — Тьера уж он отдал; это меня почти не раздосадовало, только так головою было неприятно.
11 [января]. — Утром обещался быть Вас. Петр., но не приходил, поэтому тотчас после обеда отправился я к нему, просидел почти до 5¼ и воротился назад. Играли в карты, и Над. Ег. своею непонятливостью (радуется чрезвычайно, когда её выводят в короли, и решительно не может заметить, что оба ей нарочно уступают и выводят её) и проч., своими толками о модных картинках и о том, что непременно должно оставить их,— одним словом, тем, что необыкновенно неразвита в этом отношении, решительно как 10-летнее дитя, она, я говорю, возбудила сильное сожаление о Вас. Петр. во мне. — Пришедши оттуда, почти всё спал, с самых 7½ до двух, когда Ив. Гр. воротился с вечера у Мих. Павл. (это ещё в первый раз так поздно), и думал, что, проснувшись в два, уже не усну; напротив, просыпался ещё и всё снова тотчас засыпал, так что спал не менее 12 часов сряду. Да, был Ал. Фёд. до обеда, я ему по условию дал на время 10 р. сер. из тех 20, которые оставил для внесения в университет.
12 [января]. — От Ворониных пошёл к Вольфу, «От. записки» [220] чтоб читать. Их уже читал один господин, которого я просил после дать мне их. Он всё читал, но наконец его соблазнил «Сын отечества», который лежал у меня на коленях, и он поменялся на него. У Вольфа не видно «Droit» и «Gazette de France», но вместо того,— и может быть это лучше,— явилась «Indépendance Belge»[243],— её-то я раньше всего и начал читать, а после «Staats-Anzeiger» прусский[244]. Итак, во Франции Собрание большинством 4 голосов приняло в рассмотрение предложение Rateau; во Франкфурте дали полномочия Гагерну вести переговоры с Австриею как отдельною державою[245]. У Вольфа я просидел так долго, как, может быть, никогда ещё не сидел, до 4½, так что пришёл домой в 5,— выпил только кофе и не проголодался. У «Отеч. записок» переменился формат полей, и от этого, хотя страница печатная осталась та же, книга стала шире; взяв её, я перекрестился, молясь, чтобы нынешний год были здесь труды мои или Вас. Петр.; они переменились также в том, что вместо двух колонн везде теперь одна. Прочитал «Неточку»[246]; хотя содержание мне не нравится, но мне кажется, что это решительно не то, что «Капельмейстер Сусликов»[247]: то чушь, а это писано человеком с талантом, так что не чуждо психологического анализа и занимательности для науки, хотя собственно мне и не понравилось. В Смеси «Наталья Ивановна»[248] писана довольно порядочно, хотя решительно ничтожна, но видно, что человек не решительно пошлый, хотя есть некоторые следы тупости. Записок Шатобриана нет, о чём я жалел. Обзор литературы за 1848 г. писан лучше, чем в «Современнике», но всё не слишком-то, и зачем было несколько говорить о «Домби»? Это отзывается общим местом. Места из «Рустема и Зораба» Жуковского[249] в самом деле некоторые весьма хороши по языку и стиху, весьма хороши, как будто народная легенда наша или из Гёте; есть, хотя мало, и Державинских оборотов вроде девочкам — сучочкам. После обеда лёг читать «Фауста» Губера, и теперь перевод понравился более, чем сначала; заснул между прочим и спал до чаю; после был доктор у Любиньки, и как уехал, я принялся писать это.
В газетах пишут, что Гизо скоро издает продолжение своей «Истории анг. революции» — Кромвеля. Мне бы хотелось это как-нибудь прочитать. Что думать о Гагерне и споре его с Linke за Австрию, не знаю; верно в самом деле нельзя, если Gagern решается исключить её из Германии — у меня какое-то хорошее мнение о нём, а отчего — я сам не знаю, и, этому хорошему мнению уступая, я не ругаю его за то, что он не рубит с плеча, как всегда Linke. А Роберт Блюм всё нейдет у меня из головы и всё меня беспокоит мысль, что это убийство должно остаться без отмщения. Теперь 10 часов, завтра начинаются снова лекции: для меня ровно всё равно, только то разве, что теперь нельзя по утрам видеться с Вас. Петр. В «Неточке» мне что-то кажется: не к этому ли же роду людей, как отчим Неточки, принадлежит и Вас. Петр.? т. е. со слабою волею? — Внешнее сходство меня заставляет так [221] думать тоже, напр., женитьба того и другого; но что за слабости воли у Вас. Петр.? — это вздор.
13 [января]. — Утром читал кое-что довольно плохо из давно принесённых Ив. Гр. книг, играл в шахматы, тосковал о Вас. Петр., которого между прочим и дожидался; в 12 час. ушёл в университет к Куторге, но его не было, потому что болен. Оттуда я шёл с Филипповым, прошли до Мойки, он по каналу, я пошёл к Вольфу, у которого просидел до 3½ — 1½ часа — и чувствовал усталость и ломоту в спине (когда пришёл домой, уже после увидел, что это припадок лихорадки). Куткины утром присылали письмо, я вследствие того написал Данилевскому, чтоб он пришёл к ним. Около 5 пришёл Вас. Петр. и сказал, когда вышел курить в залу, что Горчаков, у которого он был ныне, сказал: «Вы человек семейный? Это одно уже уничтожает всякую возможность». — «Я стал было говорить, что я могу оставить жену здесь…» — «А это противно моим правилам и притом я уверен, что вы женились по любви; вам будет хотеться увидеться с нею». Такой добрый человек, извинился, что беспокоил меня, и проч.». Вас. Петр. сидел до 7½, едва я упросил дождаться чаю, а то хотел уйти, между тем как самовар уже был на столе, потому что у него хотели быть Самбурские, а сахару нет, насилу я удержал. Меня в голову так поразило, т. е. не поразило, а так, это известие. Я не волновался ровно нисколько, ровно нисколько, но я смотрел на эту его поездку уже как на верную; думал, что он теперь пойдёт по новой дороге, а вместе и мои обстоятельства выйдут из этого ложного положения, в котором они теперь… Да, штука плоха. — Мы играли в карты, пока Ив. Гр. был в бане. Теперь 11 час., ложусь, допишу завтра.
(Писано в пятницу, у Фрейтага на лекции.) — Когда уже сидел Вас. Петр., и тогда, но особенно, когда он ушёл, а я лёг в зале на диван читать «Дёрдий Гиржа»[250], повесть, написанную с бо́льшим смыслом, чем я думал («Пантеон», № 1, 1848 г.), то стала мелькать мысль, как теперь будет Вас. Петр., и тотчас, конечно, явилось: должен писать в журналах — как это сделать? — Мне показалось, что его должно ободрить к этому, если можно, своим примером, возбудить его решительность, показать ему дорогу и завязать связи, которыми мог бы он воспользоваться во всяком случае, последует ли он моему примеру или нет; должно достать для него денег тем, что сам начну писать; попробовать попасть в журнал, и как в «Отеч. записки» после двух неудач совестно, то обратиться на пробу к «Современнику». Что писать? Конечно, быль какую-нибудь — и скорее всего,— вздумалось почти в то же самое время,— историю Жозефины, которую рассказывал мне Пётр Иванович Швецов,— я и стал думать; но вздумалось, что ведь собственно эта история имеет для меня достоинство и интерес как доказательство того, что должно воспитывать детей не так, как теперь, а объяснить им всё, все опасности и, напр., говорить об онанизме, и о мужеложестве, и о разврате, и о венерической бо[222]лезни, и о пьянстве, и о картах и проч. и проч., и всё это самому показывать им в истинном свете, показывать средства избегать этих вещей, пагубность некоторых из них, настоящую роль в жизни, какую должны занимать другие из них, напр., соединение с женщинами, любовь, карты, вино,— потому что смешно требовать от своего воспитанника,— сына или кого другого,— чтобы он воздерживался от этих вещей, от которых воздерживается разве один из тысячи, и смешно надеяться удержать его от этого, одним словом, что это доказательство всей пагубности настоящего образа воспитания; должно говорить детям всё, должно быть товарищами во всей их жизни, должно быть с ними на такой же ноге, как товарищи их по летам, чтобы не было у них ничего от нас тайного, и чтобы не было и причин ничего скрывать от нас. Так вот, собственно, эта повесть приобретает своё значение только оттого, что она истинна, а если должно будет писать как повесть, должно будет очерчивать характеры, из которых многие не очерчены в самом рассказе Петра Ивановича,— таким образом характер судебным образом засвидетельствованного дела она потеряет, а характер истины поэтической, не знаю ещё, успею ли я придать ей,— так собственно это только важно для меня, как пример в доказательство общего начала, которое я хотел бы доказать,— так и буду писать статью учёную или именно не повесть, а рассуждение. Так я и решил и через несколько времени, около 9 час., после некоторых сомнений — писать или нет,— потому что сомневаюсь в успехе,— начал писать и написал предисловие, ⅓ страницы одной почти взял из Гизо; это предисловие: «Вот что говорит Гизо, вот что должен сказать и я», и мне кажется, что теплота, которая у Гизо есть, и у меня сохранилась.
14-го [января]. — Когда лёг, стал читать Гизо «о заговорах» и с тем, что прочитал ныне утром, около 60 стран.; чрезвычайно хорошо; главным образом мне нравится чрезвычайно логическое развитие фактов в их общем виде и ходе — «сначала то, после то, то, то — и вот конец» — чрезвычайно хорошо. И кроме того, великое знание человеческого сердца в том отношении, что он хорошо видит истинные причины действия недовольства — опасение за себя, смешение своей опасности с опасностью общественной, одним словом, истинно глубоко анализирует сердце человеческое, все его illusions[251], и поэтому допускает и то, что эти люди в этих действиях и словах, собственно говоря, sincère[252], они как-то отчасти сами верят тому, что говорят, тем оправданиям и причинам, которые отвергают их противники; что он не останавливается на пустом: «негодяй, злонамеренный человек, лицемер»; конечно, и эти элементы входят в круг побуждений партий и людей, когда они действуют, но не они собственно главная причина действия. [223]
Нынешний день чувствую ещё, что не совершенно здоров я, и поэтому сам не знаю, как расположится день: может быть, посижу у Вас. Петр., но скорее пойду домой, потому что ведь Куторги не будет и поэтому время будет достаточно, чтоб отдохнуть от утренней ходьбы. Когда шёл — ничего, а теперь снова нехорошо — усталость, хотя не болит в спине.
Изложу свои мнения о Франции. Людовик Наполеон мне кажется лучше, чем казался раньше, и не таким глупым, как раньше — обыкновенный человек и добросовестный или может быть несколько хитрый человек, и после этого в таком случае и настолько проницательный, что противится своему министерству во многих вещах, понимая, что оно им не решительно-то дорожит и хочет делать из него мост для перехода к своим, одни к Орлеанам, другие к Бурбонам. Одилон Барро решительно потерял мою всякую симпатию, потому что действует не совершенно открыто, потому что делает сам вещи гораздо хуже тех, против которых восставал сам за год и за два, и мне кажется, что если не у Ламартина или Ледрю Роллена будет в руках власть, то лучше уже была бы у Гизо, а не у Od. Barrot и особенно не у Тьера, которого я что-то не люблю. Ледрю Роллен до этого почти времени имел все мои симпатии, Ламартин тоже; первый — как глава партии и именно как олицетворение её, второй — как личность благородная, незапятнанная ничем, высокая, великая в нравственном смысле. Мне не хотелось бы, чтоб Собрание расходилось скоро, потому что этого не хочет левая сторона, но мне кажется, что если и разойдётся, то убытка большого не будет, и что в видах правой стороны было бы лучше сохранить настоящее Собрание, а распуская его, они ошибутся жестоко или в своих надеждах, или в успехе; во-первых, тогда, значит, все партии левой стороны снова соединятся, как до февраля, от Кавеньяка и Marrast до Proudhon через L. Rollin и L. Blanc, они все соединятся решительно, и тогда будет два случая: или все партии правой стороны также единодушно будут подавать голоса на выборах и овладеют снова деревнями и в таком случае они выберут такую палату, которую должно будет назвать introuvable[253] (как в 1815 г.) и impossible[254], и тогда снова вспыхнет восстание, разгонят эту палату, и будет для правой стороны последняя горше первых, потому что уже власть не будет в руках Marrast, a в руках Ledru Rollin или шутя и Louis Blanc и надолго, если не навсегда, останется в руках этих партий. Это в случае, a) что на выборах будут единодушны, b) что при этом успеют склонить деревни на свою сторону (в чём я не решительно уверен, потому что Наполеон не через них выбран должно быть в деревнях, а собственно через своё имя), c) что деревни станут voter[255] с таким же усердием и в таком же большом числе, как в декабре. Но скорее, что нет, что все эти условия не уда[224]дутся: правая сторона будет думать, что власть в её руках, и явится тут множество партий непримиримых[256], у которых у каждой будет свой список: легитимисты, орлеанисты, бонапартисты, партия Гизо, партия Тьера, партия Od. Barrot; деревни не станут подавать голоса в таком множестве и вместо 7½ явится votants[257] 5½,— а более двух миллионов, можно надеяться, будут республиканцы (Кавеньяк — 1.200.000, L. Rollin 400.000 и проч.), и, наконец, деревни будут подавать голоса не единодушно, как в декабре, а будут орудиями всех партий, хотя может быть, что за правую сторону будут подавать более всего голосов и даже это вероятно, но главное — это единодушие республиканцев и разногласие, разнообразие списков правой стороны,— и поэтому я думаю, что почти возможно, что Национальное Собрание, которое будет выбрано для замены настоящего Собрания, будет левее его, т. е. что левая сторона будет сильнее, чем теперь, а если нет, так восстание[258].
Просидевши у Устрялова, пошёл домой (это писано 16-го, 8 [час.] вечера), где всё лежал; погода была дурная довольно, тепло довольно, но ветер и снег; спина ничего особенного; вообще лихорадки мало чувствовал, но не знал, пойду или нет к Ворониным. Наконец, пошёл, но оттуда нанял извозчика, шёл всё торгуясь и, дошедши до Большой Морской, успел нанять за 10 коп. сер. Получил письма утром. Это я в первый раз с долгого времени решился нанять извозчика, да и то собственно решился на этот расход потому, что уже положил себе, что, идя оттуда, зайду к Вольфу выпить чаю или ликеру, так уж всё равно буду тратить деньги. Когда приехал оттуда, лёг читать и уснул; в 9½ пришёл Ал. Фёд., у которого я был утром вчерашним, и просидел до 10½.
15 [января]. — К Фрейтагу не пошёл, потому что ведь две лекции пустые в середине между ним и Срезневским, так в 10½ к Вольфу, где просидел до 12¼; ничего не брал, читал газеты. Пошёл в 12¼ в университет, между прочим пока в библиотеку; идя, дорогою вдруг вздумал зайти к Гауеру спросить «Démocratie en France» Guizot[259]; нет — и хорошо. Пошёл; на Неве попался Соколов, который сказал, что Срезневского не будет, и пошли вместе. Он толковал о политике и пошли вместе до Излера, где я оставил его, чтоб посмотреть, есть ли «Presse»; нет. Кажется, я пошёл в бильярдную и смотрел с полчаса, до 1 час 40 мин.; после, идя домой, вздумал зайти в Пассаж посмотреть «Presse», зашёл — есть. Я спросил кофе и прочитал два отрывка Ламартина Confidences[260] — хорошо,— о том, как он ходил на rendez-vous[261] с Lucy, и об итальянском мальчике (как-то с z начинается имя) — хорошо; кофе весьма хорош, весьма хорош и дают и сахару больше, и сливок, и только 15 коп. сер. Поэтому я вместо Излера туда буду ходить. Хорошо. [225]
В 3½ воротился домой и провёл время почти в разговорах с Любинькою до чаю; после к Вас. Петр., у которого взял № 1 «Современника», играли в карты. Я начинаю жалеть, что он соединился с Над. Ег.: он гораздо выше её и не может быть, кажется, с нею счастлив, она слишком проста, слишком проста, решительно как будто ничего не понимает, и мне серьёзно, положительно стало его жаль. Мы толковали с ним о свободной воле, весьма немного, и отвергали возможность человеку управлять обстоятельствами; говорили, что нелепость «человек с твёрдою волею» и проч. — у него основание было не знаю что, у меня главным образом его пример: всякий дурак и я скажет, что твёрже его нельзя найти человека, а он говорит, что решительно не имеет никакой воли. И сам тоже я: Ал. Фёд. недавно и Тушев, когда у меня были, сказали, что предполагали, что я человек с необыкновенно твёрдою волею. Говорили о величии России, и я сказал, что глупость, и как он тоже говорил, то мне стало совестно, что я слишком резко говорю об этом перед человеком, которого не должно castigare[262] за ослепление к русскому, и что собственно я не говорю, что русские дураки, а что ничего ещё не сделали, и проч. Но это всё я пишу так, а главное — Надежда Егоровна! Надежда Егоровна! Когда пришёл, было 10 с ¼ или ½. Лёг. Когда читал до 4 или 5, прочитал всю «Жюли» и, признаюсь, некоторые места меня заинтересовали: человек с талантом, это видно, не говорит глупостей, многое занимательно из тех приключении, которые он рассказывает. Но что это? Более ничего, как сказка, т. е. происшествия, т. е. французский роман вроде Поля Феваля или, лучше, Дюма, где приключения, приключения и т. д., ни характеров, ничего, ничего. А всё-таки прочитал всё, не засыпая. «Жюли»[263] лучше, чем я думал.
16 [января]. — Когда проснулся, уже подали чай. Чувствовал, что не выспался, но ровно ничего. Сел было писать для Никитенки, но только написал строк 20, как пришёл Ал. Фёд. и просидел до 3½. Мне это было не неприятно, а напротив приятно, и я был разговорчив, хоть и не бешено разговорчив. Говорили о журналах, политике; я рассказывал ему отрывки из Ламартина, о политической экономии, и он хотел достать Rossi и Garnier-Pagès, словарь политический. Первое есть у Колерова, он знает; второе, как мне кажется, есть или есть у них в библиотеке; если достанет — хорошо. После посидел, читал «Современник» и говорил с Ив. Гр. решительно симпатически до чаю. После чаю сел писать Никитенке,— ничего не писалось, поэтому я стал писать это. Вас. Петр. обещался быть, может быть, но не был.
(Писано 22-го в субботу, 9½ час.) — Так вот целую неделю не вёл я своего журнала. Сам не знаю хорошенько, почему. Продолжаю теперь.
17 [января]. — У Ворониных учил вместо Константина, кото[226]рый был болен, двух маленьких и только до 7 часов. Оттуда к Ал. Фёд. за «Débats», которые взял [за] 1–9 января. Во всю эту неделю я почти каждый день бывал в кондитерских, обычно у Вольфа, раза два в Пассаже для «Presse» и «Признаний» Ламартина.
18 [января]. — Никитенки не было, и я почти этого ждал, поэтому не много заботился о сочинении, хотя несколько заботился. Встретился, идя к нему в аудиторию, с Троянским, который заговорил о Фаусте и попросил объяснить его себе. Я начал, и таким образом мы просидели всю лекцию. После он уж говорил, а не я, и о Дюма, которого находит удивительным. Показался весьма недалёким, но добрым и усердным. Просил быть знакому и обещался принести Вронченку, перевод «Фауста», и принёс на другой день.
19 [января]. — Мне сильно хотелось увидеть Вронченкин перевод, т. е. изложение второй части, и в самом деле принёс Троянский. Вечером я читал его. Был Ал. Фёд. в воскресенье, и когда говорили, он сказал, что возьмёт книги о политической экономии у Колерова и в своей библиотеке. Кажется, я просил словарь Гарнье Пажеса и Росси. Он взял Росси, и я взял у него Росси в среду.
20 [января]. — В университет не ходил, а вместо того к Вольфу и после обеда к Вас. Петр. отнести Вронченку ему. Не застал, а когда шёл оттуда, на углу канала и больницы встретились они с Над. Ег., и он подошёл ко мне. Я сначала, как шёл по другую сторону улицы, не заметил, что он с Над. Ег. Отдал ему, он обещался быть в субботу. В среду я просил у Залемана Гёте, хотя и не хотелось, потому что вдруг ужасно захотелось сличить вторую часть с Вронченкиным изложением и объяснениями. Но у Вас. Петр. ещё не взял. Остальное время просидел дома так, в разговорах с Ив. Гр., и под конец вечера играл в карты до 12 ровно. Главным образом этот и следующие дни и предыдущие я ничего не делал, потому что в зале было холодно с самого вторника и сидеть там было нельзя. Теперь снова делается несколько сносно.
21 [января]. — Фрейтага не будет — он убирает Эрмитаж, и мы решили не быть у него ныне; поэтому я пойду только к Срезневскому, да и то уговаривал товарищей не ходить, но не согласились. От Ворониных, где снова начал с Константином,— к Вольфу, где с час просидел; оттуда к Ал. Фёд. — отнёс «Débats», взял «Современник». Там встретил новое лицо, Венедиктова, у которого Ал. Фёд. уже выпросил несколько новых книг для меня — такой обязательный — напр., «Жирондистов». Росси читаю — умён, но не то, что Гизо, а так себе, не из первого класса умов, а из таких людей, которых всегда бывает по нескольку, напр., хоть Тьер. — Вместо Фрейтага был у старшего Куторги, и в самом деле довольно хорош, человек умный, но от других не ушёл много вперёд, напр., от Фишера, или Устрялова, или Срезневского. [227]
22 [января]. — Ив. Гр. вчера принёс Священную историю издания Плюшара. Я переворачивал несколько листов, и пришла охота углубиться, если бы было можно, в занятие этим предметом — да нет, теперь нельзя ещё достать книг. Был Фриц и снял мерку для новых сапогов. Я сказал ему: «Нет денег», он говорит: «Хоть два месяца ждать, ничего». Подлец, зачем отдавал, когда эти деньги должен буду отнять от тех, которые бы следовало Вас. Петровичу. То утешает, что через два месяца уже, даст бог, он не будет в этом нуждаться, потому что у самого будет много денег.
Продолжение (26 числа, 11 час. 35 мин.). — К Фрейтагу условились мы не ходить, поэтому я пошёл к Срезневскому. Идя оттуда, заходил к Вольфу и в Пассаж, читать «Presse». Когда шёл оттуда, у библиотеки догнал меня (было 5½ час.) Райковский и спросил (мы пошли по тротуару к Аничковскому дворцу), знаю ли я по-английски; я сказал: «скверно». — «Так у меня есть что переводить, а отдавать другому, а не товарищу, мне не хотелось бы». — «Я весьма рад». — «Приходите ко мне». — «Когда?» — «В четверг или пятницу». — «Хорошо». В четверг вечером был Вас. Петр. и после пришёл Ал. Фёд., с которым я толковал — большею частью говорил я — и с Вас. Петр., который принёс Вронченку, защищая Гёте и вторую часть «Фауста» от Вронченки, а когда пришёл Ал. Фёд., защищая Иринарха от Горизонтова. Было после, когда ушёл Вас. Петр., немного совестно, что говорил: во-первых, он в это время скучал, а, во-вторых, конечно, я говорил глупо и потерял у него во мнении, т. е. ещё подтвердил его прежнее мнение обо мне. У Вас. Петр. обещался быть (тогда была суббота) в среду, т. е. 26-го.
23 [января]. — Решился приготовиться несколько на всякий случай для Райковского по-английски, потому что, хоть вероятнее, что это неудача будет, что это т. е. мечты с его стороны, дело у него, верно, ещё у меня не обделано, но всё-таки на всякий случай, и поэтому большую часть дня читал Эджворта со словарем, прочитал всего страниц 20, приискивая всякое слово, даже не нужное; в понедельник прочитал более, а во вторник всего до 80-й страницы, после уже не приискивал слов, потому что не так стало нужно, и вышло — я более способен быть тотчас переводчиком, чем думал, и что почти могу добросовестно переводить. Вечером был Михаил Павлович, приехал с обеда на именинах у тестя, почти пьяный, и его стало тошнить и рвать — это мне было отчасти приятно, потому что мне не мешали, а между тем отнимает прежнюю возможность мне конфузиться своими глупостями перед Ив. Гр-чем. В то самое время, как его рвало, пришёл Серапион Благосветлов,— конечно, решительно не во-время, хорошо, что не долго сидел. Теперь 11 ч. 50 м. и ложусь спать. Это писал, когда стлали постель. Теперь постлали. Продолжение после.
Продолжение. 24-го [января], 3½, понедельник. — Утром рано в 8½ отправился к Ал. Фёд. за деньгами, которые взял он у [228] [меня] в субботу, чтоб получить несколько из них для Любиньки, у которой решительно не было и которая говорила уже в воскресенье, что их решительно у неё нет. Посидел у него и не хотелось самому напоминать, чтоб он дал несколько сдачи из 10 р. сер., которые взял, но пошёл, он всё не догадывался, и я воротился, как бы вспомнив вдруг, и взял 5 р. сер. — итак, употребил хитрость. Из университета прямо домой, после к Ворониным. Читал «Débats», которые взял у Ал. Фёд. утром, но более английскую книжку.
25 [января], вторник. — Всё думал, что Никитенке написал я гадко и бессвязно, но когда утром прочитал и сделал маленькую вставку, которую написал на особом лоскуте, о том, что в самом деле прежде так думали, что дух состоит из частей решительно независимых, то показалось хорошо. Начал читать. Никитенко, как пришёл, сказал: «Кто хочет давать уроки? Случаи бывают, что ко мне адресуются, так на всякий случай». Я сказал, что верно все готовы,— от нас буду я, Корелкин, Главинский только да Трояновский, да ещё один чужой, итак, только 5 человек. Он сказал — «адреса дайте». Главинский сказал, что даст, и тотчас после лекции дал, а я нет и поэтому ругал себя, но весьма мало, как бы знал, что ничего ещё не испорчено. В самом деле, как вышел из университета, пришла мысль, что можно дать ещё адрес и в среду, и в самом деле дал после лекции. Итак, я стал читать. Никитенко заговорил о том, что в самом деле так делили душу, и начал говорить о мнемонике, о способе Жакото, который должно бы официально исследовать, о том, что теперь поручено ему составление программ или инструкций для преподавания словесности в гимназиях и проч., говорил, говорил так, что почти всю лекцию проговорил сам, и только сначала я прочитал полстраницы; это-то мне ничего, весьма приятно, что я не читал, т. е. не то, что приятно, а всё равно, в следующий раз прочитаю лучше, поправивши, да и работа отлагается всё впредь, это хорошо; но и какое-то сомнение в голове, что, может быть, он говорил для того, чтобы избежать моего чтения, которое показалось глупо и скучно, надеясь, что в следующий раз будет что-нибудь другое. Итак, это сомнение отчасти и неприятно. Из университета — к Вольфу; сомневался, можно ли тратить деньги или нет, чтоб не замедлить взносом в университет, как отдаст Ал. Фёд., но подумал, что к тому времени получу от Ворониных и, может быть, из дому, и велел дать шоколаду, потому что пили тут его другие.
В 6¾ пошёл к Ханыкову, как был и намерен, хотя отчасти колебался, не лучше ли заниматься по-английски (у Вольфа в этот раз и предыдущий читал «Иллюстрацию» английскую[264] и Galignani Messenger[265] и всё равно понимал, это мне придало бодрости). Просидел у него до 11 почти и взял 8-ю часть Гегеля, Rechtsphilosophie, что меня несколько волновало, но только голову, а не сердце, от радости и размышления, чтó-то вычитаю я там у него; он дал для того, чтобы из моих рассказов ознако[229]миться с Гегелем, и просил меня сделать для него выписку оттуда. Я сказал о том, что напрасно он думает, что трудно выучиться по-немецки, предлагал свою методу — беглое чтение, по возможности без лексикона (мой конек) и проч. и проч., защищал Гегеля. Пришёл, немного читал Гегеля, но скоро уснул.
26 [января]. — Из университета снова к Вольфу, где просидел не много. Дома читал, однако мало весьма, Гегеля и мало понимал, отчасти и язык, а главное — смысл и почему это так. Прочитал около 30 страниц. После к Вас. Петр., у которого просидел с 7¾ до 11 решительно без скуки, напротив, с удовольствием, правда тихим, не резким, но тем не менее с удовольствием, чего довольно долго не было. У Над. Ег. в лице прямо как-то есть что-то слишком безрезкостное, как-то гладкое, не развитое, но удалось со вниманием посмотреть в профиль, и я снова начал смотреть с некоторого рода прежним удовольствием, хотя, конечно, слабым в сравнении с прежним — черты в самом деле тонкие и чрезвычайно красивые, грациозные. Что мне не нравится, так это лоб, который как-то слишком изогнут, слишком кругл в средней части, но это так кажется от причёски, которая не идёт к этому лбу, и мне подумалось, нельзя ли как-нибудь сделать, чтоб она стала носить другую причёску. С Вас. Петр. толковал обо всём, кроме политики, о которой ни слова,— более об унии и обращении униатов; оба обременились позором поведения нашего правительства в этом случае. Он говорит — читал недавно «Бориса Годунова» Пушкина и решительно не так теперь думает о нём, как раньше,— это чистая риторика, а не что-нибудь существенно хорошее — пустая вещь, говорит: уж «Руслан и Людмила» лучше. Это почти так, как я думал, хотя не читал этого произведения. Обещался прийти в 4 часа, чтобы после вместе идти к Залеману; я думал идти тотчас с ним в Пассаж в кондитерскую, но теперь кажется, что Ив. Гр. не будет, поэтому мне сиделось и дома.
27 [января], четверг. — В университет не ходил совершенно. Читал Гегеля — я тороплюсь читать его, чтоб побывать у Ханыкова поскорее, потому что обещался; прочитал, до 105-й стр., до II Abtheil, Vertrag. Гениальности не вижу, потому что строгости выводов не вижу ещё, а мысли большею частью не резкие, а умеренные, не дышат нововведениями, поэтому я не могу видеть в них ничего особенного, пока не увижу, что они непоколебимо выведены и связаны между собою и со всем целым. Что человек умный — это видно, боюсь, что придётся мне краснеть за это после, но всё равно пишу. Однако, об этом после когда-нибудь — дело в том, [что] не решительно всё понимаю, хотя большею частью то, что напечатано, отступя от начала строк так —
(В), т. е. объяснения и примечания, большею частью понятны — да я не решительно ещё приготовлен к этому чтению,— где он говорит о частных применениях, т. е. в этих короткими строками напечатанных прибавлениях и проч. и Zusätze[266], там кажется более занимательности. — Что это такое? практичность ума или ещё незрелость, то, что не могу ещё свободно жить в этих общих областях решительно неприложенного, абсолютного, и нужны приложения?
Теперь пришёл Терсинский и начинаю читать «Débats», дожидаясь Вас. Петр., который, думаю, придёт слишком поздно, т. е. позже, чем желал бы я. Теперь 4 ч. 5 м.
(Писано у Фрейтага.) — Вас. Петр. пришёл в 5 или 5¾ и просидел до 8, потому что должен был подождать чаю, хотя хотел уйти раньше. Поэтому уж у Райковского не был я; существенно это произошло оттого, что и раньше уж сомневался, не пойти ли лучше завтра, т. е. ныне от Ворониных по дороге; так и сделалось, что решился так идти. Он был у Сидонского, но не мог ничего сказать, потому что у него сидел кто-то, и поэтому будет в субботу. А теперь зашёл от Залемана; семейством их он весьма был доволен, особенно матерью. Я, как вздумал за несколько дней, спросил его, будет ли держать он теперь экзамен, чтобы напомнить ему об этом, и он сказал, что нет, т. е. решительно бросил об этом думать,— теперь, может быть, что в самом деле он снова начнёт думать об этом и будет держать, если до того времени ничего не случится. Он сказал, что решительно предоставляет себя на волю судьбы, и выразил это так решительно, что даже мне, который решительно то же делаю с собою и держусь этого мнения относительно участи других, что не они, а обстоятельства управляют всегда, но всё-таки даже и мне показалось это как-то уж слишком laissez passer[267] — самооставлением, самопокиданием, почти отчаянием. Сказал ещё на мой вопрос, о чём он теперь думает, что и теперь ни о чём, да и обыкновенно ни о чём не думает, когда с людьми, напр., когда с Над. Ег. сидит — обыкновенно ни о чём. Это высказал так снова выразительно, что я решительно в этом убедился,— снова повторил, что никак не может привыкнуть к своему новому положению, к Над. Ег. и проч., что тесть решительно сердится, что никогда не бывает у него, и хочет не велеть ей бывать у него, если Вас. Петр. не побывает. Я уговаривал, чтобы побывал, но он не согласился, говорил, что ждёт письма от своих, имеет предчувствие, что получит это письмо, и что до этого времени предчувствия эти его не обманывали. — И провёл я это время с ним с удовольствием.
28 [января]. — Всего теперь прочитал я до 2-го отдела у Гегеля, до Moralität[268]. Особенного ничего не вижу, т. е. что в подробностях везде, мне кажется, он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества, так что даже не решается [231] отвергать смертной казни и проч.; так или выводы его робки, или в самом деле общее начало как-то плохо объясняет нам, что и как должно быть вместо того, что теперь есть — ведь Фихте пришёл же к обоготворению настоящего порядка вещей,— но несколько, однако, мало, замечаю логическую силу; главное то, что его характер, т. е. самого Гегеля, не знает этой философии — удаление от бурных преобразований, от мечтательных дум об усовершенствованиях, die zarte Schonung des Bestehenden[269].
Ныне Куторги не будет, поэтому пойду домой, оттуда к Ворониным, оттуда к Райковскому. — Что-то будет у него? Не жду я приятного ответа; думаю, что-то, что он говорил, более от надежды получить самый перевод, чем от того, что уже получил,— но всё-таки.
Напишу что-нибудь о тех идеях, которые пришли мне в голову. Напр., что история разлагается на повествование о действиях, происшествиях и состояниях, положениях народа и известных классов,— что до этого времени, кажется, не было достаточно ясно сознаваемо, хотя отчасти уже есть в исторических трудах, но недостаточно постоянно и хорошо проведено в практике (в теории не делают хорошо и ясно этого различия) относительно состояний, положений жизни, а между тем, эти части равно обе существенны, и если уж которая из [них] важнее, то, конечно, состояния; итак, дело истории всегда связывать между собой эти две части и показывать, как из состояния рождались стремления и действия, как действия и события вели народ или часть его от одного состояния и положения в другое (вот сижу и думаю, что ещё мне вздумалось, а две или три мысли были, которые имеют для моего развития и взгляда некоторую важность).
В эти дни, как прочитал Губера перевод, большею частью всё пел: «Как негодница мать убила меня, как отец, старый плут, съел родное дитя, как малютка сестра кости в яму снесла и как стала потом вольной пташечкой я. Взвейся, пташка моя!»[270] — Пел также, но гораздо раньше оставил и менее пел, песню под липой, особенно последний куплет: «Нельзя нам, бедным, верить вам, вы часто так клялися нам, а всё-таки смеялись. Но он ей шепчет на ушко и из-под липы далеко — юхге, юхге, юхгейза, гейза, ге — всё крики раздавались». — И мне казалось, что для этой песни голос мой лучше, чем для другой.
(11½ утра, воскресенье 30-го.) — Из университета, т. е. от Устрялова (на лекции у Фрейтага услышал, что попечителя [назначают] сенатором в Москву, вместо него Кочубей, что, конечно, меня весьма обрадовало, но живой радости нисколько не почувствовал от этого) домой, где читал Гегеля. — От Ворониных к Райковскому, его не было дома, поэтому в Пассаж.
Да, из университета пошёл к Вольфу; там известия от 26–29 января привели меня в такой восторг, в каком я давно не бывал [232] и какой можно сравнить с тем, с каким я читал Люксембургские рассуждения. Итак, думал я, или падение министерства, или новая революция — последнее мне больше нравилось, потому что власть, думал я, перейдёт к Ледрю Роллену, это было бы чудесно[271]; и в таком радостном расположении духа пробыл я и у Ворониных. В Пассаже, прочитавши, что всё утихло, охладел снова, но и теперь снова заинтересован много, всё равно как в начале ноября борением Прусского Собрания с министерством.
В Пассаже выпил кофе (во второй раз) и оттуда пошёл к Ал. Фёд., у которого просидел не решительно без скуки, но ничего, до 12 час. Главным образом просидел потому, что хотелось отплатить ему за то, что он старается так доставать мне книги, напр., теперь достал Альманах démocrat. et social от Венедиктова, которого я у него видел; здесь я увидел в первый раз портрет Жорж-Занда — мне чрезвычайно понравилось лицо, хотя, может быть, оттого, что я уже расположен дивиться хорошим людям. В этот вечер, идя домой, и в субботу утром до 10 прочитал всю эту книжку. Кроме статьи Ламне Question du travail ничего нет решительно хорошего, кроме, разве, последних страниц, которые — выписка из Прудона.
29 [января]. — У Фрейтага не был; прочитавши книжку, вздумал срисовать сквозь прозрачную бумагу портреты, которые в ней, и довольно порядочно (т. е. гадко) вышел Фурье, Барбес скверно, я и бросил; на другой день снова рисовал, но Фурье вышел, может быть, хуже, а Ж. Занд совершенно не вышла, поэтому снова оставил; жаль бумаги, а то занялся бы, это помогло бы мне выучиться рисовать, может быть,— верно займусь, только не теперь, а когда будет время. Идя из университета вместе с Славинским, зашёл в Пассаж — там Вас. Петр. Славинский пошёл к булочнице, я с Вас. Петр. в кондитерскую, посидели до 4½, когда ему [было] нужно к Сидонскому. Сидонский, как после он сказал мне, сказал — «подумаем» (насчёт работы). Уговорились, что он оттуда ко мне, и зашёл в 5 час, просидел до 7⅔, и под конец я-таки прочитал ему об эгоизме Гёте, почти всё, кроме истории с Лили, которую мне было совестно читать, чтоб не показаться сентиментальным, поэтому два последние листика, т. е. один только последний, да и то не весь, а о подражателе Тьеру, т. е. Иване Вас. и великих людях, что они негодяи — последнее уж я сам начал читать, когда уж собрался к Залеману. Мне было, конечно, совестно читать, но ничего всё-таки, ведь последнюю статью сам вызвался прочитать. У Залемана всё время мы играли в шахматы с Владимиром, и когда пришла мать, которой не было дома, Вас. Петр. ушёл с нею. Я играл гораздо лучше Залемана, т. е. он ничего почти не может сообразить — оказывается туповат, хотя я убедился, что и я играю ещё хуже, чем я думал, потому что ровно ничего не вижу, что готовится мне и что я должен делать. Взял у него по его предложению книгу Петрова о шахматах, дома увидел, что это только одна практика, т. е. три последние части, а теории, [233] которая больше принесла бы пользы, т. е. первых двух частей, нет. Всё-таки, как пришёл домой, разыграл одну игру, и ныне утром некоторые задачи. Проводил оттуда Вас. Петр. до Самбурских, дорогою говорили о различных вещах.
30 [января] (писано в четверг, 3 февраля), воскресенье. — Хотел зайти Вас. Петр. после обеда. Весь день просидел дома; читал Гегеля немного, немного Росси вторую часть, писал для Никитенки. Приходил во время обеда Ал. Фёд., взял «Débats». Вас. Петр. не был, я у него хотел быть в среду.
31-го [января], понедельник. — Утром к Вольфу, из университета домой, от Ворониных к Райковскому (второй раз), снова не застал; оттуда в Пассаж, где 2 февраля «Presse», окончание истории Грациэллы меня необыкновенно тронуло: я плакал, когда читал, и превосходны они оба, Ламартин и она, и как он оканчивает: «простите меня и вы, которые читаете это». Оттуда к Олимпу, у которого Булбенковы, и скоро все ушли. Когда пришёл домой, был измучен немного.
1 февраля. — Видел Фурсова, который едет через неделю, 6-го или 7-го, в понедельник. Михайлов, говорит он, приедет в феврале, если приедет Якоби, управляющий Соляным отделением. У Никитенки читал, и он согласился со мною более, чем я думал. Корелкину золотая медаль, и сочинение будет напечатано университетом или в Записках Академии нашей — весьма хорошо. Существенного сожаления, т. е. в сердце, решительно не было, что я не писал, и зависти нет; в голове, конечно, думается: «Если б я, я б ещё лучше». Иду пить чай.
(Продолжаю у Фрейтага в пятницу, 4 февр.) — Вечером не помню уже теперь, что делал,— верно ждал Вас. Петр., который обещался зайти, когда пойдёт к Залеману, но не мог идти, потому что нога, на которой он неловко подрезал мозоли и от которой он хромал в субботу, распухла (см. после под 3 февраля — я был у Ханыкова.)
2-го [февраля] был праздник. После чаю пошёл к Ал. Фёд. за «Débats» и деньгами, просидел вместе с ним до 11, потому что ждал, чтоб он одевался. Денег у него ещё не было мелких, поэтому хотел в этот или следующий день отдать. После, оттуда к Вольфу, у которого выпил кофе, просидел до 3 или больше, читал всё газеты, но и снова взял 1 № «Отеч. записок», потому что 2-го ещё не было, как я и думал. Прочитал «Негрицию» Ковалевского[272] — весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен: когда говорят противное, мне всегда кажется, что это такой же вздор, как слова Аристотеля, что народы на север от Греции самим климатом и своею расою осуждены на рабство и варварство,— и первую часть («Гордость») Э. Сю[273]. Мысль-то, если угодно, прекрасная для романа, но преувеличения и мелодраматические сцены, как всегда у него. Оттуда в Пассаж, где прочитал следующую за «Грациэллою» статью Ламартина, но там не так [234] занимательно, только о нашествии с Эльбы Наполеона, а после смотрел «Journal pour rire»[274] 3 целых номера, довольно мало понравилось, однако ничего — отделка обыкновенно весьма хороша в больших политипажах, но есть такие вещи, где почти нет ровно нисколько остроумия. Только что пришёл домой и кончил обед в почти 6 час., как пришёл Корелкин и просидел до 9, но последний час только потому, что я его удерживал per fas et nefas[275]. Я был довольно весел, читал стихи Лермонтова и особенно Гёте из «Фауста»; потом начал ему говорить правила демократов о émancipation de la femme[276]; стал говорить о meretricibus[277], что они ничем не хуже нас, и этот разговор довёл его до того, что он с угрызением совести стал вспоминать и говорить мне, как он бывал в доме на Гороховой; после раскаяние отчасти прошло, и он стал говорить так, что там три их и оно как бы Вологодское подворье, как выразился я. Так он вкусил запрещённого плода. Итак, я не был у Вас. Петр.
3 [февраля]. — В университет не пошёл. Писал отчасти Фрейтагу, отчасти читал «Débats» и Гегеля — теперь прочитал до «гражданское общество, система потребностей». Пообедали рано, в 3¼ пошёл к Вас. Петр., чтобы воротиться домой в 6, потому что думал, что придёт Ал. Фёд. — Над. Ег. уходила к Самбурским, поэтому Вас. Петр. почти сам предложил идти к Ив. Вас., от него к нам, от нас к Залеману; я сказал, что пойду к Залеману, если придёт и уйдёт до того времени Ал. Фёд. Пришли к Ив. Вас., я с ним стал играть, шутить, смеяться; пришёл Майер, который живёт с ним и учит его по-французски,— хуже чем я думал, просто глуп и надут, вроде Туфы, только, может быть, тёртый калач. К нам Ал. Фёд. не приходил, и поэтому я не пошёл, а поэтому и Вас. Петр., тем более, что не взял с собою «Современника». Говорил почти всё я, кроме того, что играл в шашки, и говорил всё я о Февральской революции и положении партий теперь и чего теперь должно ждать. Вас. Петр. сказал, что его это сильно интересует и что если у него будут вдруг «Débats» и «Современник», то он раньше взял бы «Débats»; поэтому я вздумал передавать их ему и, как увижусь с Ал. Фёд., спрошу у него позволения на это. Читал у него письмо, которое написал он к редактору «Сына отечества» от лица трёх дворовых людей. Сначала довольно остроумная мысль, что «хотя мы и считаем вас дураком, а благодарим вас, потому что через вас мы выучились читать: хорошие книги господа берегут в своих комнатах, а ваш журнал, который выписывают больше для приличия или хвастовства, лежит всегда в передней, вот мы по нему и выучились читать». — После неостроумно, потому что писано решительно без обдуманности. Так я ему всё говорил о революции и о хилости нашего правительства,— мнение, которого зародыш положил Ханыков, и [235] проч. в этом роде. Когда ушёл он в 10, я немного пописал Фрейтагу, после — спать.
4 [февраля]. — Теперь утром просмотрел написанное Фрейтагу почти всё, остальное здесь в университете перед этим просмотрел; после это [т. е. дневник] стал писать. Ныне из университета зайду к Вольфу на полчаса (да, этот vote[278], что отверг ordre du jour sur l'enquête contre le ministère[279], наполнил меня радостью и теперь должно узнать, какой ordre du jour motivé[280] принят).
(Писано у Фрейтага в субботу 5-го.) — В университете Вас. Петр. не было. Пошёл к Вольфу, где почти до 3-х. Amendement[281] de Louis Perrée не принят, a Oudinot, и столкновение избегнуто, но 6 числа о Rateau общая discussion. 7-го должны перейти к параграфам — бог знает, будет ли принято. — От Ворониных, где всего до 7, потому что Константину было куда-то нужно (да, ещё гувернёр бранил его передо мною и рвал за ухо, что не умел переложить на ассигнации 18 р. сер., и сказал, что fort zustreiten[282] не годится, потому что он позабывает, что назади; что меня не слишком, правда, но всё-таки взбесило), пошёл к Райковскому, у которого почти до 9, потому что, конечно, не был, только адрес оставил. Оттуда идя, заходил к Fleischhauer, который в Чернышевом переулке, за чернилами. Вышла девушка довольно красивая, в немецком роде, и стала говорить по-немецки, я не отвечал по-немецки, чернил не было готовых. Когда пришёл, стал писать Фрейтагу и до 11½ в этом прошло, всё-таки просмотрел всё и переписал; итак, на сочинение было употреблено часов пять.
5 [февраля]. — Проснулся в 7, потому что боялся проспать. Сердце нисколько не волновалось, когда подавал Фрейтагу; он заметил несколько в самом деле нечистот и, когда отдавал, ничего не сказал. Вчера получил, когда пришёл, письмо, которое оставил Ал. Фёд., и в нём 16 р. сер.; итак, отдаю ныне деньги в университет. Получил повестку от своих на 40 р. сер. — Конечно, чтò мне — всё отдам Вас. Петр., потому что у меня и так остаётся 3 р. 75 к. сер. — Итак, с лекций в почтамт, оттуда, если придёт Вас. Петр. (верно не придёт), в университет, к Корелкину, если нет, к Вольфу верно пойду (нет, прямо в библиотеку, потому что там ещё ничего нового нет, конечно). После обеда — к Вас. Петр., если не увижусь с ним до обеда, потому что обещался, да и кроме того верно буду в состоянии отдать несколько. Хотел бы что-нибудь ныне и завтра написать «о воспитании»; не знаю, напишу ли что-нибудь, а как напишу, хочу отослать в «Современник».
В Берлине выборы демократические — это хорошо. Что-то будет? Что-то будет? Жаль, что Франкфурт так ослаб,— бог знает, не виноваты ли в этом отчасти сами они, как говорят справедливо, [236] кажется,— Bassermann и другие, которым помешали действовать решительно по случаю смерти R. Blum'a и смятений в начале ноября в Берлине. Кажется, если бы вступились решительно за Национальное Собрание и проч. и послал бы слева, а не справа послов в Вену, людей решительных и смелых, хотя не дерзких и не заносчивых, потребовали бы тотчас отдачи под суд Виндишгреца и Бранденбурга и проч., то уже было бы одно что-нибудь — или да, или нет, и как теперь вышло, может, нет, то хуже теперешнего не могло выйти, а едва ли посмели бы отвечать — нет. (Писано во вторник 8, в 8¾) — В субботу пришёл от Вольфа весьма усталый, так что весь вечер проспал и у Вас. Петр. не был.
6 [февраля], воскресенье. — Ушёл к Вольфу довольно рано и просидел 7 часов сряду, от 10½ до 5½. Читал всё «Отеч. записки», но и остальное тоже. В «Отеч. записках» повести довольно хороши, так что это меня несколько утешило, но особенного ничего, нигде ничего особенного; в «Записках» Шатобриана тоже ничего нет особенного, но везде чрезвычайное чувство и видно, что великий человек. Вечером был у Вас. Петр., толковал всё о революции у нас и проч., и проч., как и раньше; он любит заводить об этом речь, но раньше я не сочувствовал, а теперь не прочь и я. Мнение его о государе, кажется, переменилось к худшему, во всяком случае, я думаю, что и он, как я, считает его чем-то вроде Пушкина[283]. Просидел до 10½.
7 [февраля]. — Обед пробыл у Вольфа и всё-таки мало изнурился; в воскресенье и теперь выпил по чашке кофе. Любинька взяла 3 р. и, кажется не отдаст, потому что забыла. Когда пришёл, играл в шахматы, и проч.
8 февраля. — Утром читал и играл в шахматы, читал Росси, почти дочитал, Гегеля совершенно дочитал, особенного ничего не нашёл. Ещё акт, опишу после.
(Писано 10-го, четверг, 10 ч. вечера.) — Пришёл на акт, когда Плетнёв уже начал читать; начало необыкновенно глупо, необыкновенно глупо. Срезневский стал читать также хуже, чем думал я; подошёл Ал. Фёд., мы стали говорить с ним, как раньше с Мельниковым также говорил я и проч., и не слушал Срезневского. Хорошо, начинают читать и раздавать медали. Я был весьма весел, и когда Корелкин получил, поздравил его от души решительно. Конечно, живой радости не чувствовал, а собственно радовался как делу постороннему, не моему, не то, что если бы, напр., Вас. Петровичу что-нибудь; и зная, как приятно, как видишь участие в своей радости, даже поцеловал Корелкина в висок. Сочинение печатает на казенный счёт университет. После акта я ушёл искать Раева, между тем как он здесь оставался, и не видал того, как Корелкин был представлен министру, который, как нарочно, приехал в ту самую минуту, когда начал Куторга старший читать о медалях. После Раев сказал, что ужасно хвалил, сказал, что должно поддержать, и проч. Это хорошо, дай бог. Не скрою и того, что мне несколько больно, что может быть теперь он будет счи[237]таться в университете первым человеком в нашем факультете, а не я. Но эта мысль у меня слаба, потому что слышал лестные отзывы о себе: во-первых, когда шёл через коридор, Алексей Иванович, который встретился, сказал: «На следующий год уже вы получите». Это меня обрадовало несколько, что обо мне такого мнения. А сошёл вниз — там встретил морского офицера, которым бывал раньше у Куторги. Он тоже сказал тотчас же, как увидел я его и подал ему руку: «А я ожидал услышать ваше имя». — Это меня также обрадовало, я поблагодарил его. После то же сказал Троянский. Славянский стыдил меня, что я не писал, и на другой день в университете несколько человек из нашего курса мне это говорили. Я с интересом слушал, какие-то задачи на следующий год: Куторга, о Клеоне,— тотчас у меня мысль огромного, полного сочинения, и проч., и проч. Для этого должно заняться греческим и проч. раньше, и как пришёл, едва тотчас же не принялся за Фукидида, но тотчас вспомнил о своей методе, что должно читать, если можно, с переводом книгу, чтоб выучиться языку, и тотчас решил взять у Залемана, а до того времени отложить. Это меня обрадовало, что о Клеоне, т. е. что по истории хотя лучше бы, если бы не из Афин, которые надоели мне; но решительно ничего, всё-таки. Да кроме того и у юристов: «О налогах на промышленность до Петра» — мысль написать и то, и другое. Тотчас другая мысль — сначала одно, своё, после — если будет время — непременно и за то, только летописи и акты Архивной Комиссии и проч. — немного дела, менее чем о Клеоне. Это было бы тоже хорошо в своём роде: одному вдруг получить две медали. Оттуда к Вольфу, где читал случайно «Современник», потому что он лежал на конторке, и я взял его. Читал только Смесь — французскую повесть «Кризис» (что женщина хочет испытать бурную жизнь и проч.)[284]; мне понравилась, потому что я проникнут этою мыслью. Оттуда когда пришёл, пришёл Сокольский Пётр Максимович из Саратова, который был и раньше, у которого был раньше и Ив. Гр., пришёл и Ал. Фёд. скоро, и я вышел. Когда я вышел, скоро дело приняло новый вид по причине того[285], что у Ив. Гр. вырвалось слово о том, что образованный поляк, с которым служит он, толковал ему о праве на собственность (французский вопрос, коммунизм), и что глупо говорить об этом в собраниях. Я-таки не удержался и пошёл говорить, хотя думал, что Ив. Гр. слушает с нетерпением, и говорил больше часу,— по моему мнению, хорошо, только увлёкся и представил дело односторонне, но вообще говорил о том, что не должно смеяться над теми, которые проповедуют новые мысли, потому только, что они увлекаются и проч., что смеяться легко и пр. Ал. Фёд. поддакивал, Ив. Гр. говорил свои сомнения. Ныне за обедом спросил моего объяснения, т. е. предложил возражение, которое пришло ему в голову,— следовательно, он не решительно не слушал, т. е. слушал решительно [238] со вниманием, а не нехотя и, следовательно, проповедывание и в такой душе, как его, которая кажется мне по своей щепетильности, самонадеянности и мягкому, повидимому, деспотизму, т. е. Stockheit[286], всего менее способна проникаться новыми мыслями, особенно сколько-нибудь противными прежним убеждениям, потому что он мнения более всякого другого будет держаться до последней крайности,— и в таком человеке проповедывание оставляет некоторые следы, и поэтому не должно безусловно молчать из опасения даром, без всякой пользы показаться смешным.
9 [февраля], среда. — От Ворониных в университет, оттуда в Пассаж, до которого шёл вместе с Славинским. В «Presse» нет Шатобриана. Оттуда домой, купивши чернил у Флейшгауера, снова где прежде, в Малой Садовой. (Отдал в университете 20 коп. сер. швейцару за письмо из Аткарска и получил билет, который отдал Марье, чтоб отдала дворнику.) В 4¼ к Вас. Петр., у которого застал Ив. Вас., который, однако, скоро ушёл; мы остались и толковали с Вас. Петр., пока [не] пришла Над. Ег. с отцом,— он дожидался её, чтоб отдать ключ, чтобы идти к нам, после к Залеману, но пришёл отец, и я ушёл, он остался, а теперь сказал, что если б я посидел немного, и он мог бы уйти. Вечером во вторник вздумал (вздумал-то раньше, а теперь только хорошенько подумал и начал делать), что для Ханыкова лучше перевести из Мишле «Истории философии» эту статью о праве, чем делать конспект по самому Гегелю, и более половины сделал 8-го и 9-го вечером.
10 [февраля]. — Утром в университет не пошёл, а писал сначала перевод из Мишле, а когда ушёл Ив. Гр., то начал писать о воспитании и дописал теперь до того, что должен рассказывать факты, т. е. писать историю Жозефины; это должно писать, кажется, с одного присеста, поэтому оставлю до следующего раза, когда можно будет долго писать. Всего написал около 140 строк, т. е. 8–9 страниц «Современника» или «Отеч. записок». Дописал это уже после обеда; после дописал, когда уже смеркалось, Мишле — всего там страниц 8–8½, у меня уписалось на пол-листе, и ровно всё решительно понял. Когда дописал, в ожидании Вас. Петр. сел за шахматы в их комнате. С час после, часов в 6, пришёл Вас. Петр. и просидел до 10; я сказал, что к Залеману идти не чувствую особенной охоты — на его вопрос. Он сказал, что тоже, и остался сидеть. Хорошо. Сидели, толковали, сначала о политике, и играли в шашки; я конечно излагал свои мысли. Он сказал, можно ли брать «Débats» — «я об этом уже думал,— сказал я,— конечно, верно, можно, спрошу». — После стал говорить о тесте, который сидел вчера, о Корелкине, Клеоне; я сказал, как думал, что писать можно и написать можно хорошо и тем легче, что я сам думаю о нём так же, как Куторга, и что хочу писать, но что здесь может быть и опасность, потому что и Куторга толкует [239] о прогрессе и реакции, о революции, партиях, демократах и проч. при этом, а у меня будет ещё более. После я стал говорить (около 9) историю Благовещенского, которую рассказывал мне Ханыков; это, кажется, его взволновало, потому что это его история моего цинизма. Он стал говорить по этому поводу об Антоновском и говорил, я думаю, полчаса, не нехотя. В 10 ушёл, и я сел писать это. Теперь подали ужин, и я иду. Завтра утром у Ал. Фёд.; может быть пойду к Ханыкову, если не ворочусь с Ал. Фёд. есть блины. Должно купить стальных перьев, которых не покупал с того времени, как писал программу для Срезневского,— так долго велась эта дюжина. После обеда к Вас. Петр. и верно с ним к Залемаму.
(Писано 14 у Устрялова.) 11 [февраля]. [Отправился] к Ал. Фёд., купил перьев, идя; он не пошёл к нам, а сказал, что после. От него воротился домой и писал о воспитании до самого обеда, а после к Вас. Петр., где просидел до 10 час. Особенного ничего не было весь день. Отнёс Вас. Петр. «Débats» 22–31 января. Он обещался быть в воскресенье, но не был; к Залеману не пошёл.
12-го [февраля], суббота. — Утром писал всё о воспитании. Как пообедали нарочно в 2, пошёл в университет за письмом, обещавши быть дома в 6 ч. Хотел зайти к Корелкину на 1½ часа, но раньше хотел к Вольфу, зашёл и был там более, чем думал. Важного ничего нет в газетах. В университете встретил Пластова, он проводил меня до Казанского собора. На Адмиралтейской площади смотрел на женщин, как обыкновенно, и если бы был один, идя оттуда, то остановился бы, может быть, там довольно надолго. На обратном пути зашёл в Пассаж, там [статья] Ламартина в «Presse» — там мысль Ламартина о поэзии, что это не стихи по-настоящему, а проза (это он говорит о патере Dumont).
(Писано у Фрейтага в пятницу, 18-го.) — Всё время до этого дня, которое не провёл в лени, употребил сначала на писание первой статьи о воспитании (отрицательной стороне его, где рассказ о Жозефине) и переписку её до настоящего числа.
13-го [февраля]. В воскресенье после обеда пришло сомнение, можно ли писать о Жозефине, которую я назвал Казимирою, потому что ведь это может дойти до тех, которые теперь её знают, и они могут узнать её; это меня сильно поколебало и я с четверть часа об этом думал, как пришёл Ив. Вас., который просидел до 9 [часов].
14-го [февраля]. — В понедельник утром отнёс «Современник» Ал. Фед-чу. Воронин сказал, что брат именинник, чтобы я не был — хорошо. Пришёл домой. В 6 час. пришёл Ал. Фёд. и просидел до 10 (двери с месяц уже, кажется, с самого нового года, или раньше даже, затворены, поэтому мне стало гораздо свободнее,— я и пишу в зале и сижу с гостями также).
15 [февраля]. — Во вторник пошёл в университет. Вчера вечером написал две первые страницы набело и в университете написал ещё страницу. Никитенке ничего не писал, потому что думал, что доста[240]нет прежнего. Он принёс «Бориса Годунова» разбирать, и когда спросил, есть ли что у нас, я сказал, что, кажется, ему угодно было разбирать «Бориса Годунова». Говорил несколько хорошо, но большею частью вещи, которые давно сказаны Белинским гораздо лучше и с лучшей точки зрения, а много и устарелого уж говорил. Оттуда к Вольфу, где ничего нового. Вечером пришёл Вас. Петр., просидел до 10, говорил довольно много, сидели всё одни — весьма хорошо. Большею частью говорили о политике, потому что он принёс «Débats», которые не совсем дочитал, но назад взять в этот раз не захотел последние номера. Говорит: демократы глупы, поэтому едва ли можно надеяться успеха. Я отвечал, что они делали всё, что возможно и проч., оправдывал их, говорил, что по «Débats» нельзя судить. Он говорил, что людей нет; я говорил, что есть, напр., хоть у Ламартина неужели недоставало мужества или решительности, или у Луи Блана, когда он говорил в Собрании 15 мая и оправдывал Барбе и Альбера и проч. Когда уходил, говорил, когда я буду? Я сказал, что не раньше субботы, потому что буду всё писать. Он сказал: «Если так, я буду в среду или четверг»,— и в самом деле в четверг пришёл.
16-го [февраля]. — Когда я переписывал предисловие своё до рассказа, особенно первую половину его, мне пришло в голову, что это всё весьма гадко, и я сомневался, буду ли я продолжать эту вещь — так гадко написано и проч. Дописал всё-таки до Жозефины. Ждал Ал. Фёд., его не было; Василия Петровича тоже.
17-го [февраля]. — Так как Куторга хотел быть, то я должен был идти в университет, но его не было. Утром успел написать одну страницу Жозефины. После обеда долго сидел так, как и утром, читал «Сын отечества», который принёс вчера Ив. Гр., особенно комедию Шекспира «Укрощённая злая жена», где нет ничего особенного, ровно ничего, но ум виден. В 5½ пришёл Вас. Петр., и мы разговорились. Я начал читать ему эту вещь — мысль, которая и раньше пришла мне в голову, чтò он скажет, стоит ли посылать и какие есть главные недостатки и можно ли их поправить. Он взял лист, который написан, и три последние [номера] 29–31 января «Débats». Говорили о том, о сём,— сначала он всё о своей прежней жизни, после уж и я о себе, о том, какой у меня в голове хаос, как я ничего не могу сказать положительно и проч. Он говорил, что это от молодости, сказал о том, как я готов всему верить, что скажет порядочный человек, решительно всему, напр., что скажет Наполеон, Ламартин, Гёте и проч. Он рассказывал о своей прежней жизни, о доме, (?)[287] который говорит по-латыни глупости относительно богословия, и проч. Я начал говорить, что я ничего не знаю даже о себе, напр., трус я или нет, что и то, и другое равно мне кажется достоверно, а скорее[241] всего я трус и человек бесчувственный вместе, и проч. Я сказал, что приду в субботу.
Любинька взяла у меня в эти дни всего 12 р. сер., потому что не было денег; мне было совестно, что я ничего не отдаю им, но мало совестно, потому что ведь туда употреблять их, куда употребляю я, гораздо нужнее; теперь вздумала отдавать 3 р. сер., я взял только один, потому что это было недавно, а остальное не хотел брать, да и не возьму, конечно, потому что мне и так совестно, что ничего не отдаю им, но мало совестно, потому что я человек вместе и раздражительный, и бесчувственный в высшей степени.
Напишу, чтò теперь я думаю о своей «необходимости отрицательной стороны воспитания». Сначала о манере. В первой половине до рассказа, во-первых, повторения и усиления риторические на манер Куторги портят; это произошло сколько оттого, что я довольно легко разгорячаюсь, как навоз, и начинаю испускать дым, если не огонь, столько и оттого, что не обделываю, а мысль, в то время, как она не обдумана заранее, дополняется в то самое время, когда пишу, и выходит мысль, как будто наш Свод законов с десятью дополнениями, из которых каждое — повторение прежнего и прибавляются новые клочки. Итак, это должно переделать бы, но я спешил. Потом какая-то патетичность, которая происходит от этого самого. Потом мне не нравится теперь, что я слишком горячо выразил, что никто не думает и не пишет об отрицательной стороне воспитания; у нас это так, но почему я знаю, чтò в других литературах и у учёных других народов? И не будет ли это в таком же роде, как Никитенко, который всегда говорит, что, напр., о Державине и Пушкине почти ничего у нас не сказали, они не оценены, и говорит в виде общих мест то, что давно с умом, резкостью и последовательностью высказано Белинским; так и я. А что касается до второй части, то самый главный недостаток, мне кажется, то, что я придал любви Петра Ивановича к Жозефине более продолжительности и интенсивности, чем следует, да и его сделал образованнее, чем он в самом деле. И вообще рассказ получает в моих устах какой-то мелодраматический оттенок, который должен вредить впечатлению на тех, которые одарены вкусом. И потом мне кажется, что всё это вообще,— обе части, и половина первая, и самый рассказ,— растянуто, так что снова приобретает какую-то аффектацию, и выходит что-то снова вроде Куторги. Теперь я решительно не знаю, пошлю ли в «Современник»,— скорее что пошлю, но решительно не знаю. Много это будет зависеть от Вас. Петр. Чтò он скажет об этом сочинении, я не знаю. Я думаю, что может показаться ему, что дело идёт из-за пустяков, из-за мысли, которая вошла бог знает каким манером в голову, и в чём она истинна и применима,— давно уже прилагается всеми порядочными людьми, а в чём не прилагается, в том доведено мною до нелепости, как всякий дурак, который проколачивает голову, молясь богу. [242]
18-го [февраля]. (Писано 19, в субботу, у Фрейтага снова.) — Куторги не было. Я сказал, чтобы аплодировали ему, о чём начали говорить некоторые, и говорил много. Из университета домой, где прочитал почти все «Débats». К Ворониным. Узнал в университете, что Куторга старший[288] за пропущенные года три назад стихи сидит на гауптвахте, и даже,— сказал мне Воронин, когда я был у них,— государь спрашивал министра, может ли профессор Куторга продолжать лекции. Ныне, когда я пришёл в университет, я говорил об этом резко. От Ворониных пошёл к Вольфу, где думал от 26 февраля «Staatsanzeiger» найти (открытие палат), но [был] только от 24. Выпил кофе, посидел до 10. Когда полез за целковым, увидел, что в кармане нет ключа, думал — позабыл, но когда вышел, вдруг зазвенело — из кармана выпал двугривенный: итак, ключ выпал также. Это меня потревожило, но я думал, что может быть забыл дома — нет, обыскал все места. Зашёл к Ал. Фёд., взял «Современник», его не было дома; у него лежал атлас, я посмотрел его. Итак, меня беспокоило, что должно ещё терять 60 к. сер. за ключ. Ныне, идя в университет, вздумал, что можно вывернуть замок и приискать ключ на толкучке. Это заставило почти перестать думать, что-то будет у Вас. Петр., когда я схожу к нему, что-то он скажет о моём сочинении? Вздумал, не спросить ли у Куторги после лекции, чтò с его братом,— это так, для того чтобы сказать что-нибудь и выказать участие, да и в самом деле любопытно. Что-то за границей? В Риме и Тоскане республика. Когда мне сказал это Славинский, я с нежным участием сказал: «дай бог им успеха!» — тихим, нежным голосом, а не резким голосом гнева на противников, не голосом войны. Что-то будет? Дай бог, чтобы было хорошо.
Пробовал отпереть замок шпильками и вязальною иглою, потому что нужно было достать из ящика некоторые бумаги, но не мог. Наконец, догадался достать сквозь щель, не выдвигая ящика, в промежуток между стенками и крышкою стола, и в самом деле достал всё, что нужно. Теперь начинаю пересматривать свой рассказ о Жозефине.
(Писано у Фрейтага в пятницу 25 февр.) — Всю эту неделю ничего не делал, кроме того, что переписывал рассказ о Жозефине, и теперь дописал до конца того, что она о себе рассказывает, и должно начать слова Петра Ив. Швецова. Меня сильно занимало, сколько выйдет страниц, и тогда, когда я писал, и когда я переписывал. Когда писал, сначала думал, что надобно как-нибудь написать до 30; когда написал предисловие (1 лист) и должен был переписывать рассказ о Жозефине, думал, что упишу на 3½ полулистах, поэтому 12 страниц моего письма, поэтому 24 «Современника» (Науки) — поэтому всего будет + 23 = 36–37. Теперь вижу (потому что во время самой переписки я много прибавил), что едва упишется на 5 полулистах, поэтому почти 36–37 страниц один рассказ, а всего поэтому 49–50. Когда писал и переписывал, довольно легко придумывал ход событий [243] и события, поэтому я стал считать себя способным к писанию повестей, между тем как раньше думал, что я не могу ничего выдумать — ни характеров, ни особенно происшествий,— нет, могу.
В субботу был Куторга на лекции, и я хотел, чтобы хлопали, потому что мне вообще хочется делать шалости, глупости и т. п. и почему же не польстить человеку? Я всегда готов польстить, т. е. сделать удовольствие, особенно если насмех, это в моём духе…[289]. Я говорил перед лекцией, чтоб хлопать,— первую идею подали об этом те студенты, которые были у него во время болезни,— за то, что он сказал, что, пока может, он не оставит университет, так он его любит. Во время лекции я даже написал билетик и стал передавать его из рук в руки: «после лекции аплодировать Михаилу Семёновичу»,— не согласились, написали: «во вторник». Хорошо; во вторник я также говорил и даже было написал фальшивой рукой: «Некоторые из студентов филологического факультета предлагают своим гг. товарищам аплодировать г. профессору Мих. Сем. Куторге за его превосходные лекции и за выказанную им во время болезни любовь к университету. Они предлагают аплодировать 22 февраля во вторник после окончания лекции». Это хотел я положить на кафедру, когда не будет никого в аудитории, но не успел; поэтому осталось так в кармане, из которого в среду выронил, доставая платок; поднял Славинский и прочитал вместе со мною. Я показал своё незнание об этом листке, кажется, довольно хорошо, так что нельзя подозревать. Так во вторник всё-таки я продолжал говорить, что должно аплодировать; немногие согласились, многие спорили, и даже Воронин, который, наконец, сказал об этом Куторге, который сказал, чтоб не хлопали. Когда Воронин сказал это нам, я перестал говорить об этом.
В субботу был у Вольфа; вечером у Вас. Петр. и говорил об общих вещах, о благе рода человеческого и т. п. Он говорил более в таком духе, какого я не мог подозревать, почти совершенно так, как у меня написано, когда я писал об эгоизме Гёте, о различии между [заурядными и] такими людьми, как Гёте, и между прочим, о том, что одни ничего не знают того, из чего состоит главным образом жизнь этих людей, что любовь у них обращена на другие решительно предметы, общие, а не свои частные — науку и проч., и, напр., любовь к женщине имеет решительно не тот характер.
Прибавление к субботе. — (Нет, я ошибся, хотел написать, что в этот день взял Вас. Петр. первый лист, предисловие к Жозефине, но он взял раньше, как я написал. А когда я был у него, то думал, что он заговорит,— нет, а только сказал, что начал писать было об образовании и воспитании по этому поводу, как он их понимает.) [244]
20 февраля, воскресенье. — Утром ходил к Олимпу Як. попросить справиться о том, можно ли разменять бумажки, и к Ал. Фёд. за «Отеч. записками», которые взял без него и взял два номера прошлого года, который не должен бы брать, как нарочно, особенно чтобы прочитать Вас. Петр., но ему-то и не дал, и пролежала эта книжка так. Был Ал. Фёд. от 12 до 3. Хотел быть Вас. Петр., но не был, как и в понедельник следующий.
21-го [февраля]. — Из университета к Вольфу, где просидел до того, как идти к Ворониным, и пил кофе. У Ворониных не было урока, потому что говеет Константин. Меня это взбесило, что не сказали раньше и заставляли приходить понапрасну, но мало.
22-го [февраля]. — Никитенко читал письма наших царей, которые недавно вышли,— мне снова показалось, потому, что ему скучны и глупы кажутся мои чтения,— но ничего. Дал Главинскому адрес семейства, в котором он приготовляет в университет сына. Это хорошо; поэтому и я могу когда-нибудь надеяться; но он ему дал раньше — это ничего, потому что ведь Главинский раньше меня отдал ему свой адрес. В университет приходил было Вас. Петр. к Никитенке, но опоздал, поэтому только между лекциями был. Я был развлечен своим намерением положить бумагу, в которой приглашал аплодировать. Сказал, чтоб я ныне приходил к нему, а он завтра. Был у него, снова говорили, снова играли в карты, и мне было снова нескучно. Воротился в 10½.
Во вторник Вас. Петр. приходил в университет собственно затем, чтоб сказать мне, что он был по «Полицейской газете» во второй уже раз у Мордвинова (в первый раз был он в пятницу и уже говорил об этом мне 17-го в тот же день), приносил ему начало своей повести, как Мордвинов требует…[290], которое ему понравилось и он сказал, что если так будет продолжаться и кончится, то он даст по 25 руб. сер. за лист. Это его несколько порадовало.
23 [февраля]. — Из университета был у Вольфа на несколько времени. Ничего нового или любопытного нет, решительно ничего. Вечером, как обещался, был Вас. Петр., просидел до 10. Надежда Ег. была у своих, но должна была прийти сама с отцом, а не он за нею зайти, поэтому-то он беспокоился и хотел раньше уйти домой: «будет плакать». Вообще он весьма мягок. Мне было весьма жаль и его, и её, весьма жаль и стало жаль, когда… (Ну, теперь звонок, допишу завтра и более конечно напишу о Вас. Петр.)
(Писано в субботу, снова у Фрейтага.) — Итак, вечером был у меня Вас. Петр. в среду. Говорил о Над. Ег., о том, что он близок к самоубийству. «Над. Ег.,— говорит,— весьма понятлива, весьма любит меня, весьма любит, мне не хотелось бы, чтобы она так была привязчива, потому что ведь неизвестно, что со мною случится,— и такой я бесчувственный человек (так обыкновенно [245] он называет себя): она ласкается, а я сижу как пень, такой бесчувственный. И то в ней хорошо, что никогда не высказывает, что ей неприятно,— напр., хоть каждое утро угораем мы, оттого, что печь дурно топится, и она каждый раз угорает, хоть я высылаю её, когда топится, но всё-таки. А между тем никогда ничего не скажет, не жалуется, а я такой бесчувственный — ничего. И многое понимает, чего я не предполагал, чтобы понимала, и ваша правда, что должно с бòльшею осторожностью обращаться с людьми, чтобы не оскорбить их: я как-то раз сказал (это было при мне), что я не знаю, могу ли я теперь любить что-нибудь, или чувствовать к кому-нибудь привязанность; я говорил довольно тёмными словами и никак не мог думать, что она это поймёт, а между тем это её сильно огорчило». «Если,— говорит,— Мордвинов даст денег, хоть 100 р. сер., уеду в Москву на театр, здесь как-то связан; отзыв обо мне сделали хороший, так что от меня зависит поступить, но жалованья всего 1.200 на последнем разряде, это слишком мало». — Когда он говорил, всё это на меня производило некоторое впечатление, так что сердце как-то несколько билось, т. е. сжималось, но мало. Ушёл в 10; я отдал ему шахматы и шахматные книги. Он хотел быть на другой день, чтобы принести «Débats», a я у него в пятницу.
24-го [февраля]. — Утром вышел рано из дома, чтобы быть у Олимпа Яковл., спросить об ассигнациях, но он не сказал, а я не напомнил, потому что можно ещё и в воскресенье. Купил перьев; после писал в университете о Жозефине; когда пришёл домой, всё лежал. — В 6¾, так как Вас. Петр. не пришёл, я к нему, взял «Débats» и свой листок,— он ни слова не сказал. Отнёс ему две пешки, которые позабыты были у меня. Играли в шашки и говорили; Над. Ег., конечно, скучала. Пришёл в 10½. Хотел он быть в пятницу или ныне; вчера не был, поэтому ныне будет.
25-го [февраля]. — В университете, когда дожидался у XI аудитории, Славинский сказал, что у Иванова в кондитерской все журналы французские, между прочим и «National». — Это мне было любопытно и я захотел быть как можно скорее и в самом деле был в тот же день. Когда шёл от Устрялова, остановил Срезневский, который стоял у окна с Корелкиным, и сказал, что он считает нас с ним решительно равными (это мне было приятно, что сравнивает, несмотря на то, что он получил медаль за сочинение для Срезневского) и что Мейендорф, студент 2-го курса, который хочет воспитываться в Берлине, хочет приготовляться к его экзамену и на-днях спросил у него, с кем ему приготовляться, что он равно смотрит на нас обоих и что уж как мы там знаем, пусть устраиваем между собою это дело. Это меня порадовало — во-первых, мнение Срезневского, что он не забыл обо мне и думает, что я помогу заниматься, хотя я у него ни разу не был; во-вторых,— может быть, Корелкин и уступит мне, и будут деньги, которые можно будет [отдавать] Василию Петровичу. Ныне утром пришло в голову, что легко может быть, что Мейендорф поговорит об [246] этом с Ворониным, а этот скорее должен будет указать на меня, чем на Корелкина. Как мы ушли с Корелкиным от Срезневского, я сказал ему: «Если вы отказываетесь, я очень рад» (он раньше уже сказал, что не знает, можно ли будет, потому что слишком много времени на это; я сказал, что нет, я так с удовольствием; но, конечно, это сказал он так и не откажется,— однако, не знаю как). Вообще, если он обнаружит желание, я ему уступлю, потому что не хочу связываться и переспоривать.
Из университета когда пришёл, дожидался Василия Петр. — не пришёл. Я захотел зараз побывать у Ал. Фёд., Иванова и Ханыкова, к которому давно собираюсь. Взял «Débats», Гегеля и «Отеч. записки» № 2 за прошлый год, отнёс к Ал. Фёд., которого застал против желания дома, должен был просидеть до 8. Оттуда к Иванову, где более двух часов читал различные газеты и нашёл, что у него бывать лучше, чем у Вольфа, потому что есть и «Presse», и менее людей, так что свободно, да и больше журналов, которые стоит читать. В Берлинском Собрании в первый раз 169 против 148 приняли Geschäftsordnung[291], предложенный правою стороною; итак, и здесь торжество реакции! что-то будет? — Мне это было несколько неприятно — что делать. Выпил кофе — хуже, чем где-нибудь, т. е. менее сахару и хуже хлеб. Читал «Journal pourire» — довольно хорошо (тот №, где Les défenseurs de la République[292], как Бюжо изображен в виде старухи и подписано; «Это не маршал, а повитуха, которая не умеет держать язык за зубами»). Воротясь, прочитал «Débats» 16 февраля, которые взял у Ал. Фёд. и которые должен отдать Вас. Петр., который, надеюсь, придёт ныне.
Любиньке велели вчера сидеть на постели, чтобы не простуживать ног. Бог знает, выздоровеет ли она. Мне, однако, нисколько её не жаль, кроме той жалости, которая вообще входит невольно в душу, когда видишь существо страдающее или хотя просто недовольное своим положением. Теперь они нуждаются в деньгах, у меня тоже почти нет (всего 30 к. сер.); они перебиваются; конечно, без затруднений, но не знаю, едва ли Ив. Гр. не должен будет взять их у Яхонтова или кого другого.
О Иванове: к Вольфу буду с этого времени заходить только по дороге, когда захожу, а когда нарочно пойду, то к нему, потому что это не дальше, чем Вольф, а газет больше и есть «Revue d. d. Mondes» и проч. — Теперь написано у меня 17 страниц о Жозефине, остаётся белых три, а из того, что переписываю, из черновой переписал почти 5 страниц, так что остаётся почти только последняя страница, написанная только вполовину и почти конченная, и этот рассказ Жозефины. Если Вас. Петр. получит довольно много денег, так что ему не нужно будет, то едва ли отошлю эту статью в «Современник», а оставлю так до времени, а [247] может быть и весьма надолго, так что если пошлю, то только для того, чтобы получить деньги за неё, а не из стремлении к известности.
Не знаю, кажется, меня будет беспокоить экзамен Грефе, потому что я ведь год не был у него и теперь еле начинаю бывать, но много трусить не буду.
(Писано у Фрейтага 4 марта.) — В субботу из университета и из дома в 6, когда не пришёл Вас. Петр. (не знаю, однако, дожидался ли я его,— кажется, что так), пошёл к Иванову, где до 7, снова пил чай. В 7 час. к Ханыкову, который дал Feuerbach's Das Wesen des Christenthums. Когда я брал и шёл домой, у меня было несколько раздумья, что выйдет из этой книги, когда я её прочитаю,— убеждусь ли я решительно в том, что говорит он, или нет; но была какая-то мысль, что я останусь почти с прежними убеждениями, т. е. что прежние верования решительно не годятся, а сущность только справедлива в нашей религии, т. е. личный бог, возможность и действительность откровения,— но толкование церковью этого откровения решительно негодно; однако и эти убеждения в личности бога, божественности христианства непосредственной и особенной, а не просто естественной, всё это весьма шатко в голове. Когда пришёл, прочитал вечером и утром сегодня введение — весьма понравилось своим благородством, прямотой, откровенностью, резкостью — человек недюжинный, с убеждениями. После прочитал ещё несколько страниц, и теперь убеждение такое, что это так: человек всегда воображал себе бога человечески, по своим собственным понятиям о себе, как самого лучшего абсолютного человека, но что ж это доказывает? Только то, что человек всё вообще представляет как себя, а что бог, решительно так, отдельное лицо. Например, Раев думает обо мне по себе, я о Гёте и Гоголе по себе, и собственно в моём воображении под этими именами являются не Гёте и Гоголь, а и сам же, мои же собственные понятия о них, т. е. обо мне, а не они; но они тем не менее решительно не зависят от моего существа и моей сущности, у которых решительно другая сущность, другой характер и образ воззрения, чем у меня, но которые я представляю себе не в их истинном свете и виде, а как отражения моей сущности. Но я прочитал ещё всего 8–10 страниц и может быть моё убеждение изменится; а то всё читал «Débats», чтобы, когда придёт Вас. Петр., [были] готовы. Он был вечером, но не взял, потому что должен был быть у Фёдора Афанасьевича, у которого умер сын (это к 25, субботе), на похоронах; приглашал меня туда, я не согласился, собственно потому, что не хотелось бывать в чужом доме, где собственно я незнаком, и потому, что как-то стал я дик, да и об одежде пришло в голову, но слабо, что скверная. Хочу быть во вторник.
(Продолжение 26-го.) Писал Жозефину вечером. Читал и «Débats».
27-го [февраля], воскресенье. — Был у Олимпа Як., чтобы спра[248]виться об ассигнациях, и в самом деле он уже справился — как он мил. Оттуда снова к Иванову, где пил чай. Пришёл домой и ждал Вас. Петр. после обеда, потому что был у Фёдора Афанасьевича.
28 февраля. — Был у Вольфа, где пил кофе. Вечером писал Жозефину и почти дописал, так что оставались только прибавления от моего лица, что следствия из этого ясны и что это решительно правда, и начал перечитывать, чтобы поправить, где описки. Любинька сказывала, что был Ал. Фёд., что нездоров и велел присылать меня, как приду; я и думал, что болен, но более думал, что это ему так показалось. (Нет, ошибся, смешал понедельник со вторником, оставалось ещё много, это почти кончил, то — во вторник.)
Колебался раньше, а теперь решил читать Никитенке на лекции свою статью о воспитании, пропуская только лирические места в введении о распространении убеждений, о слабости моих сил и проч., потому что в чтении перед пятью человеками они неуместны. Но Никитенко принёс свою программу и сам толковал о словесности и её преподавании, по большей части, что было говорено в первой лекции первого курса. Мне было довольно скучно. Должно сказать, что, переписывая Жозефину, я образовал привычку ходить в университет раньше времени и писать в аудитории пустой.
Вечером был Вас. Петр., говорил большею частью о том, как был у Фёд. Афан., о том, в каком отношении он к ним, как это странно и ложно, что вместо того, чтобы думать о нём как о человеке, нуждающемся в помощи, которого должно пристроить хоть куда-нибудь, они приступают к нему со страхом и трепетом, как были чрезвычайно рады, что он приехал, и как Фёд. Афан. встретил его и обращался с ним с большим благоговением, чем с своим вице-директором, с которым за панибрата, а с ним с благоговением и, напр., говорит, что место столоначальника для него низко, и почти конфузится, когда говорит, как бы не рассердился я, что смеют мне [предлагать] такие вещи. Взял Фейербаха, вторую часть Мишле и «Débats» и велел взять первую часть Мишле у Славинского, у которого я поэтому буду в среду. Я у него хочу быть в четверг. Почти кончил Жозефину и начал переписывать с твёрдым решением отнести в среду. Вас. Петр, говорил вообще о своих отношениях, поэтому и о Бельцове, и говорил, что у него дочь, как выразился, милая девушка. Я спросил: «Молоденькая?» Он говорит: «Лет 18; хотите, я вас познакомлю с ней?» Я сказал, что уж после моей свадьбы. Конечно, не согласился быть введённым к ним в дом, потому что, во-первых, не люблю этого — знакомиться, мне всё как-то неловко кажется, как будто в низшее положение становишься, но не это главное, а то, что неловко: не говорю по-французски, не танцую, наконец, нехороша одежда и мало денег; а это меня весьма задело, что он говорит о ней — «милая девушка», потому что я полагаюсь на его суждения, слишком много полагаюсь, особенно в суждениях о людях,— [249] итак, в самом деле прекрасная должно быть девушка. У меня уж и начинает шевелиться то чувство, которое заставляло бывать в Пассаже и пр., потребность влюбиться, что ли, как это называется: теперь думал об ней всю среду более, чем о Жозефине и всём другом — сижу на лекции, а в мыслях не то, будет ли принято в «Современник», а она, дочь Бельцова. Что за мальчик такой! Вот что значит не бывать в обществе и не видеть женщин и становиться таким человеком, который от первого женского имени готов вспыхнуть; в первую, с которой увидится и которая не будет слишком пошла лицом или душою (т. е. не будет вроде Любиньки, где я вижу и то, и другое), готов влюбиться. Ну, да об этом после когда-нибудь больше буду писать. А теперь продолжаю свой рассказ, потому что остаётся только 10 минут. Вечером напишу письмо в редакцию.
2-го [марта], среда. — Оставалось проверить ещё три страницы, когда должен был идти к Ворониным. Я надеялся успеть это в университете и поэтому взял с собою спички, сургуч, печать, чтобы, когда кончу, запечатать в университете свою статью (её хочу свернуть я трубочкою). Всё сделалось так, как я думал, даже скорее успел и лучше, чем думал: прочитал всё у одного Никитенки, между тем как раньше думал, что не успею и должен буду после лекций остаться в университете на несколько минут. Перед Куторгиною лекциею пошёл в нужник, где заперся и запечатал. Как выхожу оттуда, говорят: Куторги не будет; хорошо. Пошёл из университета, думаю: ведь должен буду быть завтра или ныне у Славинского, чтобы взять первую часть Мишле истории, так всё равно, уж лучше теперь, потому что будет короче дорога, ведь всё равно должен идти в дом Лопатина,— и пошёл, хотя не решительно хотелось там оставаться обедать, да уж всё равно,— и пошёл туда. Ну, остальное допишу завтра.
(5-го, суббота, писано не у Фрейтага, а в VII аудитории, пустой, где висят ландкарты и читает Касторский древнюю географию.) — Итак, пошёл к Славинскому. Его ещё не было дома; отец сидел за столом, оставил меня. После пришёл Славинский, пообедали вместе; я взял Мишле; он говорил, чтобы, когда будет можно, принёс я вторую часть, и дал мне Лео, Lehrbuch средней истории — хорошо, я взял. Оттуда, так как было рано, а мне хотелось в редакцию попозже, чтоб не узнали, пошёл к Иванову, где часа полтора, и около 4¼ в контору «Современника». Он выйдет ещё 12 числа,— итак, во-первых, рано отдаю, заняты ещё следующим 3-м №, во-вторых, «Современник» как-то колеблется, шатается, что это? так запаздывает? можно ли это? Это сделало нехорошее впечатление. Вошёл решительно холодно, так, как будто надеваю сапоги, равнодушно отдал молодому приказчику и сказал: «пожалуйста, передайте»,— самым сухим и холодным голосом, как не ожидал; сердце нисколько не билось, ровно нисколько; сам тоже был решительно холоден, даже, можно почти сказать, занят другими мыслями. Пришёл домой и пообедал, ещё после довольно много спал. [250] Однако, с того времени, хоть не так много и беспокоюсь об этом, а всё-таки, как иду в университет, думаю: «а может быть письмо из редакции»,— хоть сам знаю, что, во-первых, слишком рано, во-вторых — может быть, и не примут. Однако, об этом мало думал, т. е. постоянно занят, но так же, как, напр., мыслью о perpetuum mobile[293], так что лежит в фоне души и лежит совершенно спокойно.
3-го [марта], четверг. — Утром решил зайти к Ал. Фёд. и против ожидания нашёл, что [он] болен; посидел со скукою ¾ часа; просил зайти в пятницу взять письмо с 10 р. сер. Петру Фёд.,— хорошо, но едва не забыл. Из университета, где против ожидания был Куторга, который не был в среду,— к Вольфу,— нового ничего; после к Вас. Петр., у которого играл в шашки и карты. Он прочитал более половины Фейербаха и говорит: «Как же я ошибся, думая, что эта книга глупая — напротив, человек умный, каких у нас и в помине нет, которого даже не в состоянии и понять наши учёные, и человек с убеждениями и говорит решительно справедливо». Просидел до 10½.
4-го [марта], пятница. — Читал вечером в четверг и ныне утром Лео; особенного ничего, но фактов бездна, равно как и учёности, так что, кажется, получше Беккера. Читали Blanqui[294], прочитал страниц 80 первого тома, всё вздор — во-первых, фактов нет, ровно нет; во-вторых, плохо, всё из других заимствовано, так что, напр., факты только из Гизо; начну уж второй том, а первый брошу. — К Устрялову пришёл Вас. Петр., который должен был быть у Залемана и в почтамте, и как сел подле меня, то я не стал писать, а вздумал писать записки, которые своим содержанием могли раззадорить Корелкина, и передавать ему (он сидел скамьёю ближе к кафедре); так и прошла вся лекция. Так как бумаги не было, я разорвал один листик, который был начат Устряловскими лекциями. Всего было написано мною (я написал более всех), Вас. Петр. и Корелкиным, который писал ответы, 3 бумажки, из которых одна осталась у меня, 2 взял Корелкин; это мне было неприятно, что они не у меня в руках, потому что мне хотелось бы сохранить их, и под конец он упомянул о логике в своём ответе, и я вывел дилеммою, что он лжец, и соритом[295], что всякий лжец подлец, а подлец стоит [того], чтобы ему плевали в глаза, следовательно… Дивлюсь, как я дерзок на язык, как он не рассердился решительно, а был уже близок к тому, чтобы рассердиться. Так как должен был быть у Вольфа, [то] взял 20 к. сер. у Любиньки, посидел там,— нового ничего. От Ворониных к Ал. Фёд., где почти до 9½ и пил чай, который нарочно для меня делали; после пришёл Генрихсон — недалёкий, т. е. пошловатый человек, как показалось под конец, а сначала показался хоть куда и, конечно, гораздо лучше Ал. Фед-ча по манере и по обра[251]зованию и по уму, хотя в сущности того же поля ягода. Я просил Вас. Петр. быть у меня в субботу или воскресенье, он меня также; я не знаю, как это будет: если он не будет ныне, может быть, я и буду; он будет завтра утром.
5-го [марта], суббота. — Утром встал почти в 8, пролил чернила, когда хотел налить в чернильницу, и стирал и выводил их до 9½. После в почтамт для Ал. Фёд.,— хорошо. В университет пришёл почти в 10 и вот всё это писал до второй лекции, теперь скоро бьёт звонок. Письма из редакции нет. Да, Вас. Петр. вчера сказал снова (он и раньше это говорил), что у Ламартина есть сходство с Иваном Яковлевичем. Я этого, правда, раньше решительно не замечал и раньше даже не соглашался с ним, а теперь пошёл и посмотрел портрет его у Дациаро, довольно большой, грудной и хорошо сделанный, где он является стариком с угловатым лицом в застегнутом сюртуке; в самом деле, решительно правда и должен был сам заметить это: ниже носа, по бокам ноздрей и положение частей около рта, особенно сбоку рта, решительно как у Ив. Як., да, если угодно, и всё лицо смахивает, а Ив. Як., должно сказать, Вас. Петр. не называет иначе, как ослом — решительно, говорит, подобие осла; а уж о сходстве Трошю (?) с Куторгою старшим и говорить нечего; я раньше не замечал, а когда сказал, я тут же согласился, и когда посмотрел, то удивился, как раньше не обратил на это внимания, сходство снова в тех же частях лица и носе, особенно нижней части и щёках, той части, которая ближе к носу. Необыкновенную проницательность в отношении лиц имеет Вас. Петрович.
(Писано 8 марта, у Куторги на лекции.) Когда сидел на третьей лекции в библиотеке, подошёл Срезневский и спросил, что дело с Мейендорфом. Я сказал, что, кажется, занял это место Корелкин, но что хорошенько я не знаю. Он был недоволен этим и сказал, что он думал не так, а что мы разделим это поровну. Идя на лекцию, он остановился с Корелкиным и Мейендорфом и сказал что-то, верно рекомендовал одного другому.
Из университета заходил к Вольфу, где узнал о том, что в Австрии также распущено Национальное Собрание и дана конституция императором — итак, вот как ободрил пример Пруссии. Хорошо! Хорошо! Будет и на нашей улице праздник и скорее, чем вы думаете! О, как вы слабы, вы, которые в руках, думаете, имеете силу!
6-го [марта], воскресенье. — Читал Blanqui[296]. Говорит об утопистах довольно хорошо, т. е. без глупого отчуждения, которое так смешно было бы, если б не было вредно, но писал вовсе не хорошо — фактов весьма мало и то выписано из вещей весьма известных, напр., из Гизо. — Вечером, когда не было Вас. Петр., пошёл в 6 ч. к нему,— его не было. Я уже уходил, когда догнал он,— он был в лавке, насилу догнал,— ко мне идти не мог, потому что дожидался Над. Ег., которая была у своих, в 7½ пришла.
(Писано 9 [марта], у Никитенки.) Пил чай у Вас. Петр., про[252]сидел до 11, так что пришёл домой в 11½. У него говорили более в революционном духе; говорили и о Фейербахе,— он сказал, что, конечно, умный человек, весьма умный, умнее всех этих наших учёных. Обещался быть у меня во вторник.
7 [марта]. — Утром шёл снег, так что было ужасно скверно. Я ходил за письмом,— прислали 75 р. сер., мне в том числе 20 р. Я 5 р. сер. должен отдать за сапоги Фрицу, 2 р. сер. должен оставить себе, 13 р. сер. вчера отдал Вас. Петр., т. е. во вторник. Когда был у Вольфа, просидел до 6½, потому что читал дело в Бурже по «Indépend. Belge». Весьма хорошо; мне нравится Распайль; как хорошо, кротко и вместе сильно говорит он — молодец! Пришёл поздно к Ворониным, просидел до 8 или более, пришёл домой в 9 и не слишком устал — хорошо. Читал Лео, Среднюю историю — хорошо, весьма хорошо, не то, что Бланки, глубокая учёность. А 3 № «Отеч. записок» пуст так, что ничего почти не читал, кроме только литературы, которая писана хорошо, и даже разбор книги Михайлова[297] привёл меня к размышлению, что это писано человеком, поболее меня знающим эти дела, и что мне тут не писать, потому что есть получше меня. К этому присоединилось и то, что ответа на статью из «Современника» нет, хотя, однако, я того и ожидал, что не будет до 15 числа, когда услышал, что «Современник» выйдет 12 числа. Итак, конечно, я от этого ничего особенного не начинаю думать; да и то должно сказать, что я об этом думаю без слишком большого трепета, потому что это дело постороннее, [не] удастся,— так не будет хуже, чем теперь, удастся — хорошо. И снова должен сказать, может быть, и то, что собственно здесь дело не о мне, а о Вас. Петр., поэтому-то, может быть, как дело собственно чужое, это меня и не так занимает, как своё.
Но нет, это не оттого, потому что ведь почти так же занимает меня мало и моё perpetuum mobile, моя машина, которая должна переворотить свет и поставить меня самого величайшим из благодетелей человека в материальном отношении,— отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться. После, когда физические нужды не будут обеспокоивать его, когда относительно нужд начнётся для него жизнь как бы в раю (другое дело болезнь и смерть — те ещё верно останутся, хотя слабее, чем теперь), когда снимется проклятие: «в поте лица твоего снеси хлеб твой», тогда человечество решит первую задачу — устранение препятствий к занятию настоящего своею задачею, нравственною и умственною, тогда перейдёт оно к следующим задачам. Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания.
(Писано у Фрейтага 11-го.) 8-го [марта], вторник. — Никитенко, когда пришёл, спросил у Корелкина, есть ли у него что-нибудь, тот сказал — нет. Как меня не спросил, то я и не сказал ничего. Никитенко начал говорить снова о программе своей и т. д.; сказал, что ждёт грамматики Давыдова,— я стал опровергать, что [253] нечего ждать, потому что ничего не может быть хорошего от Давыдова. Из университета пошёл к Вольфу, чтобы разменять деньги, пил кофе и просидел до 5½, так что, когда пришёл домой, уже около часа ждал Вас. Петр., который просидел до 9; принёс Фейербаха и «Débats» до 12 числа, остальные хотел прочесть завтра, и поэтому я к нему должен буду идти. Отдал ему 13 р. сер.
9 [марта]. — У Ворониных получил за 10 уроков 13 р. 60 сер., потому что раньше получил 15, следовательно 70 к. лишних — хорошо. Думал о том, как сделать, отдать Вас. Петр. 10 ли, [или] 12 р. сер. из них — решил, что 12, хотя думал, что скорее решу 10. Пошёл к нему и не успел отдать, как не успел и взять «Débats», потому что ещё не прочитал; играли всё в шашки; он сказал, что принесёт завтра и вместе пойдём к Залеману — хорошо.
10-го [марта]. — Утром читал Фейербаха. Что думаю о нём, напишу после. Прочитал до 110-й стран., хочется поскорее отнести, но раньше воскресенья не могу, потому что не успею. Думал: идти или нет к Куторге, потому что знал, что не будет; всё-таки пошёл,— он не был (и вчера, в среду, не был); я пошёл к Вольфу, где до 3½ читал «Débats» и Фейербаха несколько. Вас. Петр. пришёл в 5½; в 6½ к Залеману — он должен был [идти] в концерт, который в Пассаже, потому что получил билеты от сестры, поэтому в 8 час. ушли все вместе. Мы снова домой, я отдал 12 р. сер. ему; когда пришли, я пошёл поставить самовар. Вас. Петр. взял 3 № «Современника» — это хорошо, что взял, но нехорошо, что до этого времени нет ответа мне из редакции. Это нехорошо, если и это так погибнет, как прежнее, которое отдавал в «Отеч. записки». Однако, всё ничего, и как-то если успех — хорошо, если неуспех — как-то мало беспокоюсь; странный характер, решительно беззаботный, с одной стороны, чрезвычайно мнительный, трусливый, с другой стороны; однако, всё вздор.
Когда пришли, я говорил большею частью и почти всё о политике, говорил о суде в Бурже, говорил о Бланки, что вычитал в «Indépend. Belge», о том, какой оригинальный и резкий человек, и т. д. — Говорили мы после об истории, я о Шлоссере, об «Истории революции» Buchez; он говорил снова, что слишком мало читал он, ничего не знает, что теперь хотелось бы чем-нибудь заниматься. Я снова начал говорить, как мне противно, когда кто настаивает на том, что он решительно беспристрастен, не принадлежит ни к какой партии; да как же можно не принадлежать ни к какой партии, ни к какой школе? И вообще говорил много. Он, я думаю, должен был скучать, однако, не знаю. Да, должно сказать, что как иду в университет, думаю, что вот, быть может, найду письмо в университете из редакции. Вас. Петр. ушёл в 10 час., я хотел быть у него в воскресенье. Теперь, если будет Куторга — к Вольфу, если не будет — домой пойду.
Лучше хотелось бы мне, чтобы был,— нет, лучше, чтоб не был, потому что всё равно пойду к Вольфу,— нет, если не будет — не пойду, а домой. — Звонок. [254]
(Писано 11-го, в субботу, у Фрейтага.) — У Куторги, который вчера был, говорил громко с Корелкиным в обыкновенном своём духе, так что оборачивались с других скамей,— мне это было как будто бы приятно: пусть слушают да дивятся. Из университета к Вольфу,— новых газет нет, поэтому через несколько времени взял «Современник», который брать не хотел, и стал читать «Признания» Ламартина и должен сказать, что они показались мне лучше, чем я думал, так что вроде Шатобриана, между тем как раньше я думал, что хуже. Письма из редакции нет. Когда туда, шёл, на Б. Морской, между Гороховой и Вознесенским, по стороне, которая к каналу, увидел на окне кондитерской, которую и раньше видел, вывеску «Staatsanzeiger» и вздумал, что должно туда зайти. У Ворониных не было урока, потому что Константин был болен. Вышел Александр и сказал это. Я так уже привык к этому, что почти не рассердился, т. е. рассердиться совершенно не рассердился, а даже почти ровно ничего. Но что же за невнимательность, что не могут сказать? Хоть Александр — ведь видел же меня в университете, что же не сказал? Он попросил посидеть у себя, я вошёл на минуту и тотчас ушёл, потому что и не хотелось сидеть, потому что хотелось прочитать поскорее «Débats» и Фейербаха и отчасти (хотя это был более предлог для меня) потому, что ему должно было к завтра сочинение написать Фрейтагу,— я хотя знал, что уже написано им вместе с Захаровым. Пришёл домой, поел, читал, спал от 10 до 11½, после до часу снова читал и прочитал все «Débats», хотя поверхностно, и прочитал вчера и ныне утром Фейербаха до 180-й страницы, и как сначала всё соглашался, так с того времени, как стал он говорить о значении божественности слова, тайны создания из ничего и т. д., не стал соглашаться; почему — напишу в другой раз, когда всё дочитаю.
12-го [марта], суббота. — Утром встал в 6¼ и стал читать Фейербаха и должен сказать — не слишком с большим вниманием и охотою, а более как бы по обязанности. После, как готов чай, напился и ровно в 8 вышел к Ал. Фёд. занести «Débats»; y него уже новые до 1 марта; я его просил к себе, он хотел прийти. Пошёл в университет, получил письмо от своих; когда швейцар позвал, я подумал, что это из редакции. Как думаю расположить своё время до вторника: ныне вечер и завтра утро — дома, буду читать Фейербаха; если успею дочитать, завтра же отнесу, если нет, что скорее,— как случится,— в понедельник или вторник, т. е. в понедельник, если Константин Воронин будет всё нездоров. Вечером в воскресенье буду у Вас. Петр., отнесу «Débats», если можно будет отнести Фейербаха, то пойду к нему в 4, от него в 6½, если нельзя — к нему в 6½ или в 7, от него в 10, как обыкновенно. В понедельник, если не буду в воскресенье у Вольфа или Иванова (скорее, что не буду, а ныне буду у Вольфа), то буду непременно у Вольфа, всё равно, буду ли или нет у Ворониных. А что вообще сказать о планах относительно будущего — я ничего не знаю теперь: жду, чем кончится история о необходимости воспитания, по[255]сле почти до пасхи — там приготовления к экзаменам, там экзамены (готовиться особенно к Срезневскому,— много, кажется, должно будет списывать), а что на вакацию делать — не знаю, может быть, писать на медаль.
(Писано в среду 16-го, в 10 ч. вечера.) — В субботу, когда пришёл из университета, читал «Débats» — или нет, не «Débats», а Фейербаха; вечером был Раев, просидел почти до 11 [часов].
13 [марта], воскресенье. — Утром до 4 вчера читал всё Фейербаха и прочитал всё. Как прочитал, пошёл к Вас. Петр., отнёс шесть первых номеров «Débats», т. е. до 23 числа февраля, которые уже прочитал, и шёл к нему с намерением уйти к Славинскому и Ханыкову; может быть, и не пошёл бы, но Корелкин прислал мне польские стихи, которые я взялся перевести в понедельник Срезневскому, поэтому должен был достать лексикон у Славинского. Итак, к В. П. пошёл как можно ранее. Над. Ег. не было дома, мы просидели до 7 почти, поэтому я вышел и пошёл; в воротах встретилась Над. Е., которая воротилась домой и которой вздумалось, что я ухожу, увидевши её, хотя это было невозможно. Вас. Петр. сказал, что она об этом [будет] плакать или во всяком случае будет недовольна этим. У Славинского лексикон польский взял Корелкин. Итак, я к 8 часам отправился к Ханыкову. У него был один студент и один статский молодой человек, который очевидно был глупее всех нас. Студент несколько похож на человека, т. е. даже очень много, но не так умён, как Ханыков. У них просидел до 11 часов; должно снова пойти, потому что хочется взять книг.
14-го [марта], понедельник. — Утром отправился к Корелкину, взял у него лексикон и пошёл в университет приготовляться. У Срезневского переводил хорошо, читал — нет, хотя думал, что прочитаю порядочно. Из университета, хотя Воронин болен, всё-таки зашёл к Вольфу, взял кофе и просидел до 6½ и уж почувствовал как-то нехорошо в желудке, так что уходил на двор туда в переулок. Когда шёл домой, несколько ныли зубы,— должно было раньше пообедать, после чистить, потому что натощак нехорошо; я сделал наоборот: чай был подан, я обедать не стал, а стал чистить зубы и расстроился, так что стало тошно и я поправился хорошенько только через полчаса или более. После читал «Débats»; думал и о том, не написать ли чего Никитенке, но уж было поздно. Хорошо. Да, тем более не захотел, что думал, что будет читать о синонимах Корелкин, и так в самом деле было. — Подают ужин, после уж.
(Писано в четверг 17-го, в 11½ утра.) — Вчера сел писать, потому что щемило сердце потребностью любви, поэтому я и сел, но не успел дописать до тех пор, как хотел, поэтому продолжаю теперь, потому что ещё час почти до того времени, как должно будет идти в университет.
15-го [марта], вторник. — Утром у Никитенки на лекции, вхожу — сидит Вас. Петр. в аудитории. Поговорили втроем с Корел[256]киным, я довольно резко. Вас. Петр. не остался на лекции, а ушёл в 14-ю линию Васильевского острова, где нужно переводчика, но сказали, что уж занято место. Мы остались. Корелкин стал читать о синонимах русского языка и говорил, что русский язык [богат], я стал говорить, что нет; Никитенко заступался за Корелкина, за русских писателей, за Державина и проч. Я всё говорил,— я думаю, больше половины лекции прошло в том, что я всё доказывал, что русский язык ещё решительно не развился, что поэтому богатств в нём гораздо менее, чем во французском, немецком, что богатство этимологических форм в сравнении с этими языками ничего не значит, потому что в финском языке 14 падежей, в татарском 20 или 30 залогов, но что же это доказывает? Всё зависит от синтаксиса, перифрастические формы могли бы весьма хорошо или даже лучше заменить этимологические формы. Я говорил не с жаром, конечно, которого вовсе не чувствовал, а всё-таки щёки разгорелись. После лекции Никитенко сказал, чтобы я давал уроки одному молодому человеку из Финляндии, который хочет быть учителем и должен держать экзамен из русского языка. Это меня весьма обрадовало для Вас. Петр. Никитенко сказал, что с завтра начнутся,— весьма хорошо, весьма хорошо. Цену я думаю брать смотря по его состоянию: если небогатый человек, то, конечно, сколько может, но чем более, тем лучше, потому что это нужно для В. П. — по моему мнению, это доставит около 30 р. сер. — Вечером пришёл Вас. Петр. почти в 6 и просидел до 11. Это одно из самых важных и задушевных свиданий с ним, давно уж не было такого, и очень давно ничто на меня так не действовало, как этот вечер с ним. Ив. Гр. весьма скоро ушёл к Олимпу, откуда воротился в 12 ч.; мы сидели с затворенными дверями и говорили довольно тихо, так что ничего нельзя было слышать, поэтому совершенно откровенно. Он мог оставаться долго потому, что у Над. Ег. была в гостях Александра Егоровна и поэтому можно было оставить их одних. Напишу об этом побольше.
Сначала разговор был о внешнем — о разговоре В. П. с нами перед лекциею у Никитенки, о Никитенке, о политике несколько, о 3 № «Современника», который Вас. Петр. принёс,— там была статья об университетах, где говорится, что разврат не в сочинениях древних, классических писателей можно почерпнуть, а разве в сочинениях Виктора Гюго и ему подобных[298]. Вас. Петр. спросил, что ж писал этот Виктор Гюго и что за особенная развратность в его сочинениях? Я и пустился толковать о В. Гюго, рассказал, что знал о его драме Marion Delorme и Лукреции Борджиа, сначала о М. Делорм: сказал, кто такая была она, что любовница Людовика XV, когда он [был] старик, гадкий, что это была женщина просто развратная, негодная, просто негодная, не то, напр., что первая любовница Людовика XIV графиня Ла… (позабыл фамилию, та, которая пошла в кармелитки)[299], которая любила короля, была женщина, заслуживающая всякого уважения, достойная, весьма достойная, а это была просто беспутная жен[257]щина. Всё это рассказывал я подробно, как знал, со своими суждениями, которые более, чем в отдельных фразах, высказывались в самом рассказе, в самом изображении фактов и ходе мыслей, как изображалась эта Делорм, этот l'Ange[300], лоретка, на самой низшей ступени, на которую может стать женщина,— и вдруг она в кого-то влюбляется, и любовь эта решительно преобразует, очищает её; одним словом, говорю я, основная мысль этого создания та самая, которая выражена в стихотворении Гюго же «Не насмехайтеся над падшею женой» и т. д.; передал по-своему содержание и смысл этого стихотворения и то, как нужен только луч солнца золотой, чтоб заблистать ей опять. Потом стал говорить о Лукреции Борджиа, что она была по истории, в каком веке она жила, какие тогда были нравы в Италии в высшем обществе, как она была полным воплощением их, наконец, что говорят о ней самой, о связях её с братьями и отцом и, наконец, о том, как представляется она у Гюго. (О Делорм я вычитал в какой-то повести «Библиотеки для чтения», кажется, или нет, «Отеч. записок», переведённой с французского, где ещё молодой парижанин даёт эту книгу молодой женщине, та после сжигает её, чтоб не увидели у неё такую книгу, в духе Ж. Занда, а может быть и её повесть; а о Лукреции Борджиа, кажется, в «Телеграфе»[301], который брал у Левитова в Саратове, в критике G. Planche на эту драму.) Наконец, сказал: «Вот видите, основные мысли, как видите, в высочайшей степени нравственные и глубокие: истинная любовь очищает, возвышает всякого человека, как бы низко ни спустился он, совершенно преобразует его,— это Делорм. А Борджиа — зло носит в самой себе, своё наказание, своё мучение. Конечно,— говорю я,— эти мысли изложены пластически в сценах бурной вакханской оргии на сцене, так что большинство, пожалуй, и скажет, что это безнравственно, но в сущности это вовсе не то, и когда В. Гюго был бы безнравственным? Он весьма рано женился, потому что вот его сыну столько-то лет, тогда-то кончил он курс и был увенчан вместе с сыном Гизо, а он страстно любит свою жену и детей и сам прекрасный семьянин».
Таким образом говорил я, вероятно, более получаса, как обыкновенно заговорился, т. е. как-то разгорячилась голова и стал какой-то помешанный несколько, т. е. как после трубки или когда встаёшь, долго лежавши, когда кровь в голову, и между тем думал: «Верно я наскучил Вас. Петровичу». Когда я кончил, тут-то собственно и начался разговор, слишком для меня занимательный и волнующий, или лучше — щемящий моё сердце, но об этом после, а теперь сажусь есть, потому что должен, потому что поздно ворочусь: в 5½ час. уже ведь должен быть у этого Ната или Напа, как его зовут. Теперь ровно 12.
(Писано у Фрейтага в пятницу.) — Когда я кончил, он сказал: «Как я ошибался в вас,— я думал, что у вас воображение ничего [258] не раскрашивает, что вы смотрите на вещи положительно и холодно, напротив — у вас сердце горячее». Мне хотелось поехать по этой открытой мне дороге, объясниться, и хотя не вдруг, но дошёл почти до конца. «Это так может казаться,— сказал я,— оттого, что я совещусь говорить об этих вещах, а уж что и говорить, как воображение моё расцвечивает вещи; ну, конечно, есть вещи (и я думал о любви к женщине в это время; он понял, о чём я хотел сказать, и после сказал об этом), которые бывают с другими в 15–16 лет, а со мною теперь только хотят быть, и, конечно, оттого, что позднее, будет только сильнее и хуже; но что касается, напр., хотя до славы, так нечего и говорить, как я тут далеко заносился воображением (и я, конечно, думал о своём perpetuum mobile), я думал о том, что уж нельзя назвать и славою, а я не знаю, как»… — «Да,— сказал он,— скажите, как же я думал, что вы слишком холодны и равнодушны к женщинам, а у вас сердце чрезвычайно любящее и так и готово вспыхнуть, ведь вы об этом намекали?» — «То-то и есть, что об этом». — «Скажите же, как вы были до сих пор? Что скажете о чисто физической стороне этой любви? Я думал, что вы слишком холодны и не знаете этого». — «Нет,— сказал я,— это началось во мне так рано, что не только удовлетворять нормальным образом, но и онанизмом было почти невозможно. Не знаю хорошенько, как именно рано, но в конце 15-го или начале 17 года, не знаю теперь хорошенько, я уж думал, что имею право подсмеиваться над теми, которые увлекаются этими вещами — у меня уже прошло и остыло большею частью». — «Ну, а ведь вам никогда особенно не нравилась ни одна женщина, особенно? не производила на вас впечатления?» — Я прямо не стал говорить об этом, чтобы не сказать ничего о Над. Ег., а стал объяснять, как это могло быть: «Вот видите, когда я жил в Саратове, во-первых, я решительно не знаком был ни с кем, решительно ни с кем, и должен сказать, совершенно не видел женщин; а потом ведь должно сказать, что я ведь слишком близорук, так что должно сказать, что я до самых тех пор, как надел очки, настоящим образом знал в лицо только папеньку, маменьку и товарищей, вообще только тех, с которыми целовался, потому что на полтора аршина я уже ничего не могу различить в лице. Вообразите, что я, напр., настоящим образом узнал Ив. Гр. только уж по приезде сюда. Так видите, мне не могла понравиться ни одна женщина, потому что я ни одну не мог видеть в лицо». — Я говорил это довольно подробно, так что говорил об этом с четверть часа. Когда я кончил, он сказал: «Да, вам предстоит ещё огромная деятельность на этом поприще… В самом деле, человек необыкновенно много живёт в то время, когда любит. Да, вот, в самом деле, когда я вспомню про свою первую любовь, про любовь к Катеньке Райковской… Ну, а остальные уже скверные, но всё-таки это самое счастливое время моей жизни». — И он начал рассказывать о своей любви к Катеньке Райковской; после, заговорившись, стал говорить и о других. Я слушал с тоскою сердца, напряжённым внима[259]нием и большим интересом, как по самому содержанию и потому, что это относилось к нему, а всё, что относится к нему, имеет для меня почти такой же вес, как и то, что относится собственно до меня. Что помню, то стану писать.
О Катеньке Райковской он рассказывал мне как-то раз прошлою осенью, когда он жил в Большой Офицерской, я на Вознесенском, в доме Соловьева, когда как-то он вечером провожал меня по Вознесенскому часов в 8. Вот что говорил об этом теперь:
«Когда я приехал» (куда — я хорошенько не помню, а должно быть в Курск, об этом должно спросить), «там я перешёл учить детей к полк. Райковскому, у которого была дочь. Кстати, должен сказать, что куда я являлся, везде у меня были союзницами женщины, врагами мужчины, но что сначала женщины везде меня ненавидели, и только мало-по-малу сходились мы с ними» (я вспомнил о княжне Мери и Печорине); «так и здесь, сначала я хотел оставить это место и именно потому, что она с явным неудовольствием смотрела на меня,— т. е. по наружности, конечно, соблюдала она все приличия, спрашивала о здоровьи, потому что там так принято, присутствовала при наших уроках, но явно было, что я ей именно не нравлюсь. Только уже много после и мало-по-малу это нерасположение обратилось в любовь, и как сильно она привязалась ко мне — это удивительно. И я также как любил её! Когда дело расстроилось, я хотел убить себя, и, конечно, убил бы, до того я был в отчаянии, но остановила мысль о маменьке и папеньке. И только под конец уже я стал бывать у неё ночью в комнате, только под конец, а то была всё чисто платоническая любовь. И как я бывал у неё? Можно было бы очень легко, потому что ключи от парадного хода всегда можно было достать, а как войдешь, так в коридор, который ведёт в её комнату — решительно бы спокойно и безопасно. Да нет, тогда я был трус и неопытен в этих вещах, поэтому делал так: выходил из комнаты на двор; там в доме в нижнем этаже был подвал, который не запирался и который был застановлен различными вещами небольшой цены, различным хламом. Я проходил посреди всего этого,— долго должно было идти по подвалу, наконец, подходил к лестнице, в подвал выходит погребочек из буфета с закрышкой (я не припомню теперь хорошенько, как называется это, но и у нас в Саратове так делают, напр., так у Фёд. Степановича), и вот тут должно было только поднять закрышку и влезть, и я выходил в буфет, а оттуда в её комнату. Удивительно, как привязаны мы были друг к другу. Катеньке особенно нравились мои глаза, и сколько раз она целовала их» (это, как она целует его в глаза и как говорит: «О, бог мой, какие у тебя прекрасные глаза» — особенно мне понравилось, как-то трогательно, и эта картина живее всего на меня подействовала). «Так у нас прошёл год… Наконец узнали»… (продолжение после, где знак) (писано в субботу). Чтоб не мешал Фрейтаг, так разговор напишу в другой раз, отметивши, что продолжаю 15-е марта, вторник, а теперь продолжаю [260] остальные дни, не внося сюда следствий этого разговора, которые напишу после вместе с его продолжением.
16-го [марта]. — У Ворониных всё не было урока, как и в пятницу 18-го. Из университета пошёл к Вольфу, где просидел довольно долго; после этого не был до этого дня, поэтому трое суток, поэтому больше, чем довольно давно уже бывало, расстояние между моими посещениями. Ныне зайду. Утром, после своей лекции, Никитенко представил мне Ната — 3 урока в неделю, о цене ничего — по-моему исчислению это около 30 р. сер. будет доставлять, потому 6 недель до начала мая, поэтому 18 уроков или 20 по полтора рубля сер., из этого можно будет 25, конечно, Вас. Петр. Что делал вечером? Да вот что: писал польские стихи, которые дал Срезневский, и читал «Современник».
17-го [марта], четверг. — Утром читал «Современник», писал стихи, наконец завтракал, потому что думал, что поздно ворочусь от Ната, с которым условился, [что] буду бывать утром во вторник, вечером в четверг и в субботу. Из университета зашёл к нему, но урока не было, а так посидели, и в 4½ был дома; условился, что буду давать по утрам в понедельник, вторник, четверг перед лекциями, и начнётся с понедельника, т. е. 21 марта. Он поступает учителем в гимназию и теперь живёт не слишком дурно, а как жил я, когда жил один, поэтому может несколько давать, но немного; о цене ничего. Когда пришёл домой, Ив. Гр. попросил вписать несколько (страницы 2½ в полстраницы шириною) по-польски из актов в записку о деле Карповичей. Сел, писал до 6, после пошёл к Вас. Петр., у которого до 10½, так что домой пришёл в 11. Толковали мало, больше играли в шашки и карты. Когда пришёл, Над. Ег. не было ещё, скоро пришла от своих. — У Вас. Петр. явилась кухарка, о чём он говорил мне и в прошлый раз, когда я был у него, т. е. в воскресенье, но тогда говорил он, что надеялся отделаться от неё, а её рекомендовала Ольга Егоровна. Он отдал мне «Débats», но не Бланки, которого у него теперь первый том, а раньше был второй. Про второй он говорил, что это ему занимательно показалось, потому что ничего не знал об этом до этого времени. Когда я был у него, приходил Ал. Фёд. и взял «Современник», о чём я и не знал тогда.
18-го [марта], пятница. — Вас. Петр. хотел прийти в субботу, но пошёл к Устрялову и у него писал некоторые вещи — слово папы Иннокентия, которое осталось у меня и мне понравилось. Здесь Воронин сказал, что урока не будет, и я как знал, что Ив. Гр. хотел не быть вечером дома, [то] просил Вас. Петр. не в субботу, а ныне. Хотел из университета зайти к Вольфу, но как шёл с Славинским, то не зашёл и хорошо сделал, может быть. Когда пришёл домой, читал польскую книжку Szatan i Kobieta, не эту драму, а приложенные к концу стихотворения, которые не слишком-то понравились, и мне показалось, что у меня развивается вкус, так что весьма хорошо вижу, что нехорошо и почему нехорошо, что или основная мысль пустая или надутая или моральная, школь[261]ная, или исполнена нехорошо и почему нехорошо, как это же самое и относительно стихотворений, которые переписывал — Swietezianka И Pani Twardowska — мне кажется, что я хорошо вижу, почему это не так. В 6 ч. пришёл В. П., просидел до 10. Я ждал его с нетерпением, потому что думал, что снова разговор будет как в прошлый раз,— так же расшевелит меня, хотя и знал, что это бывает не по заказу и желанию, а как придётся; и в самом деле, как-то не так хорошо клеился. Говорил он о себе, своих отношениях к своим несколько и снова об Антоновском, о том, почему ему не пишет: потому что боится, что тот всё бросит и отправится сюда и расстроит свою службу и доходы: наконец, потому, что могут прочитать письмо к нему писанное, потому что он неосторожен в этом отношении. Говорили об откровенности, он сказал, что с Антоновским не был откровенен, со мною больше, но не совсем. Говорил о том, что он ждёт сюда Стибурского, который едет помощником правителя дел в канцелярии здешнего генерал-губернатора; говорил о своих планах, о том, что должно держать экзамен, и я даже говорил, чтоб держал ныне, хотя сам думал, что поздно; он говорил, что с нетерпением ждёт Михайлова, потому что вместе, или во всяком случае, когда знаешь, что не один, готовиться гораздо лучше, и я сказал, что если так, должно написать ему письмо, спросить, что он думает; одним словом, он говорил о степени его необходимости и проч., решительно так, как думал я, между тем как я думал, что он вовсе не так думает. Говорил о том, что по камеральному факультету пугает его механика, что каково держать по камеральному, каково по юридическому, каково, наконец, по филологическому факультету. Итак, мне пришло в голову, что если не теперь, [то] в следующий год со мною; непременно должен его довести до того, чтобы он вместе со мною готовился и держал экзамены; но ведь это ещё год, а мне лучше хотелось бы, чтобы в этом же году. Звонок,— итак, оставляю, а штука с табаком, который думал заставить Ив. Гр. купить на свои деньги.
(Продолжение разговора с Вас. Петр.,— см. предыдущую страницу вверху,— который был в прошлый вторник.)
«Итак, узнали о нашей любви, и я принужден был удалиться. Она уехала в другой город жить. Боже мой, в каком я был отчаянии! думал утопиться, зарезаться, и только мысль о папеньке и маменьке удерживала меня от этого. Это была самая лучшая любовь моя. После этого уехал я в Екатеринославскую губернию, где стал учителем у помещика Балясного — это был поляк. У него было три дочери, все весьма недурные и все нечуждавшиеся меня, но средняя, Юлинька Балясная была лучше и милее всех. Вот с этою-то и завязалась у нас любовь. К моему удовольствию, у неё было уже проломлено, но я не думаю, чтоб она имела до меня с кем-нибудь дело, потому что она была слишком молода, но часто они сами себя портят. Наконец, и это узнали. Вот как: я уже вам говорил, что везде я бывал во вражде с мужчинами (потому что [262] затмевал их). Был один поляк, который раньше имел претензии на Юлиньку, а тут я решительно уничтожил его в её глазах, и он страшно на меня злился и подсматривал за нами. Раз мы поехали гулять через реку в лес на другую сторону. Когда все разошлись, и мы с Юлинькою ушли в лес, и хоть мы никого не заметили и не видели, кто бы мог подсмотреть нас, но всё-таки у меня тот час сердце предчувствовало, что что-нибудь вышло неладно. Он, каналья, в самом деле заметил и пересказал её отцу и матери. Как мы воротились и я поглядел на его лицо и на лицо её отца и матери, для меня всё стало яснее дня. Хорошо. Я вижу, что если я останусь, дело может кончиться плохо,— они, пожалуй, могут вздумать наделать мне неприятностей,— и тотчас решился бежать. Но во весь обратный путь домой я сохранял совершенное спокойствие и весёлость, так что не подал им никакого подозрения, что я заметил, что они знают. Как приехали, я в тот же вечер, пока не разъехались гости, и удрал. Идти обычною дорогою мне было нельзя, потому что могли догнать, поэтому я и пошёл пешком, не нанимая лошадей, потому что меня ведь кругом знали, к Антоновскому, который жил верст за 20, тоже на уроке. Должно сказать, что судьба всегда так устраивала, что Антоновский являлся тотчас там, куда я перейду. Я явился к нему, пересказал ему всё, оставил письмо Юлиньке, в котором написал, почему должен я оставить так вдруг — после я получал сведения о них через Антоновского». (Или я позабыл, это было о Райковской? кажется, что скорее об этом.)
«Наконец, вот третья история. Я жил в Курской губернии у помещика Мирного, у которого готовил двух сыновей в инженерный корпус; он меня ужасно любил, хотел всеми средствами помочь мне; обещался, как дети будут готовы, дать мне все средства жить в университете, и одним словом, если б до конца я выдержал, судьба моя устроилась бы решительно иначе; он был решительно такой кроткий, тихий, добрый; но и тут не обошлось дело как следует. Его жена, женщина уже немолодая» (как я сужу по его рассказу — 30–33 года), «довольно хорошая собою, страстно влюбилась в меня — уж тут не я был виноват. Я противился всеми средствами, но, наконец, не устоял, а надобно вам сказать, что и она, как я приехал к ним первый раз из города, ужасно была недовольна на мужа за то, что привёз такого неуклюжего, нелюдимого, как я — это-то сначала и отталкивало меня от неё. Я думал, что это развратная женщина, которая ездила и будет ездить на всех учителях и теперь недовольна мужем за то, что привёз ей не красавчика — нет, напротив,— я обижал её,— страстно влюбилась в меня, и в это время я уже был смел. Я с детьми жил через огромный двор, в особом флигеле, должно было переходить через весь двор, а ведь каждую минуту может кто-нибудь заметить, всё-таки я проходил; она жила на отдельной половине вместе с маленькими дочерьми, в одной комнате спали с ней две: одной было года 3, другой лет 6, и должно было не разбудить их — ведь дело опасное,— мы уходили в другую комнату. И странно, как неловки бывают эти жен[263]щины; никак не может скрыть ни любви, ничего; уж как я, кажется, говорил ей обо всём, как она должна вести себя, чтобы ничего не заметили,— нет, всегда в каждом слове, в каждом взгляде так и высказывает нежность. Раз я едва мог ускользнуть: мужу приснилось или показалось, что пожар, и он разбудил лакеев, поднял страшную суматоху, стал бегать по всему дому — а, может быть, он что-нибудь уже и подозревал, только я этого не думаю… У нас была поверенная — одна её горничная, после она была принуждена как-то открыться и другой, я её предостерегал от этого, но нет, не могла остеречься, и верно кто-нибудь из них проболтался, так что муж узнал и готовил страшное мщение. Боже мой, как рассвирепел этот человек, такой кроткий, который только, кажется, спал и ел! И что значит горе: он был удивительно здоровый, крепкий мужчина, а тут в несколько дней так осунулся, постарел, похилел, что страшно смотреть. Она написала мне, чтобы я бежал, потому что муж знает, и вот я в страшную ночь бежал». (Об этой ночи я уже раньше писал в этих записках[302] — было рассказано по другому какому-то поводу.) «Я ужасно негодовал на себя, что допустил соблазнить себя, убить этого кроткого, доброго, почтенного человека».
«Вот, наконец, перешёл я служить в Курске и Антоновский со мною; мы стояли вместе у одной родственницы священника Андреевского. У него была дочь лет 13–14, которую знали Анна,— или, как обыкновенно называли, Нюнечка,— в самом деле премилое, прекрасное существо, мы и влюбились в неё оба с Антоновским и сначала не говорили об этом друг другу, а после объяснились. — Так знаете ли, бывало, как скажет хозяйка, что будет у неё Нюнечка, мы сами не свои, ждём — не можем дождаться, и сердце бьётся, и лицо изменяется,— мы молчим и наблюдаем друг за другом. Не знаю, что теперь — если Антоновский в Курске, может быть, он теперь и женился на ней, потому что ей теперь уже лета. Только то, что ведь он горький пьяница, но это ничего, он может решительно перестать, если захочет, совершенно перестать, стать человеком решительно прекрасным во всех отношениях, это я знаю уже по опыту: когда он был в богословии первый год, он влюбился в одну девицу, и тогда в этот год его решительно нельзя было узнать,— человек был тогда влюблён, это я узнал уже после, а раньше я думал, что он решительно неспособен к любви. Эта любовь кончилась несчастливо: она ему изменила, и он впал в ужасное отчаяние. А первая моя любовь была, когда я ещё не…» — Ну, теперь буду собираться к Нату, а это допишу после,— теперь 9¼. У него должен быть в 10. Где будет продолжение, будет знак З — верно вслед за этим.
(Писано 2 апреля в 8½ утра.) Итак, вот две недели, как я не принимался за эту вещь, а стоило, между тем, потому что несколько различных вещей, которые, однако, мало имели влияния на сердце.
Запишу по дням: [264]
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воскр. | пон. | сред. | пятн. | воскр. | вторн. | четв. |
У Ната был только во вторник 22-го, в четверг ему было некогда, в субботу 26-го я позабыл; в четверг я сказал, чтоб у Фрейтага и ни у кого не были, не послушались, как мне показалось, потому что ничего не сказали, поэтому мне должно было готовиться к субботе. Я в четверг вечером (а утром был у Ол. Як., чтобы взять для Ханыкова книги «Отеч. записок», где «Письма об изучении природы»[303], а между тем взял другие книги, где Мартин Чодзльвит[304] и о Реформации[305], 5 книг 1844 г., вечером первую, где начало Жака[306], тотчас отнёс к Вас. Петр.). Вечером заходил к Ив. Вас. за латинскою грамматикой, его не было; я просил Вас. Петр, занести завтра — принёс в самом деле, но писать не хотелось, поэтому я и выписал было у Ciceronis De natura deorum, сказавши, что это отрывок из старинной проповеди, но когда пошёл, решил, что не буду у Фрейтага и ни у кого. Хорошо. Мы, третий курс, пошли наверх,— внизу остался болгарин Дмитриев, которого сочинение у Фрейтага,— вслед за мною, вдруг слышим, что он и Голубев сидят у Фрейтага, который пришёл. Лыткин говорил, что нужно дождаться, когда пойдут с лекции, и сказать выговор. Хорошо. Я ничего не говорил. Фрейтаг не стал сидеть, они ушли в комнату для студентов подле дежурной. Мы собрались в X аудитории и послали за ними Главинского, тот не сказал как следует, они поэтому не пошли; мы решили отправить депутацию сказать, им, что они поступили нехорошо, по жребию; говорили, чтоб одного, я сказал — двух. Написали билетики, подняли — нам с Лыткиным. Пошли мы, стали выговаривать, они объяснились, и кажется, что они были решительно не виноваты.
Потом я пошёл к Корелкину, где говорил о браке, что его должно уничтожить; сначала говорил более так, а теперь в самом деле убедился в этом отношении в вещах, о которых раньше думал, как думают люди старые. Оттуда к Вольфу, после домой. В воскресенье был у Вас. Петр., которому отнёс ещё две книжки, №№ 9 и 10, взял «Débats». Думаю, что должен начать говеть.
28-го [марта]. (Продолжаю это в субботу на пасху, 8 апр., ровно в 6 [час] вечера.) — В понедельник от Ната пошёл к Вознесению к часам, чтоб оттуда пойти к Срезневскому, а к Срезневскому вот зачем: во вторник 22-го, после Никитенкиной лекции, он подошёл ко мне, когда я шёл мимо дежурной; мы вышли к окну перед входом в аудиторию, и он сказал, что у него есть для меня работа и довольно занимательная — делать выписки о Сибири для Булычёва[307], по 40 р. сер. в месяц. Я сказал, что весьма рад и благодарен ему. «Хорошо,— сказал он,— я переговорю». [Не] застав его, он сказал, что не виделся, и дал мне записку, чтоб я сам сходил — это на Английской набережной, подле Румянцевского музея, его дом — хорошо. Вечером пришёл Вас. Петр., чтобы быть, у Залемана, я вместе с ним пошёл, чтоб оттуда и к Булы[265]чеву. Залемана ещё не было дома, поэтому мы в Пассаж, где до 6 часов. Оттуда он проводил меня до угла Адмиралтейства. Булычёв спал, поэтому я во вторник должен быть. Когда пришёл к Залеману, его не было. Я пошёл домой и разошелся с Вас. Петр., который дожидался в Пассаже. Измучился весьма.
29-го [марта]. — У заутрени не был, к Булычёву — живёт весьма хорошо, гораздо лучше Ворониных, поэтому богаче, чем я думал, должно быть, тысяч сто дохода. Должен был несколько времени (минуты две-три) дожидаться в сенях, говоря по-нашему, где швейцар,— это показалось решительно ничего; взошёл, поговорил, решительно всё холодно и ровно, нисколько не билось сердце и не смущался. Он сказал, что привезет из Сената их, Полное Собрание Законов, чтобы я зашёл в 3-м часу. Я пошёл к Корелкину, тот в церкви; я в церковь, оттуда к нему, посидел до 2 почти; говорили о Державине, которого ругал я. Оттуда взял 3 тома, тащить было ужасно тяжело, нёс до угла Исаакия, оттуда поехал на извозчике за 20 к. сер., но должен был отдать 25, потому что не было меньше. Два первых тома он привёз и хронологический указатель. Я приехал домой почти в 4 часа; вечером просмотрел почти Уложение, хотя должен был выходить ко всенощной, у которой не был почти всё-таки; к Ханыкову, который, как сказал мне вчера Толстой, с которым встретился я на Невском, в больнице Маргулеса,— нет там. Я пошёл к Ал. Фёд., у которого прочитал дело о письмах дьякона Черницкого — умный и благородный человек.
30, 31 [марта], 1 апреля. — Был или после часов, или после вечерни у Срезневского и всё не заставал, так что под конец подумал: или рассердился за что-нибудь, или (!! с чего) жена родит. Так как почти не был в церкви, то совестно было причащаться, я и вздумал только исповедываться, а не причащаться; хорошо, так и сделал. В четверг [был] у ранней обедни и не причащался, на душе ровно ничего. В пятницу почти кончил совершенно пересмотр, и оставалось только сделать окончательно употребление.
В субботу, 2-го [апреля], получил 25 р. сер. себе, 15 Любиньке, но отдал ей 20, Вас. Петр-чу назначил 15, себе купил шляпу новую и гадкую за 2 р. сер. в Гостином дворе — мерзкая — и перчатки. Даже в этот день, бывши у Вольфа, выпил кофе как обыкновенно со сливками.
3-го апреля. — Пошёл к заутрене, собственно для того, чтобы не стали дивиться и говорить, к Пантелеймону, чтобы быть в алтаре. Там Славинский позвал к себе; у него был племянник с женою — нехороша собою, хотя другому понравилась бы: это я считаю важным развитием вкуса. В пятницу и на пасху после обеда был у Вас. Петр. На пасху Над. Ег., так как была одета, весьма понравилась, немного походила на прежнюю, и лицо показалось таким молодым. Писано это всё 12-го числа, в 10–10½ час. вечера.
Во вторник на пасху утром был у Срезневского, не застал его, [266] поэтому пошёл вечером — нет снова (спал). Я пошёл дожидаться к Branger'у, после к нему и убедился, что в самом деле не заставал раньше его дома. Он толковал со мною с четверть часа, и когда я сказал, сколько стал бы работать, он сказал: «Если так, я возьму вас помогать мне».
5-го в среду утром был у Вольфа, где просидел до 3; когда воротился, были у нас медицинские саратовские студенты и оба лучше Пелопидова, так что мне понравились, особенно другой, не Надеждинский, а другой. Но вечером со мной сделалось несколько жару, и поэтому я не весь решительно вечер писал, хотя хотелось скорее кончить; после до воскресенья была горячка, в четверг и пятницу — весьма сильный жар, ломило кости; я лежал на Любинькиной кровати и всё пил ром, вино и пунш, в два дня эти выпил больше бутылки рому и полбутылки хересу и от силы болезни чувствовал от рому, который иногда пил по две рюмки враз, только освежение в голове, которая несколько была тяжела. В четверг был Вас. Петр. после обеда, в субботу снова. Ал. Фёд. принёс «Débats» до 3 апреля и взял прежние, принесённые Вас. Петр., который был поутру.
В воскресенье, 10-го, хотел идти к Вас. Петр., но не пошёл, главным образом оттого, что была скверная погода.
11-го был в университете, обе лекции были, хотя я думал, что Нева пойдёт,— нет ещё, стоит и, может быть, долго простоит.
Ныне, 12-го, утром писал письмо своим и дописал Булычёву. Ошибся временем, думал, что должно быть к двум в университете, и было опоздал к Куторге. В университете решился с нынешнего дня прекратить лекции, т. е. перестать бывать на них.
Завтра утром буду у Булычёва, оттуда к Вольфу до 3-х, оттуда домой дожидаться Вас. Петр.; если его не будет, то в 7 к нему. Что-то будет у Булычёва?
И вот я не писал снова целых полторы недели. Начинаю новую тетрадь 22 апреля, в 9 ч. 50 м. вечера.
Николай Чернышевский
Дневник 1849 года, № 2. С апреля 13
Начал писать 22 апр. в 10 час. вечера.
У Булычёва должен был несколько времени дожидаться в швейцарской снова, потому что у него был ювелир. Конечно, это было неприятно, но я как-то холоден и не чувствовал ничего, потому что ведь это не я, а моя одежда, и то, что пришёл пешком. Булычёв нашёл образец Собрания (я написал слово ссылка) весьма хорошим. Сказал, что статьи, которые не относятся к колонизации Сибири, должно выписывать как можно короче; [сказал], чтоб я был на другой день в Сенате сменить книги — мне должно было кроме [267] этого быть и у Ната. От него к Вольфу, у которого выпил чаю, кажется, и видел Константина Черняева. Должно быть, в этот же день был у меня Вас. Петр, и спросил об этих выписках, или нет — раньше; во всяком случае, когда я пошёл провожать, я сказал ему свои мысли о том, что могу передать половину ему, а после он сказал, что пожалуй и всё. Это меня облегчило; вообще я хотел объясниться с ним решительно, но не высказал решительно, а только полунамёками и обиняками, но всё-таки довольно порядочно — слабый характер: точно то же, как, бывало, маленький — хочется сказать, а с языка не идёт (нет, этому объяснение другое несколько).
14-го [апреля], четверг. — Ната не было дома; я подождал его, потому что должно было. Отнёс I и II томы, несколько времени дожидался в Сенате, но почти тотчас явился Булычёв, и я вместо этих взял три следующих тома. Чиновник, который заведует этим, Ильин, сказал, что будет отдавать мне и одному, когда я стану приносить бывшие у меня,— это хорошо, лучше, чем хотел Булычёв присылать с курьером, потому что то требовало бы издержек. Стал писать III том, после передал Василию Петровичу IV и V, которые теперь он уже кончил.
15-го [апреля], пятница. — Ничего не помню. Был вечером у Славинского, взял польские песни и Фукидида с латинским переводом. Был у Иванова.
16-го [апреля], суббота. — Был у Ната, он был болен. Вот в этот-то день был у меня утром Вас. Петр., которого я позвал нарочно для решительного объяснения о Булычёве. Мы ходили вместе к Иванову; после через Пассаж прошли мы, чтобы мне купить бумаги.
17-го [апреля], воскресенье. — Не помню, что было в этот день.
18-го [апреля], понедельник. — Тоже. Вас. Петр., кажется, тоже был у меня. В один из этих дней был у Раева — нет, раньше, должно быть, в пятницу, и занял у него 3 руб. сер.
19-го [апреля], вторник. — Вечером был у Василия Петровича и позвал его к себе в среду, чтобы вместе идти к Залеману, чтоб взять у него для Раева Литературный Сборник, приложение к «Современнику» и ещё потому, что утром был в Сенате, отнёс (стальных перьев нет, поэтому начинаю писать простыми) туда XLI том (указатель) и взял вместо него ошибкою VII, а не VI (о чём несколько времени, идя из Сената, и беспокоился, потому что расписался в получении, хотя знаю, что из этого никаких неприятностей быть не может,— такой робкий характер, что гадость!) и относил было Булычёву…[308] тетрадь, в которую переписал выписки из первых трёх томов (III не совершенно кончен), всего 18 листов (3 тетради из 6 листов) и 228 выписок, но его не застал в Сенате, поэтому решил в среду утром отнести ему на дом и думал там [268] определительнее переговорить с ним, может быть получить деньги, которые отдать Вас. Петр.
20-го [апреля], среда. — Булычёва не застал дома, оставил тетрадь швейцару, а сам отправился за письмом, которое ещё не получил, но сначала зашёл к Корелкину — его не было дома, а были Попов и Дозе. Я с ними посидел до 2½ час, всё смеясь довольно весело, так что почти не чувствовал своей пошлости; смеялся большею частью над Корелкиным и тут же я переписал вендскими рунами (по алфавиту у Воляньского, которого сочинение было у Корелкина) изречение, которое сказал Попов: славянские языки (суть) ключи от нужника, и прибавил к этому рассказ о том, как эта надпись (которую подписал я фамилиею Востокова) из IX века очутилась у Корелкина — рассказ библейским языком, подражание рассказу в «Kladderadatsch»[309], перепечатанному в «Neue Preuss. Zeitung»[310], о столпотворении вавилонском — о построении Германской империи; этот рассказ состоял из 13 стихов и начинался так: «Бе муж благочестив и бояйся бога и любяй славянские наречия зело. 2. И бысть речено ему духом святым не видети смерти, дондеже истина о славянских языцех приидет в мир», и т. д., что отверзлись небеса, когда он читал Остромирово евангелие[311], и ударил его по голове камень. Когда он пришёл, все увидели, что к этому камню привязано это писание, и не могли прочитать его. Тогда голос с неба сказал ему: «Иди на Васильевский остров в 7-ю линию к рабу моему Корелкину, и той ти прочьтет. И он пошёл, и как Корелкин прочитал, ужаснулся зело, было бо писание похабно зело, и иде к Чернышевскому и уби ѝ ножем». — Оттуда зашёл к Вольфу, в 4 воротился домой (да, в воскресенье и понедельник утром был у Олимпа Яковлевича, чтоб переменить книги. В воскресенье было нельзя, поэтому и в понедельник, и взял вместо 3 (он прибавил своих 2) 6 книг, так что всего теперь у меня 8 №№ «Отеч. записок», и их более всего я читал). После обеда пришёл Вас. Петр., посидел несколько времени, и вместе отправились к Залеману. На дороге попался Раев, который сказал, что Черняев даёт уроки истории у Чистякова, теперь болен корью, поэтому предлагали ему, он не может и верно уступит мне — верно, поэтому чтобы я зашёл к нему в 10 час; хорошо. Залеман сидел за фортепьяно за уроками, поэтому мы пошли в другие комнаты, где они занимаются во время экзаменов, к Галлеру. Туда Славинский принёс Куторгину программу. Переписавши её, мы вместе с Славинским вышли, он домой, мы в Пассаж, чтоб подождать, когда кончится Залеманов урок. Раев, побывавши, где ему нужно было, воротился, встретился со Славинским, который сказал ему, где мы, и нашёл нас в Пассаже, и решительно сказал, что уступает мне, чтобы я сейчас отправился к Черняеву; хорошо. Поэтому мы тотчас пошли; заходили к Залеману было, но урок не кончился ещё, и, не входя, пошли к нам, где напились чаю, и я довольно много кричал с Ив. Григ, о недействительности наказаний к предупреждению преступлений, о чрезмерной и глупой жестокости их, [269] и т. д. — После этого пошли вместе отыскивать Черняевых квартиру. — (Подали ужин, и допишу в следующий раз, конечно, завтра, потому что снова пришла охота писать.)
Продолжаю после ужина (11 час. 8 мин.). — Вместо Нарвской части мы пришли к одному из Нарвских кварталов, который ближе к Обуховскому проспекту, долго ходили по домам, перебулгачили пропасть народу и не нашли. Оттуда пошли к В. П., у которого просидел я до 10¼, когда воротилась Над. Ег. от Самбурских. Это меня почти нисколько не расстроило.
21-го [апреля], четверг. — Утром к Александру Фёд., расспросил лучше о положении дома Черняева. Он сердился на меня, но сказал при уходе, что там есть одна хорошенькая… Хорошо, посмотрю,— кто, и сердце как-то более переменилось, но и в среду уж, как воротился от Вас. Петр, (до этого времени не был одинок, и нельзя было думать), уж как-то думалось с удовольствием о том, что буду давать уроки девушкам 16-ти лет, уже взрослым, которые могут понимать и у которых можно отличиться, но так как не был уверен, что согласится Чистяков, то мало довольно занимался этим. — Хорошо, отправился к Черняеву; тот лежал, сказал, что очень рад. Я посидел у него от 10 до 11 почти и пошёл к Чистякову, который живёт на углу Ивановской и Кабинетской в 150 саженях от меня — это-то хорошо, что так близко. Пошёл, не заплутался и прямо нашёл дом, никого не спрашивал,— впрочем, это было и легко, потому что надпись «Пансион». — Хорошо, вхожу. После уж, теперь ложусь спать. 11¼ час.
(Писано 23, в субботу, 10 час. 20 мин. веч.) — Михаил Борисович — так зовут Чистякова — принял весьма ласково и просто, т. е. с тою простотою, которую, как кажется, он с любовью придаёт себе и своим словам и движениям. Когда я сказал, что я вместо Раева, он сказал: «Что ж, я весьма рад»,— и только всего. Я просидел у него с ¼ часа; говорили о предметах серьёзных, Синоде, духовном управлении, реформах, политике. Он говорит лучше, чем я думал, судя по его книжке, но что человек ограниченный — это что и говорить, но как кажется (конечно, не забывая себя и весьма ловко умея обделывать свои дела) добрый. Мне он нельзя сказать, чтобы понравился, но решительно ничего, даже лучше, чем ничего, туда и сюда; только не нравится, как он делает губами, когда говорит, выпячивая и вместе сжимая их — это придаёт какой-то глуповатый оттенок; он принадлежит к породе Ал. Фёд. в том отношении, что говорит о себе много,— однако, так делает большая часть людей,— т. е. рассказывает события своей жизни, так что я могу уже написать 3—4 страницы «Отеч. записок» его биографии.
Когда пришёл домой, пришёл Раев, сказал, что там есть одна весьма хорошенькая, «смотрите, не влюбитесь». Это меня несколько задело. — Что, в самом деле? Разве от меня долго этого ждать? Ведь я жду только первого повода, первой возможности и врежусь, и сердце этим стало шевелиться: в самом деле, я чувствую боль [270] или приятное чувство в сердце, в физической части тела, как, напр., чувствую это и в наружных частях тела и в половых органах, и т. д. Вечером читал «Отеч. записки», и воображение моё несколько разыгрывалось при мысли, как я стану читать перед этими девицами, как я увлеку их, займу, как покажусь им умнее и интереснее всех других; должно говорить о средней истории — и у меня в голове бродит, как я буду говорить, напр., о книгопечатании, реформации и т. п. Читал, и всё в уме вертелись эти мысли, как вертятся и теперь.
В пятницу в 10 час. я должен буду быть у Чистякова на уроке, поэтому я, как воротился от него, сходил в баню, вечером пошёл к Иванову, чтобы оттуда пойти постричься и даже думал побриться, но когда посмотрел в зеркало, увидел, что ещё не стоит: это всё для того, чтобы явиться в порядочном виде перед ученицами.
22-го [апреля], пятница. — В 9-50 вышел из дому, ровно било 10 у Чистякова, когда я пришёл; посидел с ним минут 10, пока приготовлялся, узнал его жену,— та самая, которую видел я у Иринарха, в чём меня заставили было усомниться слишком большие похвалы ей и её светскости и проч. Она решительно ничего, только, мне кажется, глаза что-то походят на глаза Норманской (которую, между тем, я не видел уже лет 8, да и раньше видел, конечно, плохо), так как-то неприятно. Я был решительно холоден, сердце ровно нисколько не билось, решительно ничего, вовсе не то, что когда один и когда бродят в голове мысли; а тут решительно без всяких мыслей и всяких образов и решительно ничего, решительно не думаю робеть или конфузиться, но должно сказать, решительно становился как-то как бы машиною (это всё равно то же самое, как со мною бывает, когда, напр., едва не наедут на тебя лошади, так что едва увернешься из-под дышла — решительно холоден, так что и не думает дрогнуть сердце, хотя в самом деле опасно), находился в каком-то как бы забытьи или опьянении лёгком. Входим с его женою в класс, там сидят 5 девиц, двух не было (Рубцовой, т. е. племянницы Прасковьи Петровны Оржевской, и другой). Должно быть одну из тех, которые не были, называют хорошенькою, потому что этих всех нельзя так собственно назвать,— две, кажется, ничего, другие пожалуй и дурны — ну, да после лучше рассмотрю,— и вот я решительно спокойно, без всякого смущения (только несколько неловко положил шляпу свою, когда жена Чистякова сказала, что она меня беспокоит — положил на пол, а она подняла и положила на окно) стал слушать урок, как у них делают, и рассказывать вообще картины византийского быта — урок был о Византии. Так как было холодно, я шёл распахнувшись, то грудь вдруг стала как-то застывать минут через 10 или 15 после начатия класса. Через ¼ часа этак после [того], как я вошёл в комнату, голос изменился, стал глухим, я едва мог говорить, грудь потяжелела, но всё-таки я продолжал говорить, и скоро это прошло. Девицы смеялись,— мне показалось, что отчасти и надо мною, но едва ли, потому что смеялись не конфузясь или не [271] стараясь это утаить от меня, а то более исподтишка бы,— да если и надо мною, то для меня решительно не обидно бы, решительно нет, а напротив, я даже готов поощрять к этому с решительною весёлостью. На душе если теперь грустно — от других причин: урок кончился раньше, чем я мог ожидать. Я поклонился, как и входя,— снова неловко, разумеется,— но решительно ничего,— не думал краснеть по своему обыкновению.
(Писано 26 апреля, в 10 час. вечера.) — Когда я воротился домой от Чистякова, у меня был (нет, смешал — это было в четверг, что был Раев), у меня разыгралось снова воображение, и уж здесь не участвовала красота, любовь и т. д., а собственно удовольствие переливать свои взгляды, чертить картины, заинтересовать, сделаться в их глазах порядочным человеком. Но меня смущало несколько то, что, может быть, Чистякова, которая была постоянно при уроке, заметила (однако, я не думаю, чтобы могла) мою ошибку, когда я отнёс к убийству в Антиохии по приказанию Аркадия и [к] Аркадию анекдот, как Амвросий не допустил императора до причастия,— мне вспомнилось, что это был не Аркадий. Но всё-таки я ждал с большим удовольствием и даже, если угодно, нетерпением, следующего раза, т. е. вторника, т. е. нынешнего дня, и это жданье продолжалось до настоящего времени, и теперь снова жду пятницы тоже с удовольствием.
23-го [апреля], суббота. — Утром пошёл к Булычёву,— у него сидел писарь, писал доклад. Нет, я пошёл к Нату, как следовало — он, бедный, всё болен; я просидел у него с ¼ часа, и он взял мой адрес, чтобы, когда выздоровеет, обратиться ко мне. Жаль несколько бедного. Оттуда пошёл домой и читал «Отеч. записки».
24-го [апреля], воскресенье. — Утром пошёл к Булычёву — дома. Толковал довольно долго и без всякого результата для меня, т. е. решительно не стало определённее для меня, что делать. Он уходил на довольно долгое время с магазинщиком рассматривать бельё, которое должен был отдать шить, я дожидался и читал «С.-Петерб. Ведомости». Таким образом почти до 12-ти; под конец он предложил мне теперь же перейти к нему, дело для меня важное, может быть, весьма важное,— я сказал, что весьма рад, и он назначил для решительных переговоров среду, т. е. 27-ое завтра. Дал 30 р. сер., которые я вечером передал Вас. Петр. Тотчас от него отправился к Срезневскому сказать об этом предложении и посоветоваться. Тот был рад от души, так что чувство выказалось в голосе, каким он сказал: «я этому весьма рад, весьма рад». У него сидел какой-то господин, и вот толковали об изучении славянского и нашего языка. Срезневский более здесь являлся мне учёным и умным человеком, чем обыкновенно; я должен был просидеть около 1½ часа; он давал мне различные наставления, рассказывал при этом, как сам жил у одного вельможи в деревне. «Главное,— говорит он,— никак не должно показывать вида, что вы ему обязаны,— вы ему нужны, а не он вам». Срезневский слишком хороший человек, и должно быть я ему буду обязан не [272] одним этим, а вообще должно быть он готов сделать всё, что может,— действительно, весьма благородный и добрый человек. Да, напишу об этом деле — переходе к Булычёву.
Собственно говоря, я не должен был бы радоваться этому, а скорее жалеть и постараться отказаться или оттянуть вдаль, потому что ведь через это я лишаюсь возможности передавать работу Вас. Петр., и действительно, с этой стороны мне жаль и совестно перед Вас. Петр., что я пустые интересы, да может быть и не интересы, свои ставлю выше его интересов. Чёрт знает, а между тем, на душе как-то приятно, что перейду: возбуждаются какие-то надежды, какие-то мечты. Не знаю, постараюсь записать те, которые ясно представляются.
Сближение с этим домом порядочным введёт меня в круг порядочных людей, думаю я. А может быть, и не введёт, может быть, я уединюсь у себя в комнате. Нет, думаю, что сближусь, приучусь быть как следует, держать себя как следует, стану через несколько времени говорить по-французски, по-немецки, одним словом — стану, как должно быть. Ещё Срезневский сказал, что жена его весьма молода — «ещё ребёнок почти», ей всего 19 лет. Вот я и ожидаю, что миленькая, хорошенькая, умная и т. д., что я сближусь с нею, понравлюсь ей — т. е., само собою разумеется, не что-нибудь вроде любви и т. д., а, во-первых, буду иметь приятное общество, во-вторых, приучу держать себя как следует с женщинами, приучусь знать их и т. д. — о любви у меня в мыслях нет и помину. Конечно, я думаю, что скорее будет разочарование, что она вроде его, т. е. женщина — или ребёнок, как угодно,— весьма добрая, но ограниченная и не слишком-то привлекательная, а разве возбуждающая в душе идею о кислом или о человеке, поевшем кислого: он всегда делает такую гримасу, когда хочет сделать какое-нибудь хорошее движение лица, или даже просто это само собою делается, как он хочет сказать или вздумать что-нибудь по его мнению хорошее. Потом через это, я думаю, более сближусь с Срезневским (вот это не мечта, должно быть, а настоящая здравая мысль, которая должна исполниться), и, конечно, через это будет лучше по окончании курса, да и, кроме того, приятность; может быть, сближусь с кем-нибудь другим, напр., из литераторов или учёных, через кого можно двинуться вперёд, может быть, буду даже в состоянии доставить что-нибудь Вас. Петр., т. е. знакомство или возможность быть сотрудником «Отеч. записок» или «Современника», или уроки и т. д.,— это не знаю, верно ли, может быть, и верно, но едва ли скоро может быть, а разве через 3—4 месяца. Может быть, и сближение моё с Срезневским может быть ему полезно. Наконец, мне льстит перспектива учёного труда и т. д. — Я теперь уже думаю, что почти весь он будет принадлежать мне, что ему будут принадлежать только топографические сведения и цветки реторики,— имя мне всё равно, моё или его, но во всяком случае моё сотрудничество не может не быть известно кому следует и должно доставить мне некоторую репу[273]тацию, должно дать мне возможность идти по окончании курса по учёной дороге. Наконец, мысль, что я разделываюсь с Терсинскими, с которыми отношения мои были так невыгодны для моей чести; хотя, однако, с этой стороны тяготит меня то, что я, отнимая тягость у них, отнимаю у себя возможность давать Вас. Петр, столько, сколько давал раньше — потому что ведь понадобятся расходы на одежду, и сейчас надобно бы сюртук, без которого, может быть, можно (хотя едва ли) было бы обойтись. Но вот теперь мои мысли в этом отношении несколько переменяются: денег из дому мне будет доставать на одежду, а между тем эти 20 р. сер. будут поступать Вас. Петр. Конечно, и кроме того будет перепадать мне что-нибудь из случайных источников, напр., уроков, как у Ната и Чистякова,— одним словом, когда захочу или, лучше, когда захочется оправдать себя в подлом или всё равно эгоистичном поступке, всегда оправдываюсь, очень хорошо. — Итак, рисуется светская жизнь, блистание некоторое умом, знаниями, языком острым, остроумием, некоторая перспектива приятного общества, приятного существа, с которым несколько раз в день видеться и говорить, некоторые виды на обеспечение будущности и т. д. — Наконец, дело выйдет гораздо лучше, чем когда бы я не жил у него, дело, т. е. его сочинение гораздо лучше, гораздо лучше. — Ужин, поэтому перестаю писать и сажусь. Нет, приехал Ив. Гр., поэтому я погожу, потому что неприятно мне сидеть вместе с ним, потому что он ужасно чавкает. Теперь 11 час. Вечером был у Вас. Петр., отдал деньги, сказавши, что у себя оставил, кроме этого, сколько следовало. Над. Ег. долго не было дома.
25 [апреля], понедельник. — Утром в 9 час. отправился, наконец, исполнить поручение папеньки в Детскую больницу, оттуда к Корелкину, оттуда в университет, где получил письмо (в половине 12), оттуда к Вольфу, где выпил чашку чая и досиделся до скверности, как иногда случается — захотелось на двор, т. е. вроде поноса, и едва успел зайти, как это случалось уже раньше, в дом, который подле, угольный, на углу Казанской площади и Канала, где Милютины лавки. Оттуда пошёл купить перьев, оттуда к Кораблёву, комиссионеру Детской больницы, куда послали меня, и который послал меня снова назад.
Вечером два раза был Ал. Фёд., оба раза ненадолго; рассказывал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д. — ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д., Орлова и Дубельта и т. д.,— должны были бы быть повешены[312]. Как легко попасть в историю,— я, напр., сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы.
26-го [апреля]. (Это писано 3 мая, вторник, в 9½ вечера или более). — Утром был у Чистякова, говорил о Норманском молении[313] и был несколько доволен собою, хотя не слишком, но ни[274]чего. Да, должно сказать, что…[314] первая больше понравилась мне во вторник, чем в первый раз: довольно хороша и полненькая, и кажется умное лицо, и мне приятно было бы читать для неё, и, однако, должен сказать, [что] если встречу её [то], может быть, и не узнаю. В четверг вечером (был у Ол. Як., который негодовал, рассказывая об этих подлецах, которые, напр., как Липранди, губят людей, раздражают массу для собственных видов; после просидел до 10 час. у Иванова) получил [письмо], что увидел, когда воротился домой. Вечером был у Славинского по лекциям, и как у него больные глаза и не мог читать, [то] вызвался быть у него на другой день.
27-го, в среду был у Булычёва, который сказал, что не успел обдумать, а в конце этой недели передаст свои условия Срезневскому, и чтобы я зашёл поэтому к Срезневскому на следующей, т. е. этой, неделе, во вторник. После у Славинского до 8, бывши по дороге у Иванова. Читал с Славинским книжку Куторги, прочитал всю.
28-го [апреля], четверг. — Утром был в Комитете Детской больницы. Оттуда к Черняеву до 1 часу; оттуда идя, стоял до 3 часов на Семёновском плацу, где ученье. Поздно домой, вечером к Ол. Як., оттуда к Иванову. Когда пришёл домой — письмо. Мне показалось — от Булычёва, обрадовался и щелкнул при Терсинском пальцем, живо вскрикнувши «а!» в знак того, что узнал; всё-таки не распечатал, пока не разделся, и т. д. Открываю — от Чистякова, что вместо меня взялся за Константина Ивановича и прилагает за 2 урока 4 р. сер. — Ужасно стало грустно, особенно этот вечер, да и на другой день, т. е. в пятницу утром, к вечеру менее, всё-таки было даже и в субботу это чувство: итак, я нигде не могу поладить своими уроками, итак, мой взгляд на то, как учить и что должно заучивать, что нужно ученикам, не годится; итак, если угодно быть как другие, должно переделывать себя (эта последняя мысль теперь только ясна, а то просто неясно мучила); ужасно тяжело было; а я с таким удовольствием развёртывался 2 раза с своими знаниями и понятиями и взглядами! Вот тебе и раз, лучше было бы, если бы просто более слушал, чем говорил.
29-го [апреля], пятница. — Утром сходил переменить книги,— нет, это было в субботу, а в пятницу дочитывал прежние, которые должен был отнести, и «Débats», да несколько прочитал Куторги, был у Вас. Петр., должно быть пришёл после обеда Вас. Петр, и взял одну из них (№№ 7, 9, 10, 11 «Отеч. записок» за 1845 г., потому что № 8 не было); до самого почти вечера субботы всё читал эти книги. Начал читать и с большим наслаждением читал «Теверино»[315]. Я не знаю, эта роскошная жизнь, разлитая во всем рассказе, это — я не знаю, как сказать,— что-то богатое, свободное, дух сильный, воображение творческое, чрезвычайно сильное, всё это как-то приковало меня, и у меня и теперь ещё мелькает Теверино в глазах и выведенные вместе с ним, но [275] только оттеняющие его образы: да, сильный, великий, увлекательный, поражающий душу писатель, эта Жорж Занд: все её сочинения должно перечитать. После этой повести остаётся у меня чувство, похожее на то, как если бы иметь прекрасную, любимую от всей души сестру и поговорить с ней часа два от души, прерывая разговор всякими братскими нежностями — какая-то духовно-материальная, но решительно чистая радость, светлость.
30-го [апреля], суббота. — Утром был у Ал. Фёд. рано; оттуда переменить [книги]. Вечером был Вас. Петр, (а не вчера, т. е. в пятницу). С вечера принялся несколько за Куторгу, так что было прочитано, хоть плохо, всего до воскресенья 5 страниц с 4-го билета, поэтому до 9-го или 8-го, да была прочитана книга Куторги; не хотелось приниматься, потому что думал, что успею в следующие два дня. Хорошо, и успел, и делал дело, совершенно не отрываясь, когда пришло время.
1-го и 2 мая — читал [лекции] Куторги; ходил оба дня в университет за письмом после обеда тотчас, но перевоза[316] не было, поэтому думал шутя, не будет перевоза и 3-го, всё-таки готовился. В воскресенье был Ал. Фёд., который уже знает о Чистяковском деле.
3-го [мая], вторник. — Утром встал в 5 или 6, нет, в 5 ч. 20 м., лёгши нарочно в 10; дочитал всё, что хотел у Куторги, переехал туда на катере, ужасно долго ехал, хотел и не хотел беситься, всё-таки не бесился, потому что не стоило,— должно быть, успею ещё. Вышел на экзамен последним, т. е. перед Главинским, который сказал, что он последний, а так случилось потому, что не хотел отбивать очереди ни у кого, хотя поднимался, чтоб выйти четвёртым, и пятым, и шестым, и седьмым. Всего было нас двенадцать. Мне достался из греческой 13—й [билет] (часто мне 13 выходит), из средней — об услугах Карла дома до коронования. Вышел решительно без робости, не как раньше, совершенно холоден (хотя должен сказать, что в аудитории не то что озяб, а не мешало бы быть потеплее, поэтому, посидевши несколько времени, стал подрагивать), потому что знаю, что ничего не может быть. Итак, во всяком случае, это хорошо, мало-по-малу становлюсь апатичнее в этом смысле, т. е. не робею и решительно всё равно. «Лисагора был,— сказал я,— как все греки, которые с персами бывали в сношениях, как бы сказать (интригант и пронырливый не приходило в ум)… да просто мошенник» — отчасти сказал я это и для хорошего словца, чтоб потешить Куторгу и других, да и себя. Куторга залился смехом, я также счёл обязанностью улыбнуться довольно широко, но холодно продолжал… «т. е. интригант». — Оттуда, как и вчера, зашёл к Вольфу (чай вчера). Когда пришёл домой, устал; погода гадкая, поэтому лежал и читал; после сидел и читал «Débats», после «Отеч. записки», а к Вас. Петр., как обещался, не пошёл,— лучше завтра, когда побываю у Срезнев[276]ского,— где, может быть, что-нибудь узнаю, хотя, может быть, ещё ничего и нет,— и в почтамте, потому что прислали деньги.
19-го числа [мая]. Писал в 9 час. вечера. — Итак, я не писал две недели. Напишу прежде всего об экзаменах. 10 числа был Срезневский, 17-го — Устрялов. Как у меня были «Отеч. записки» и «Débats», то я всё читал, шатался по кондитерским (собственно бывал только, кажется, у одного Вольфа,— у Иванова не хочу бывать почти: раз, когда я протягивал руку за «Отеч. записками», он положил на них локоть и сказал: «занята»,— довольно грубо, мне показалось, а главное, что ему, должно быть, кажется, что я мало беру у него), бывал почти каждый день и часто весьма долго. Бывал у Вас. Петр., хотя гораздо реже, чем прежде, бывал он у меня довольно часто, и время проходило решительно не за лекциями: к Срезневскому начал приготовляться в субботу, весьма мало; собственно готовился только два дня; в понедельник-вторник ночь не спалось до 4-х часов, собственно потому, что должно было дочитать записки. Несколько думал, что нехорошо приготовился, и было совестно перед Срезневским, но решительно нисколько не трусил, решительно нет; это мне приятно, что я становлюсь решительно холоден и не дрожу, а решительно спокоен, хоть приятно или нет, боишься или нет. Достался прекрасный билет, кажется 8-й что ли, о чешской литературе в древнейшее время, здесь о Любуше и Краледворской рукописи[317]; хорошо, пошёл, отвечал легко, ничего.
Да, должно сказать, что на другой день после Куторги, в среду, я был у него, застал там какого-то читающего публичные лекции английского языка датчанина, должно быть, Гасфельда, и должно быть просидел около часа, потому что завязался разговор (это было 4 мая) политический — о Дании и Франкфурте и Шлезвиге и венграх; Срезневский рассказывал несколько о Кошуте. Они стояли за Данию; Срезневский называл Франкфуртское Собрание — Шустер-клуб; «Кошут,— говорит,— ренегат во всех отношениях, желал гибели венгров»; я защищал, насколько, казалось мне, позволяло приличие, а может быть, и более, и, может быть, понравился Срезневскому, потому что он, когда я уходил, подал мне руку с какою-то сердечностью.
После Куторги снова принялся за «Отечественные записки», Вольфа и Вас. Петр., так что снова не готовился, откладывал до последних двух дней Устрялова. Да, мне прислали 25 р., 5 р. я оставил на сапоги, 20 отдал Вас. Петр., сказавши, что это от Булычёва. Хорошо.
15-го [мая], воскресенье. — Когда я просыпался, Любинька говорит мне, что им нужно денег. У меня было только 7 р. сер., и 75 к. сер. я отдал. Мне ужасно было совестно, да и теперь тоже, что я даром живу, так что неприятно всё. И сказала мне, что они ныне переезжают на дачу — это также неприятно: когда мне готовиться? Поэтому я тотчас отправился к Булычёву — нет дома, уехал смотреть дачу, приедет в 5 час. Я решился снова прийти, по[277]тому что думал, что, может быть, ненужно будет перебираться с ними на дачу. Оттуда пошёл, пообедавши дома, к Ал. Фёд., чтоб не беспокоили сборы, просидел до 5, после зашёл на квартиру узнать, уехали ли — уехали, и я снова к Булычёву. Он велел быть в субботу в 11 часов. Хорошо. Оттуда, зашедши несколько отдохнуть к Вольфу, пошёл на дачу (Малая Кушелевка, дача Роде) не по самой короткой дороге — ходил я в этот день, сколько ещё никогда, и всё-таки не ломило ноги, хотя была некоторая усталость. Я ходил всего: от Максимовича к Булычёву и назад около 100 минут, после к Ал. Фёд. 16 мин., оттуда домой снова 16, оттуда к Булычёву ещё 50 или 48 хотя, всего 180 мин. = 3 часа — и оттуда на дачу пришёл без ¼ 9, между тем как у Булычёва был в 6,— по крайней мере 2½ часа — итак, 5¼ часа, 32 версты. Напала тоска отчасти потому, что не мог надеяться приготовиться к Устрялову, но не это главное, я думал, что экзамен пустой, а главное — разлука с Вас. Петр.— каково? Тоска, тоска: вот я отделён от него, редко виделся, он не будет бывать у меня, и потом грусть вообще по городу, так что ужасно тосковал до самого утра Устрялова — целых полтора суток. На другой день всё готовился и приготовился весьма плохо, как ещё никогда, может быть, не был плох. Утром во вторник встал довольно рано, кажется, в 5 час, в 7½ отправился и всё-таки пришёл поздно.
17-го [мая], вторник. — Должно сказать, что меня озабочивали сапоги, которые одни и, думаю, весьма готовы протереться, а Фриц, у которого я был в воскресенье 15-го, сказал, что сделает не раньше, как через 2 недели. Итак, я думал, как бы сберечь. Наконец, решился идти в старых, взяв с собою новые, чтоб переменить в городе, а чтобы не видно было в худое белого носка, завернул правую ногу чёрным галстухом,— каково? Это меня утешило. Поехал через перевоз, шёл мимо Самсония, переехал к Летнему саду,— в такой ветер никогда ещё не ездил, хотя не слишком велик, конечно,— поэтому и отдал 15 к. сер. за перевоз из 30, которые были у меня. Устрялов уж экзаменовал и весьма строго; я должен был струсить, но не струсил, так как-то был в надежде, и в самом деле — второй билет: о славянах до основания русского государства; конечно, я здесь мог говорить без приготовления, и Устрялов сказал: «Видно, что вы занимались». Мне было совестно перед товарищами, напр., особенно перед Лыткиным, который получил тройку и которому он сказал, чтобы более занимался. Это меня развеселило: удивительное счастье или, как я думал, бог помог! Именно я так думал, потому что в сущности не только религиозен, но и суеверен. — Хорошо. Такого счастья ещё никогда не было! Мог получить тройку и держу блистательно — просто совестно! А между тем, рад, что отделался, слишком плохо был готов. Ужинаю и ложусь, потому что завтра должно раньше встать для Фрейтага.
(Писано 22-го мая в 11 ч. вечера.) — От Устрялова тотчас пошёл к Вольфу, оттуда через Гостиный двор к Вас. Петр., купил там пятикопеечный калач и съел. У Вас. Петр, посидел несколько [278] минут, может быть, с час, и пошли вместе — мне [должно] было быть у Раева, отнести книгу Черняева, зайти переменить книги у Крашенинникова, наконец, отдать Славинскому замечания на Фрейтага Лыткина, которые я имел глупость взять у него. Когда мы шли к Крашенинникову и оттуда к Ал. Фёд., я почти всё говорил о Жорж Занде («Теверино» и т. д. и т. д.). У Раева просидел с час. Я отпирал своим ключом его ящики, ища табаку: нашёл несколько. Вас. Петр, велел, чтобы я от Фрейтага приходил обедать к нему.
В субботу должен был я быть у Булычёва, поэтому решился ночевать в городе у Ал. Фёд. Хорошо. У Славинского говорил о Фрейтаге и несколько заговорился, так что отчасти и привирал. Особенно совестно было, когда говорил, что, например, моё из поэтов и писателей,— например, Горация, а они не указывали, что это занято,— сконфузился. Среду и четверг провёл почти ничего, кончил или почти кончил XVI том Собрания [законов], готовил Фукидида, читал «Отеч. записки» 1—4 №№ [18]47 г. и т. д.; было спокойно и ничего.
20 го [мая], пятница. — От Фрейтага и Вольфа пошёл к Ал. Фёд., чтобы взять «Германа» [318], оттуда к Вас. Петр. Надежда Егоровна снова понравилась довольно много, и довольно с тёплою любовью и участием смотрел я на неё, а когда Вас. Петр, уходил со мною, а она тосковала о том, что и она не пойдёт гулять, а Вас. Петр, было это тяжело, мне стало досадно почти на него, т. е. было бы весьма досадно, если бы не знал я, как ему тяжело его положение. Вместе с ним пошли к Черняевым,— их не было дома,— хорошо. Оттуда к Ив. Вас, у которого посидели с час, чай пили; он толковал мне о своей службе, и мне стало его жаль, в самом деле, жаль, не удается человеку или мучается человек. Оттуда к Вас. Петр. Над. Ег. ушла к хозяевам. Вас. Петр, этого не знал и досадовал, что нет ключа; объяснилось, принесли ключ. Просидел до 8, они проводили меня до квартиры Ал. Фед-ча, у которого был Ив. Вас. Посидели вместе до 9 [час], после я, заняв у Ал. Фёд. полтинник, пошёл к Вольфу. Утром к Булычёву — дома нет, должно во вторник в 10 час. — Меня это не то, что сильно оскорбило, а таки порядочно — говорит, чтобы быть, а между тем приходите в другое время, что это? Т. е. не оскорбление главное, это ничего, а то, что это показывает, что отношения неравны, что смотрит на человека, готового к услугам. Идя туда, взял в университете письмо: «Если вообще теперь могут мешать тебе, не оставайся там»,— хорошо. Когда я пошёл от Булычёва, у меня образовалась мысль, которой начало было положено тогда, когда мы вчера проходили с Вас. Петр, мимо пустой квартиры. Он показал и сказал, что предлагает Ив. Вас. взять её вместе, а теперь думаю: весьма может быть, что я не пойду к Булычёву, тогда буду жить вместе с Вас. Петр. Пришёл домой в 2 часа.
Воскресенье, 22 [мая]. — В это утро пришла новая идея о вечном движении, самая простая, самая простая, чрезвычайно легко [279] осуществимая, так что соблазняет, не сделать ли самому модель. Об этом после, теперь ложусь. Слава богу, который дал мне эту идею.
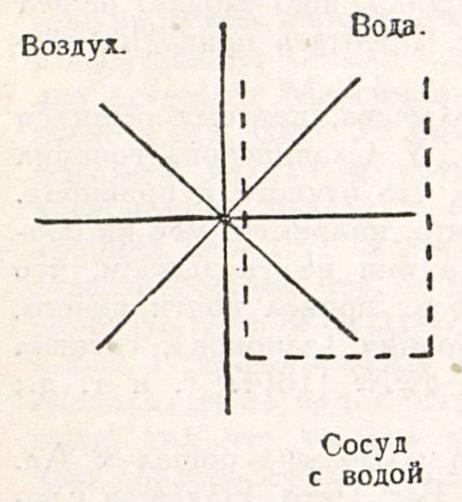
(Писано 23-го, в 10 утра.) — Вчера, в воскресенье утром 22 мая; проснувшись около 7½ час, я лежал ещё на постели с полчаса, до 8 или 8¼, думая без большого внимания или интереса о том, о другом, о себе, конечно, более всего, поэтому и о своём значении, поэтому и о своём изобретении — perpetuum mobile. Вдруг вздумалось: боже мой, да ведь сущность в том, что на одной стороне оси облегчены водою, на другой нет, колесо; поэтому лучше всего вместо этих подвижных поршней и т. д. сделать просто плотные массы, только сделать так, чтоб по одной стороне оси были они в воде, по другой в воздухе, так с водой (см. чертеж), т. е. сделать сосуд, в котором в одной стороне прорезка, герметически приноровленная к тем спицам и массам, которые будут входить в неё, так, чтоб они входили, вода не могла выходить из сосуда этою прорезкою,— это вещь весьма лёгкая, потому что так делается в атмосферической железной дороге, что поршень проходит, воздух не проходит, это будет так: края прорезки будут раздвигаться при давлении спицы и массы, сделанной чечевицеобразно, как маятник, и сходиться снова, когда
(продолжаю 4 июня в 10½ час. вечера)
спица и чечевица пройдёт. После вздумал, что лучше делать, т. е. выгоднее при одном диаметре, не отдельные чечевицы, а колесо со сплошным ободом; после расчёл, что ещё лучше делать колесо совершенно сплошное, круг, диск, без спиц, без прорезок. Только мысль: «что, как это не будет вертеться?» Но это вздор, ясно, это так только говорит неверующая и невежественная натура. Итак, жернов деревянный лучше всего входит в прорезку ванны или котла или кадки с перпендикулярными стенками; эта прорезка герметически прилажена к ширине и длине входящего в неё пояса круга (полукруга), так что вода не выливается, т. е. не тратится и своим трением при выливании не мешает движению колеса. Я не отчаиваюсь в скором времени устроить эту машину, потому что это слишком просто и может стать весьма недорого, можно сделать в 2—3 р. сер. — ах, если бы было можно!
Во вторник и среду готовился, но во вторник больше читал «Отеч. записки» и XII т. Беккера; собственно готовился в среду, читал теперь Кюнера о глаголах всё.
26-го [мая], четверг. — Экзаменовался последним, хорошо, ошибку сделал только одну — сделал от χρίνω (перемешал его в уме с χρατέω, прошедшее изъявительное страдательного [залога] [280] как должно, а в неокончательном не как должно, как ἔρησϑαι как-то у меня сказалось, хотя для самого ясно было бы, если б не непонятное затмение ума, которое, однако, сначала послужило в пользу, заставив не задумавшись сказать, как это будет в изъявительном наклонении. Везде пять, кроме [греческого].
Да, во вторник 24-го был у Булычёва, дожидался с час, пока он просматривал старое. Лакей сказал, провёл в кабинет. Как сели, и сказал: «Я перейду, если вам не будет стеснительно, а для меня всё равно это, но только если останусь и когда вы воротитесь, а то не стоит только на то время, когда вы на даче». Он сказал: «Ну, так подумаем, а теперь пока 30 р. сер.». Я говорю: «Пожалуй». — «А мы увидимся через две недели, я буду в Сенате». Как теперь у меня ещё почти ничего не готово, я решился не быть, а буду в следующий вторник. Мне показалось, что он недоволен моим тоном, или как это сказать, и я решился поговорить с Срезневским.
28-го мая, суббота. — Получил письмо, где говорят: «Если не устроятся дела, приезжай»[319]. Это не так хорошо, потому что как оставить Вас. Петр.? Решился переговорить с Срезневским, Булычёвым, порекомендовать Булычёву Вас. Петр., так, чтобы он не через меня, а прямо относился к нему, но этого всего не будет. Почти решился ехать, но не знал, как быть с Вас. Петр., поэтому, когда в воскресенье вечером пришёл, чтоб в понедельник видеться с Срезневским, пошёл к нему. Он проводил меня к Ал. Фёд., которого не было дома, и мы начали говорить. Говорили, говорили, он говорит: «Не деньги, это пустое, а главное,— я не знаю, как буду не видеться с вами,— теперь, когда не вижусь неделю, и то не знаю, как провожу, её, а то целых два месяца». Я сказал ему, что приеду в конце июля. После, разумеется, говорили, говорили всё более и более. Он спросил моего мнения о мне. Я говорил, говорил, наконец, сказал, за что я себя считаю, как необыкновенно высоко себя ставлю, считаю себя призванным к необыкновенным переворотам, и сказал ему, что считаю себя изобретателем машины, которая сама собою движется. Он говорит: «Во-первых, это, может быть, невозможно, во-вторых, мир более нуждается в освобождении от нравственного ига и предрассудков, чем от материального труда и нужд; более нужнее развить сердце, нравственность, ум, чем освободить от материального труда». И говорил мне, чтобы я был вторым спасителем, о чём он не раз и раньше намекал. Я не стал ни слова возражать почти против этих слов, однако не в виде возражения, а так, чтобы разговор не возвращался к вопросу о том, что важнее теперь, проповедывание нравственности и любви к человечеству или изгнание материальной бедности, нужды и т. д.,— сказал: «Да много ли успехов принесло учение этого существа, которое проповедывало нравственность и любовь? Вот 18 веков, а эти учения и не думали ещё входить в жизнь». И тут, хотя я этого не сказал и говорил немного, а более молчал, а говорил он, тут у меня более, чем прежде, ясно явилась мысль, что Иисус Хрис[281]тос, может быть, нe так делал, как можно было, т. е. contradictio in adjecto[320], бог, который может освободить человека от физических нужд, должен был раньше это сделать, а не проповедывать нравственность и любовь, не давши средств освободиться от того, что делает невозможным освобождение от порока, невежества, преступления и эгоизма.
После пришёл Чернявский, и Вас. Петр. ушёл. Мне было, конечно, неприятно, что я сказал о своей идее, об этом изобретении, потому что и он, во-первых, не верит, смешно, а, во-вторых, считает это ненужным. Что за глупость говорить о чём не следует. Всё-таки не слишком жалею, потому что ведь он никому более не может сказать. Конечно, я сказал только потому, что думал, что он поймёт всю важность этого и не отвергнет возможности, а он — это ничего, что отвергает возможность, главное — не видит важности этого, и, конечно, я не сказал бы, не проболтался бы, если б не сделалось нового переворота в этой идее за три-четыре дня, переворота, по которому я думаю не ныне-завтра видеть эту машину в моих руках. В среду, между прочим, перед Грефе экзаменом, или, может быть, в понедельник, я несколько часов провёл в том, что старался сделать круг и провернуть его посредине так, чтобы он не перетягивался ни которою стороною, и отыскивал, нельзя ли как устроить тот сосуд, в который он должен входить. Когда не нашёл такого сосуда, да и увидел, что не смогу прорезать так, чтобы вода не уходила, стал смотреть на падение воды из пруда[321], нельзя ли там сделать — провернул пробку, и тоже пробовал, держа её на игле, но не мог сделать сосуда, поэтому не была она одною половиною в воде, и вода течением своим иногда заставляла её вертеться наоборот того, как следовало бы.
Итак, я проболтался и хотел, если бы можно, поправиться, сказать, что это я говорил так, но чувствовал тогда и чувствую теперь, что разуверить его нельзя и что говорено это было в слишком серьёзном разговоре и слишком серьёзным тоном.
Итак, 30-го увидел Срезневского. Тот сказал, чтоб я поговорил сам с ним об этом, потому что Срезневский в самом деле как же может с ним увидеться! — Хорошо; я зашёл, во вторник будет, я пришёл домой. Во вторник получил деньги на проезд 75 р., был в Сенате, не застал Булычёва, был в конторе дилижансов с намерением взять билет,— сказали, что рано; я решился подождать до четверга, не будет ли чего, напр., может быть, будет попутчик, пошёл домой, и когда пришёл, спал и читал «Две Дианы»[322] до 9, после до часу почти готовился к Фишеру, всего не более 7 часов читал я его записки. В среду взял 50 р. сер. с собою, отправился, сам не зная, что будет, но в намерении ехать — только Вас. Петр, затруднял, как тут быть. Хорошо. (Так как теперь половина 12-го, то перестаю писать.) [282]
Июнь месяц
(Писано 6 июня, ровно в 10 ч. вечера.) 1 июня. — Дочитал Фишерово, когда переезжал через Неву. На экзамен вышел раньше других, третьим, кажется, и получил билет последний, 13-й,— о ригористах и т. д. Когда воротился, сказал Славинский, чтоб я у него обедал. Пошёл в Сенат к Булычёву, получить пашпорты,— нигде никого не застал. Пошёл к Славинскому, просидел до 6. Он сказал, чтоб я приходил прочитать Никитенкины лекции. Хорошо. Пошёл к Вас. Петр.; зашёл всё-таки раньше к Ив. Вас, у которого хотел ночевать. Вхожу — в дверях стоит Тушев; я зашёл к нему и просидел почти до 8. Очень был рад, что увидел его, в самом деле он лучше всех наших, кроме, может быть, Нейлисова, да и то нет. Он живёт с каким-то чиновником, тоже весьма бойким и должно быть умным человеком. Когда пошёл к Вас. Петр., не застал его дома. Идя оттуда, встретил Ол. Як., который велел спросить у Ал. Фёд., на что он Анне Дмитриевне, которая просила его к себе. Я зашёл и воротился ночевать к Ол. Як., но Ал. Фёд. пришёл к нему, и мы ушли вместе. Утром к Славинскому, в 3 ч. к Вас. Петровичу. Думал я, что непременно, поеду, посидевши у него; попросил проводить себя, и вот мы пошли мимо Владимирского и по Троицкому переулку. Я приставал к нему, чтобы он решительно сказал, могу ли ехать, нужен ли я ему. Он, конечно, не говорил прямо, я всё настаивал, спросил, наконец, когда ворочусь, обещается ли он мне, что я его застану здесь, он сказал, что не знает. «А если так, я не еду»,— сказал я. Он промолчал, я повторил это и, наконец, стали говорить о другом. Так я пошёл к Славинскому, вместо конторы дилижансов. Пошёл от него, когда кончил, к Вольфу, где весьма милы, разменяли 50 р. сер., воротился оттуда в 12, когда двери [были] уже заперты. (Это всё в четверг, 2-го.) Отдал Ал. Фёд. долг и лёг, условившись, что я зайду за ним. Я думал, это будет в пятницу, он — в субботу. Я сказал Вас. Петр., чтобы он принёс том, который у него, в университет, чтоб зайти вместе от Никитенки. Ждал его до 12, он принёс; вместо Сената, куда не хотелось, потому что думал в субботу привезти свои томы, поэтому что два дня сряду беспокоить? — к Ал. Фёд., чтоб он мог покурить. Посидел почти до 1½. Я пошёл за Ал. Фёд., забыл купить фуражку, увидел с Ал. Фёд., что не поняли друг друга, и я пошёл домой. В субботу или воскресенье хотел быть Вас. Петр., поэтому я отложил в Сенат до понедельника, а свидание с Булычёвым, которое должно было быть 7 числа, на две недели, или одну, когда будет довольно приготовлено. Хорошо. Отдал Любиньке 30 р. сер., другие 30 хочу отдать Вас. Петр., как бы получил их от Булычёва; остаётся почти, когда отдам Фрицу 5, почти только 5 р. сер., т. е. когда куплю фуражку, только 3½. Вечером и утром в субботу писал письмо домой, в котором просил прощения и говорил, что могу ещё приехать, если они напишут мне, в конце июня, но это пишу только потому, что знаю, что не захотят уже, а то откуда взять де[283]нег? Да, хотел видеться с Панаевым. Письмо это отдал отнести Марье в отделение почтамта. Она понесла в Большую Кушелевку, там его взяли, но сказали, что пойдёт оно уже во вторник; это меня огорчило: следовательно, оно не предупредит их, что меня не должно ждать, а придёт в тот самый день, когда надеяться будут меня встретить, т. е. 16 июня, как я написал в своём письме раньше,— это дурно. Я стал тосковать и эта тоска всё увеличивалась, что я нанёс такое, я знаю, сильное огорчение папеньке и маменьке, и бог знает, нужно ли было ещё его делать, так ли я буду нужен Вас. Петр., как мне кажется,— если бы он мог обойтись и без меня. Стал писать в воскресенье другое письмо, о Саше главным образом. Да, как жить и переписывать и сверять написанное Вас. Петровичем? — Решился для этого бывать в университете, а сюда не носить, теперь вижу, что и это отчасти можно. — Большею частью читал «Отеч. записки» и XII том Беккера несколько и переписывал выписки из Собрания законов.
5-го [июня], воскресенье. — Пришёл в 12 Ал. Фёд., просидел почти до 5, мне было так скучно, я ничего почти не говорил, почти не слушал, потому что нечего, а как сидел без дела, то и нашли мысли о моём поступке относительно своих и напала порядочная тоска, которая всё усиливалась и владела мною весь вечер; под влиянием её писал и письмо. Читал «Отеч. записки» и т. XII Беккера; несколько переписывал.
6-го [июня], понедельник. — Утром взял V и XVI томы и пошёл в гостиницу, дожидался дилижанса; один поехал, но был полон, просидел с 9 ч. 50 м. до 11 ч. 50 м., т. е. два часа, наконец, пошёл с книгами в контору — места заняты, поэтому я отложил до вторника и был почти рад этому, потому что увидел, что можно идти пешком, поэтому останется целых 25 к. сер. Дописал письмо, в котором повторил то, что писал в субботнем, думая, что оно, может быть, не дойдёт. Это писал ровно полчаса. Писал всё выписки, кончил V и почти кончил XVI томы, которые и отнесу завтра и там ночую.
(Писано во вторник, 14 числа в 10¼ веч.) — Итак, вторник прошёл так. В среду пошёл снова с двумя томами; пришёл, взял вместо них XVII и XVIII — к Вас. Петр.; у него мыли полы, поэтому я только положил их и пошёл к Анне Дмитриевне и просидел у неё почти до 1½; она поручила зайти к Ал. Фёд., сказать, чтоб он к ней, а не на дачу; хорошо. Его в департаменте не было, мне сказали, что в университете на диссертации; хорошо, пошёл, сказал ему; там Депп защищал по уголовному праву диссертацию на магистра, весьма глупо, кажется. Оттуда к Вольфу, оттуда вечером к Вас. Петр. Конечно, ночевал у Ал. Фёд. Условились, чтоб Вас. Петр, пришёл на другой день ко мне для того, чтобы проводить меня и быть вместе со мною на даче. Я взял у него VI том и листик его, но, заходя к Ив. Вас, потерял его, что увидел уже на другой день и чем было огорчился, но ничего,— хорошо, ночевал. [284]
8-го [июня], среда. — Утром пришёл Вас. Петр.; ему должно было в 12 [ч.] быть у Залемана, у которого хотел быть Орлов, чтобы переговорить об учителе на фортепьяно для сына. Пошли вместе,— дождик. Он к Залеману, я за фуражкою и сменить книги — там Ол. Як., который сказал, что 25-го срок билета его кончается, поэтому чтобы сдал к этому времени книги. Сказал об этом Вас. Петр., чтобы «Гамлета» приготовил. Зашёл к Залеману, глупость, завтрак; пережидали дождя, не могли, пошли вместе с Вас. Петр, обедать, посидели несколько, и к Вольфу. — Были прения 10-го и 11-го о Риме, когда демократические журналы взывали к оружию. Оттуда в 9 [час] воротился к Ал. Фёд., стал пить чай один и просматривать VI том с новыми чернилами, которыми пишу это. Кончил весьма скоро, часа 4, я думаю, или менее.
Четверг, 9-го [июня]. — Пришёл Вас. Петр, и мы отправились на дачу. Пришла Марья, говорит — Любинька не в себе; уговариваю её,— в самом деле, глаза странные; был доктор через несколько времени, ничего не сказал; после обеда сделались сильные припадки, вроде падучей болезни, как у Егорушки, и вместе с этим вроде истерики, кричала, становилась на колени и т. д.; более всего повторяла «Христа, Христа» и т. д. Мне было неприятно, что Вас. Петр. попал в такое время, и к тому же шёл дождь; я заставил его надеть галоши свои и сапоги, сам пошёл с ним в аптеку, где купил на 50 к. сер. слабительных порошков, деньги были мои — вообще в эти дни у Ив. Гр. деньги все вышли и я должен был истратить все свои, так что когда ныне ворочался, то нашёл у себя только 3 коп. сер. в кармане, да на столе 45 к. сер., которые не знаю, брать или нет. Вас. Петр, был тронут; мне было более смешно, что такая чинная, чванная женщина делает такие штуки — становится на колени, бегает и т. д.; я думал, что это кончится лёгкою горячкою. Когда ушёл Вас. Петр., я принялся писать и устраивать дверь в сени, чтобы Любинька не могла убегать.
10-го [июня], пятница. — Провёл дома, читая, переписывая и т. д. Да, в воскресенье или понедельник начал было писать эпизод из жизни Гёте (любовь к Лили) под названием «Пониманье».
11-го [июня]. — В субботу утром зашёл сначала к Славинскому, у него несколько посидел; он хотел купить какой-нибудь очень хороший атлас, это было бы хорошо. Я отнёс ему 2 или 3 части Гизо. Шёл дождь. Я взял у Ал. Ф. том Собрания законов (а другой был у меня), пошёл в Сенат — присутствия нет, и я должен был отнести их в университет, Савельичу, который принял, отнекиваясь. Оттуда к Вольфу, где [читал газеты] до 13 числа и депешу, что всё спокойно. Сердце несколько билось, но не так, как в январе и ноябре. Оттуда в 6 ч. к Вас. Петр., откуда в 8 ч. к Ив. Вас, у которого хотел ночевать,— нет дома; я пошёл, сам не зная куда: домой, к Ал. Фёд. или Ол. Як. — Вас. Петр, сказал, чтоб я остался здесь, я хотел идти домой; он проводил до пристани и простился, я снова с ним почти до Симеоновского моста, и говорили мы, говорили так, как почти никогда не говорили, изла[285]гая свои понятия о характерах своих «я» друг другу. Он говорил о своих отношениях к Над. Егоровне. Дело началось так: переходя по камням мимо Симеоновской церкви, он сказал: «Как досадно, когда толкуешь, толкуешь, а никак не можешь вбить в голову людям». Я сказал: «О ком вы это говорите?» — «Да хотя бы о Наде». Я стал защищать, как обыкновенно, наконец, сказал: «Если уж так говорить, то и вы сами отчасти виноваты в том, что она не развивается». И стал говорить: «К чему этот цинизм в выражениях о себе при ней? В самом деле, мне это не нравится»: «Стану ходить так-то (в Плюшкинском халате и т. д.)». — Он стал говорить, что иначе нельзя, и т. д. Мы друг друга мало понимали, т. е. я знаю, что он понимал не так, как я хотел сказать ему; должно быть и я его не так, как хотел сказать он; и он стал говорить о том, что главное это, конечно, оттого, что охоты нет, а охоты в нём нет почти ни к чему и т. д. Говорил много похожего на то, как я думаю о себе в этом отношении. Я сказал, что если это так, [то и] я так о себе думаю. Он стал говорить, что это неправда. Я сказал, что чтò он говорит о себе, то неправда, что это только так, при этих обстоятельствах он сдавлен, а ждёт только первой возможности вырваться из них и почувствовать снова и охоту, и привязанность ко многому. Говорил я во всяком случае весьма откровенно, так много, как нельзя более, хотя, конечно, не всё: ничего не сказал о том, что теперь у меня своя мысль — женитьба и perpetuum mobile, хотя последнее он знает и первое знает в общих чертах, да должно быть и в частности почти всё знает. Он сказал, что слишком мало чувствует охоты и говорить о чём бы то ни было, хотя бы это даже и занимало его самого, например, о литературе, политике. Я сказал, что почти не имею охоты никогда слушать, но говорить ещё [не] отстал от охоты.
Итак, почти в 11 поехал через Неву; со мною ехал какой-то человек с книжками «Записок Географического Общества»[323], заговорил о нём и сказал, что Голубков предлагает 20 000 руб. на перевод Риттера; странно, как мало кажется это нашим господам, мне кажется — довольно. У нас спали. В воскресенье я читал и писал несколько [из] Собрания законов. Любинька лежала без памяти. Вечером были Анна Дмитриевна и Александр Фёдорович, я проводил их отсюда, после зашёл в парк, где была музыка, но кончилось, и все разошлись.
13-го [июня], понедельник. — Иван Григ. снова не пошёл в Сенат, а мне дал письмо к Врангелю и Мих. Павл., в котором просил денег. Хорошо, я зашёл в Сенат, нашёл там Гедду, но не было Врангеля. Я в университет, взял книги, пошёл. Врангель попался, я сказал ему и отдал письмо. Ильина (которого, как мне показалось, фамилия Попов) не было, ушёл. Я книги оставил, сам к Вольфу. В последние оба раза вместо булки его пил кофе с 5-копеечным калачом, в последний раз не таясь. Оттуда к Славинскому, с которым толковал охотно о его апатии. Он говорил так, как будто не слишком чужд мысли о самоубийстве; я отклонял его и как сред[286]ство привязаться к жизни советовал влюбиться, а для этого верное средство бывать в обществе. Я говорил с охотою, потому что, собственно, это говорил советы ему, а высказывал то, что мне самому хочется, чтобы со мною было.
Оттуда к Вольфу, прочитал, чем кончилось восстание[324]: Ледрю Роллен, Консидеран, Boichot, Rattier и т. д. отданы под суд; этого я не ждал, я думал, не посмеют до Ледрю Роллена. Он поскакал в Лион; не знаю, удастся ли это восстание, скорее нет, но это всё равно, он уйдёт, здесь пойдёт реакция быстро и через год будет у нас антиреакция, и власть шутя не удержится и у Ледрю Роллена, а перейдёт к Луи Блану или Распайлю. Ну, да политические свои мнения и ощущения изложу в другой раз, а теперь только скажу, что, конечно, грустно, но так вообще, а не то чтобы мучился неуспехом восстания 13 июня,— ведь это только откладывается дело и, может быть, через реакцию ещё быстрее будет торжество, чем без реакции. Всё-таки интересно несколько знать, подавят ли Лион. Эх, если б с альпийскою армиею Ледрю Роллен пошёл на Париж — и война против нас, Германия к Франции приступила б, и нас назад,— эх, это бы хорошо! Но это я так говорю, ничего этого не будет теперь, кажется, но и этого снова не знаю, потому что не знаю духа народа во Франции,— а жаль Рима — подлецы[325]. — Это известия до 15 числа.
Оттуда к Вас. Петр., взял Собрание [законов], т. XVII, вечером к Ив. Вас. вместе с Вас. Петр., напились чаю; ночевал прекрасно и в этот вечер и особенно утром просмотрел этот том. Утром вошла убирать немочка, племянница. Мне было не хотелось быть, в шубочке Ив. Вас,— но она нехороша, т. е. нехороша, весьма нехороша нижняя часть лица, когда смотреть в профиль, и поэтому ничего, но всё-таки не хотелось бы, потому что мне хотелось бы уважать женщину и не заставлять её думать, что я не учтив или вообще вроде циника (т. е. как циник господин перед рабом, барин перед кухаркою) перед ними. Когда кончила почти, пришёл Вас. Петр. В Сенате насилу нашёл Ильина, взял XIX—XXI томы, XIX взял с собою; на дороге толковал с Вас. Петр., который звал к себе, я не пошёл. Он отнёс книги к тестю, потому что я не хотел, чтоб он нёс два тома. Когда перекорялись, догнал Константин Иванович Черняев, такой весёлый, милый, покричал несколько. Он хотел заехать за мною в четверг, когда поедет на дачу. Итак, простился с Вас. Петр. и домой,— это было во вторник, 14-го. Любиньке уже несколько лучше. Я вечером не спал, а писал и написал более половины XIX тома; думал, что если кончу в среду, буду в Петербурге, чтобы сменить книги, но знал, что не кончу, да и не сильно хотелось сменить.
15 июня. — Утром большею частью писал из Собрания законов. Вечером ходил в парк Лесного Корпуса, где видел Сидонского, Плетнёва с женой и дочерей Павского (которых, впрочем, собственно не видел). Когда шёл оттуда, меня догнал Ив. Гр. Я спросил, его, что доктор говорил о Любиньке. Он отвечал, что теперь со[287]вершенно ничего, через несколько дней она совершенно поправится, что это было от прилива крови и теперь её можно считать почти выздоровевшею, т. е. нельзя сомневаться, что болезнь миновалась. Завтра жду Черняева, который хотел заехать за мною, чтобы вместе быть в Мурине. В пятницу непременно должен быть в городе. Я думаю, придётся и ночевать там у Ал. Фёд. или Ив. Вас.
Глупости. Суета суетствий, всяческая суета…
(Писано это 25-го.) В субботу вечером не мог хорошенько рассказать всего в порядке, поэтому сделаю общий очерк и важные события.
Половину времени пробыл в городе, всё писал; другую половину — дома, снова писал. Обедал раз у Вас. Петр., в другой раз у Славинского, остальные разы не обедал, а у Вольфа съедал калач пятикопеечный. Ночевал обыкновенно у Ал. Фёд. Около 18 числа я был у Вас. Петр. вечером. Когда Над. Ег. хотела идти к своим, он всё не шёл и, одним словом, вёл дело так, что рассердил меня. Пошёл вместе со мною, но воротился, чтобы не слишком огорчать её. Дорогою оправдывался, я молчал. На другой день пришёл к нему с книгами или за книгою, он стал приставать,— обедал ли я. Я был голоден, а вчера ещё рассердился, и когда он пошёл со мной, я более молчал, был ужасно не в духе, а когда пришёл к Ал. Фёд., долго молчал; наконец я, собственно, чтоб рассердить Вас. Петр. почти, завёл спор о том, что он говорит неправильно «то», напр., хоть так: «Я эту книгу не читал, я-то хотел, да скучно». Он, как я и ожидал, стал спорить. Я не вёл вперёд спора, а только поддерживал его. Он ушёл при Ал. Фёд., когда после Ал. Фёд. ушёл, я тоже,— к Вольфу; оттуда пришёл,— пришёл Чернявский, после Лилиэнфельд, которого мне было несколько приятно видеть, и снова начал спорить с ним, более всего о браке, положении женщины. Я говорил в духе ультра Жорж Занд, но он в самом деле отстал и теперь думает, как говорит: «Назначение женщины любовь, между тем как назначение мужчины — между прочим и любовь». Просидел до половины 1-го, и я думал, я так ему надоел, как и Ал. Фед-чу (последнему несомненно, я думаю), хотя и от него зависело поддерживать разговор и более от него, чем от меня.
Ходил раз как-то (должно быть, 12-го в воскресенье, а может быть и нет) прогуливаться в сад Лесного института, собственно затем, чтобы посмотреть на женщин, а между прочим и затем, не увижу ли Никитенку и не заговорит ли он со мною. Ни того, ни другого, но видел Плетнёва с женою, которую не успел рассмотреть, а рассмотрел только ныне; ныне же видел и Никитенку. Он не заговорил со мною,— это на меня не произвело почти никакого впечатления, но только почти, потому что некоторое произвело. Да вот как это было. Вас. Петр. не пошёл проводить Надежду Егор, в пятницу или в четверг, не знаю уж, только так, потому что на другой день, когда я голодный пришёл к нему, я был расстроен, между прочим, и тем, что был у Панае[288]ва — а я был у него, кажется, в субботу, 18-го,— да, так, в субботу,— нашёл, почему: это потому, что в контору я заходил узнать, наконец, о своей статье, которую думал получить назад. Мне сказали — «справьтесь в редакции», вот теперь я собрался почти через две недели, а может быть, и более, может быть, и менее. Он сказал, что спросит у Некрасова и приготовит ответ; обошёлся, разумеется, без невежливостей, но так небрежно, что я не то что оскорбился, потому что особенно оскорбительного ничего не было, а ужасно как-то неприятно. Вот в субботу-то я и толковал с Вас. Петр. о грамматике и, признаюсь, Schadenfreude[326] какая-то была у меня, когда он занялся этим вздором: «Вот ты умнее других, а всё-[таки] и ты такой же, как другие, всё-таки тебя можно заставить быть не умнее других». — Итак, я оттуда пошёл в воскресенье 19-го поздно, в 4 часа, потому что дописывал книги у Ал. Фёд., пошёл и думал зайти к Славинскому; зашёл, потому что пошёл дождь; принуждён был посидеть до 6 [час.] и снова был скучен и весьма не в духе (может быть, даже отчасти этому содействовали и известия об окончательном уничтожении 13 июня и бегстве Ледрю Роллена и т. д., только едва ли,— я как-то холодно принял эти известия); оставил у него «Отечественные записки», но вместо того взял Хрестоматию Курца, которую дали ему в награду в гимназии и которую я видел у него во время прошлой вакации. Это хорошо. Как пришёл, начал читать, и воскресенье прошло большею частью в том, что читал это и «Отеч. записки», и главное, что я читал, был «Nathan der Weise»[327] — хорошо, только после напишу о впечатлении, какое производят на меня эти разговоры или эта драматическая форма в части своих произведений, а теперь иду ужинать, по моим часам ровно 11. Теперь дописал до того времени, которое я очень хорошо и твёрдо знаю в хронологическом порядке. Итак, до следующего раза. Вот я всё небрежнее и небрежнее становлюсь со своим дневником.
20-го [июня], понедельник. — Не знаю, что я делал, должно быть, читал «Отеч. записки» и писал что-нибудь для Булычёва (да, пишу я 29-го в среду в 50 минут 4-го часа, нет — после).
21-го [июня]. — Отнёс «Отеч. записки» и «Гамлета» (за которого опасался, потому что он не в переплете, а другой экземпляр, купленный Вас. Петр., потому что прежний потерялся) Крашенинникову. Оттуда пошёл к Вольфу, оттуда к Вас. Петровичу. В это время до следующего вторника я всё более всего писал и переписывал для Булычёва и переписал довольно много, но вдруг, зайдя к нему, услышал от швейцара, что его переводят в Москву. После видел его в Сенате; он сказал, чтобы я виделся с Срезневским. Я думал, что дело решительно расстраивается. Что делать? Кажется, говорю себе, единственное средство поддерживать Вас. Петр. — это писать в журналы. Хорошо. Допи[289]сал до 25 тома и переписал всё это, отнёс эти книги, но новых не взял, потому что дожидался, что скажет Булычёв мне через Срезневского. Я надеялся получить от Булычёва денег, которые нужны Вас. Петр. Итак, всё писал. Но вечером в воскресенье ходил снова в парк, собственно, чтобы видеть Никитенку (и не видел его) и женщин,— также не видел таких, которые бы того стоили. Переписано было к утру понедельника до половины XXIV тома. Поверять пришёл в университет, где встретил Дмитриева, который сказал, когда я выходил и встретил его на крыльце, чтобы я зашёл на выставку. Я пошёл, чтобы от нечего делать, а между тем мало-по-малу завлекся смотрением на женщин, так что пробыл там более двух часов, с часу до трёх. Обошёл в первый раз, но должен был воротиться к входу за книгою «Отеч. записок», которую нёс Вас. Петр., и тетрадью выписок к входу, и снова пошёл, собственно чтоб смотреть на женщин. Когда я был около того места, где были разложенные жестяные вещи, статуэтки и т. д.,— это так — нет, не умею сделать плана (иду обедать).
Продолжаю после обеда, выспавшись. — Наконец, в том месте, где были разложены хромолитографии с той стороны (весьма плохие), с другой — подносы жестяные, клеёнки, статуэтки, в том месте, где оканчивалась первая двойная галлерея и начинается особая комната с великолепными стеклянными, фарфоровыми, бронзовыми вещами (из которой ход вверх), я увидел одну девушку, весьма ещё молоденькую, должно быть, 16-ти, может быть несколько даже менее, лет: довольно высокого роста, по крайней мере, много выше Над. Ег., тонкая, весьма стройная, весьма белое лицо, глаза прекрасные, черты чрезвычайно правильные, умные, несравненно лучше всего, что было тут. Она была с матерью или тёткою, они шли весьма медленно, останавливались смотреть на всё; она мало смотрела, потому что в самом деле смотреть было не на что,— это уже весьма много говорило в её пользу,— равнодушно шла за ними без всякого кокетства; одним словом, мне показалась весьма хороша и я пошёл вслед за нею, то немного опережая, то немного отставая, и совестясь, чтоб она не заметила, и краснея в душе перед нею, а может быть и так. Это продолжалось сажен 10—15 и, я думаю, минут 5 или несколько более. У этих хромолитографий они дошли к тому месту, где стоял я, и она стала почти возле меня, но на меня не обратила никакого внимания, как и вообще шла весьма просто, не церемонясь и не кокетничая, одним словом, мне весьма нравилась и я бог знает сколько времени готов бы был ходить вслед за ними; но я, перегнав их, перешёл в следующую комнату и стал ждать их,— они не входят; я долго ждал, наконец, хотел выйти снова в первую галлерею,— мне сказали, что нельзя. Я снова остался ждать их. Долго я стоял и ждал тут, я думаю, больше четверти часа, но не понимаю, каким образом я пропустил их, или они воротились назад; и я наконец пошёл, чтобы выйти, и когда вышел, пошёл к Вольфу. Я весьма жалел, что ушёл так, не взглянувши в по[290]следний раз, не наглядевшись досыта от своей неловкости, глупости или от нерешительности,— должно было, несмотря на сторожа, выйти вон и посмотреть, что с ними, куда они делись. Оттуда к Вас. Петр., от которого в 10 [час.] пришёл домой.
28 [июня], вторник. — Должно было отнести письмо, и так как Ив. Гр. не пошёл, но должен был идти я, пошёл новою дорогою, направо от дома, сзади мыс[328]. Переходя тут ручеёк, нагнулся пить и потерял наконечник ножен шпаги; воротился искать,— мужик подал. Я сказал, чтоб он пошёл со мною до города, где я разменяю свой целковый, который взял у Любиньки. Шли, стали говорить, я стал вливать революционные понятия в него, расспрашивал, как они живут,— весьма глупо вёл себя, т. е. не по принципу или по намерению, а по исполнению, ну, что делать? Переехали мы вместе; у меня болели зубы, я купил табаку, зашёл вычистить к Ал. Фёд., в 2½ оттуда и около 4 был снова дома. Стали обедать, пришёл Вас. Петр., просидел до 9. Когда я пошёл проводить, спросил 2 р. сер. У меня от рубля оставалось только 54 к. сер., я ему всё отдал, не оставив себе даже чем заплатить за переезд, и сказал, что принесу ещё завтра или в четверг утром.
Среда, 29-го [июня]. — Читал «Современник» и т. д. и писал, и дописал для Булычёва. Шёл всё дождь, к 5 [часам] унялся, и я пошёл в город через Воскресенский мост к Славинскому, у которого просидел до 9 [час.] и надоел ему. Пошёл к Ал. Фёд. и у него дописал. После лёг спать; его не было. Ночью я горевал, что если не будет, как я буду с Вас. Петр. Пришёл, к моему счастью, я взял 6 р. сер. — 3 для Вас. Петр., 3 р. для того, чтобы на один [рубль] съездить в Царское увидеться с Срезневским, другой отдать Любиньке. — Итак, в 9¼ вышел, в 10 был у Срезневского, у которого просидел вместе с Дмитриевым около 20 минут. Говорил он о политике. Булычёв заезжал к нему на дороге, сказал, что он думает возвратиться сюда, поэтому хотел продолжать. Срезневский напишет ему, получит от него ответ, который должен быть с деньгами. «До того времени,— говорит,— продолжайте исподволь это». Оттуда к Вас. Петр., которому отнёс [за] 10—24 июня «Débats», через несколько минут встал и ушёл, сказавши про Булычёва; чтоб отдать 3 р., должен был вызвать его,— так глупо. Оттуда к Вольфу, чтоб отдать 20 к., которые был должен, и, конечно, должен был взять ещё, так из 3 руб. осталось у меня только 42 к., потому что, чтобы разменять для точной отдачи Любиньке 2 р. 15 к., которые я ей был должен, я купил на 3 к. сер. хлеба белого и съел дорогою. Теперь снова хочется на выставку, чтобы снова смотреть хорошеньких, и перед глазами та девушка,— чтобы увидеть подобных ей, т. е. таких же милых, как она. У Вольфа просидел до 4 [часов]. Сидел в последний раз надолго, как думал, потому что, для того чтобы сберечь вообще все деньги для Вас. Петр., решился не ходить туда,— [291] во всяком случае до того времени, когда будет снова довольно много денег, что будет не раньше, как через месяц или полтора; но теперь, когда подумал, что не буду знать новостей, как-то тяжело. Воротился домой в 6 час. и так как целых 3 дня сряду каждый день ходил в город, устал-таки весьма, т. е. в икрах усталость и почти весь вечер спал, так что не ужинал, т. е. я воротился в четверг 30 (это всё писано 1 июля в 5 час).
Июль месяц
1 [июля]. — Вот остаётся только уже 12 дней до моего рождения. Решил вести журнал с большею правильностью. Срезневский приглашал к себе, поэтому я завтра условился быть вместе с Дмитриевым в библиотеке и поехать вместе, когда будет можно. В библиотеке стал делать выписки, после в Сенат, взять новых книг, если будет можно, скорее нельзя, если нет — на выставку; если возьму,— у Ал. Фёд. просмотрю несколько, может быть, обе, которые возьму. Переезжать буду экономно, как и сделал в последние разы, т. е. дожидаясь, чтоб не платить более одной копейки сер., совестно раньше было, а теперь ничего, решительно ничего. Ныне утром почти два часа переписывал список членов Национального Собрания французского на особый листок. Читал Беккера X том и несколько Курца, после обеда спал до 5 час, после стал писать это.
После обеда почти всё время провёл в различных пробах того, как удобнее составлять словарь к Нестору.
(Писано 3 [июля] в 11 ровно вечера.) Наконец-таки выбрал, как писать словарь к Нестору; писал несколько; лёг в 12 — не спится, не спал до 3 или более, отчасти писал Нестора (которого написал около 80 строк с 6 стран.), отчасти читал Курца, которого дочитал до Гёте, которого начал несколько читать. Нехорошо, когда не спится; это тем более было неприятно, что решился на другой день быть в библиотеке и вот знал, что, встану поздно.
2-го [июля], суббота. — Проснулся в 10, пошёл в 11 в университет, пришёл в час, до 2 просидел, с Дмитриевым так и не говорил, ждал, чтобы сам заговорил о поездке, а то что наскучивать. Оттуда на выставку, где не было ни одной девушки хорошенькой; за одной, правда, ходил, но дрянь. Оттуда в более чем 3 [часа] к Вольфу: так не терпится, хоть думал не быть. — Рим взят. В пять [час.] к Вас. Петр.; на дороге пошёл дождь, а я ужасно захотел есть, купил на 3 коп. белого хлеба, дорогой съел, ничего. В 6 или более несколько от него; занёс несколько листков «Débats», которые прочитал он, к Славинскому, собственно потому, что не хотелось, чтобы они мешали мне писать словарь, «Современник» — Ал. Фёд., домой, где писал, но рано лег.
3-го [июля], воскресенье. — Встал в 10 почти, кажется весь день писал до 8 вечера и написал до (написавши 15 страниц, которые были переворочены) половины 4 строки 15-й страницы, всего около 400 строк, и в 8 час. в парк, чтоб встретить Ники[292]тенку. Встретил раз и не успел даже поклониться; он тотчас, должно быть, ушёл, потому что более не видел его, поэтому несколько неприятно. Когда шёл оттуда мимо здания корпуса, пришло в голову, что ведь цифры (строка и страница) можно не писать, а сделать для этого из дерева буквы типографские, это будет короче, потому что тогда буду только печатать вместо того, чтоб писать. Пришёл и вздумал, что можно купить их лучше или взять у Ол. Як., поэтому завтра должен быть в городе. Пришёл домой, стал делать их, сначала 8 из дерева, после из свинца,— свинец не держит чернил как следует,— после снова из дерева. Если нельзя будет достать настоящих букв или те не станут печатать, можно будет сделать. Теперь остаётся работы списать, чтоб до того места, где начал словарь в прошлом году (69 страница, княжение Изяслава), 1 800 стр., ровно 60 часов работы. Решил, что к воскресенью следующему будет списано; теперь решил, что спишу до 400 строк — полторы строки недостаёт, поэтому снова несколько попишу (половина 12-го). Почти половина 12-го; дописал до 7-й строки, разлиневавши новый лист, и, следовательно, теперь 298 плюс 97 плюс 7 равняется 402 строки (то было ⅓ пятой, а не 4-й строки). Эти дни читал более Беккера и ныне 14-ю часть его сначала, дочитал почти до 70-й стран, и теперь буду читать его снова. Ложусь.
(Писано 4 июля, в 11 вечера.) Ночью вставал и — как это на даче делал уже, должно быть, два раза,— опять-таки пошёл за своим подлым, негодным делом. Анна лежала к стене и была совершенно закрыта, ноги были совершенно также закрыты, поэтому я должен был на руках повиснуть над нею и уже спускался вниз всем телом, как Марья проснулась и сказала в просонках: «Анна! Анна!» Я вышел, но неловко и с некоторым шумом и убежал, ужасно перепугавшись. Мне казалось, что непременно она заметила, что это такое значит и что это был я, но, прислушавшись, я увидел, что она не просыпалась; однако, несмотря на это, всё утро был в самом тоскливом духе и теперь, едва разделся — дал зарок, больше от страха, чем из чистых побуждений, которые, однако, всегда есть у меня в этом отношении, никогда больше этого не делать, и при этом перекрестился. Не знаю, удастся ли. Дай бог!
Пошёл в город, более за буквами, чем за письмом. В библиотеке читал Эрша Philosophie, a сначала Daniel; первую статью должен дочитать в другой раз. Туда и оттуда идя, встретил Петра Ив. Черняева. Оттуда пошёл к Ол. Як., его не было, поэтому к Вангеберу[329], у которого на 50 к. сер., которые одни у меня были, купил 15 цифр. Идя оттуда, встретил Пелопидова, который позвал в Академию,— неловко было не идти; после нельзя было не позвать его, поэтому пригласил, он просидел до 9. При нём пробовал я печатать и выходило хорошо. При нём сделал и чернила [293] из масла (горчичного) и сажи. После него всё делал ручку, в которую вкладывать, теперь пробовал (15 страница, строки 8—11), и выходит скверно и медленно, так что должно будет бросить, а день потерян, но ничего, более буду делать завтра.
5 июля, ровно 11 час. вечера, вторник. — Утром шёл большой дождь. Ив. Гр., который объявил вчера, что отнесёт письмо ныне, сказал, что он не пойдёт. Я пошёл отнести его почти без неудовольствия; вздумал купить цветных чернил или карандашей, чтобы с помощью их отмечать (линюя) страницы и строки. Пошёл в пальто старом и фуражке; переезжая, толковал с солдатом. Когда шёл по Морской, мне показалось, что кто-то с другой стороны кричит мне,— я несколько вспыхнул за свой наряд и пошёл далее, не видел, звал ли кто в самом деле, или показалось. Купил красных и синих чернил по 15 к. флакончик и бумаги полдести за 25 к. Взял у Любиньки рубль сер. Пришёл, стал пробовать чернила, думал перемешивать их, так, чтоб вышло 5 из 3 (чёрные, красные, синие, синие с красными, красные с чёрными), но смесь вышла такая, что не разберешь, поэтому оставил и стал придумывать, как обойтись только с тремя родами и, наконец, придумал. Сначала показалось, что времени этим не выиграешь, теперь кажется — выиграешь, и с 3 или 3½ всё писал один лист и разграфил на страницы и линейки; после писал так, а разграфлю после всё вместе, написал до 23-й страницы 26½ строки,— следовательно, всего (начал с 16) около 240 строк. Остаётся теперь до начала прежнего словаря 1 550 строк. Завтра хочу непременно списать столько, чтоб осталось только 1 000 строк, т. е. до конца 39-й страницы. Теперь ложусь. Читал Беккера начало 14-й части. Думал о Вас. Петр. несколько, думал и [о] всём другом, о чём обыкновенно, и хоть не слишком грустно было, но не без того, главное от двух причин: 1) у Вас. Петр. нет денег и 2) не поехал к своим.
6-го, среда (писано в 12 ч. 8 м. вечера). — Так и дописал, как хотелось, даже несколько более, чтоб кончить лист; писал, почти не вставая с места; успел дописать до (кончил) 10-й строки 40-й страницы; следовательно, списал теперь я 1 051 плюс 219 плюс 10 строк равняется 1 280; осталось 954, т. е. 3⁄7, а списано 4⁄7. Тосковал несколько снова о том, о чём и вчера, так что думал, когда взглянул на конец того, что это писано ныне. — Снова стало сжиматься сердце. Не от образа ли занятия это, или от времени года? Ложусь. Завтра, если порядочная погода, пойду к Вас. Петр.
7-го [июля], четверг. — Поутру всё время писал и думал после обеда (это писано тотчас после обеда) сходить в город, чтобы воротиться ныне же. До обеда написал [до] 24 строки 46-й страницы, т. е. около 214 строк. Теперь идёт мелкий дождь и, кажется, идти будет нельзя; не знаю как. — Половина 3-го.
(Писано в субботу в 1 ч. 5 м. До того, как начал снова писать по 8 столбцов, ровно 24 000 слов выходит.) [294]
(Писано в воскресенье, в 10 ч. 25 м. вечера.) Пошёл-таки в город, хотя не совершенно ещё просохло, к Вас. Петр.,— ничего. Туда пришёл Ив. Вас., и мы пошли с ним. Я хотел домой, потому что торопился кончить, что начал, но вместе хотелось узнать, и когда можно видеть здесь Срезневского, чтоб не тратить целкового. На дороге встретился Ал. Фёд. Мы пошли все по дороге к нему. Я хотел домой, однако он просил, чтоб я остался, и я остался; пошёл к Иванову, а он в баню. У Иванова предубеждения против него рассеялись и буду снова бывать у него, если буду только бывать скоро в кондитерских; выпил чаю там. Проговорили до 3 почти часов; я не с удовольствием и сначала несколько хотелось спать, но нечего было делать. Утром к Срезневскому — бывает он здесь в четверг — это дурно, почему не пошёл утром накануне? Скверно, неделя проходит так. Итак —
8-го [июля], пятница. — От Срезневского хотел пойти к Панаеву, однако не пошёл, собственно потому, что знаю почти наверное, что или нет ответа, или получу назад статью, не стоит. В «Современнике» начали печатать Wahrheit und Dichtung Göthe[330] и теперь почти нечего уже писать эпизод его и Лили любви. Пришёл домой к обеду, до 7 спал, после писал; после ходил к Филиппову, которого не застал дома.
9-го [июля], суббота. — Всё утро до 7 часов писал. С 2 до 3 был Филиппов, говорил несколько анекдотов (конечно, большею частью похабных). Вечером пошёл в сад, где, сказал Филиппов, будет музыка. Нет её и никого. Воротился, хотелось на двор, но играли дети хозяйки и неловко, поэтому я пошёл в кусты, которые за домом, и сделал там. Потом занялся ящерицею, которая там [была] в луже, вдруг кричит мне Марья. Я думал, что верно потому, что пришёл Ал. Фёд.; думал, не случилось ли чего с Любинькою снова, пошёл. Когда стал выходить из кустов, на балконе избушки (хозяйской, должно быть) стоял какой-то мужчина и, думая, что я там нагадил, стал ругать (сказал — «мерзавец»); я плюнул, сказал — «тьфу ты, дурачина» и ушёл. — Почему не стал ругаться, не прижал его? Отчасти потому, что спешил домой, отчасти потому, что не хотелось, а отчасти, кажется, и потому, что струсил, или, лучше, по своей обычной робости, боязливости, подлости; но решился после воротиться и разделаться с ним, т. е. думал, что может быть придётся и поколотить, но тут в воображении явилось университетское начальство, а причиною смущения было отчасти то, что мне вздумалось, что затем Марья звала меня, что это он велел ей вызвать меня. Тогда я хотел спросить её и если так — воротиться в комнаты к нему и разделаться. Пришёл — она говорит: «Ал. Фёд. пришёл». Я вошёл, ничего не сказал ему, всё-таки тосковал, что обида остаётся так, и думал всё идти. Однако, не пошёл. Он остался ночевать; мы ходили гулять с ним в поле; я тосковал об этой обиде,— главное, что это может разнестись, что я не разделался, что я позволяю бранить себя. [295]
10-го [июля], воскресенье. — В 11 [ч.] утра Алекс. Фёд. ушёл. Я дописал Нестора (оставалось только 30 или 35 строк) и начал разлинёвывать несколько до обеда, несколько после обеда (более) и вместе придумывал извинение перед собою (хотя решительно этому не верю) и главное перед другими, в случае, если узнают, что меня ругали: я думал, скажу, что он пьян, поэтому не стал связываться. Но это неприятно подействовало на меня, т. е. моё поведение: я показался себе подлецом, трусом, робким, боязливым, ужасно скверно поступил. После обеда после чаю пошёл в парк и в Беклешов сад, где была музыка. Одна, как мне показалось, встретилась весьма хорошенькая, почти такая, как на той выставке, но только мельком, и в другой раз я её уже не встретил; это было в парке; там пробыл я от 7½ до 10 почти отчасти с Филипповым. Ждал Ол. Як.; разлиневал около должно быть 15 страниц, так что теперь остаётся всего 11 × 24 + 9 × 8 = 264 + 72 = 336 столбцов, из 74 × 8 = 592. Разлиновка выходит довольно хорошо, но у меня к ней как-то не лежит сердце, как-то выходит слишком безобразно. Несколько читал Курца (Рюккерта Seinen Traum Lied wob, Frühling kaum Wind schob, и т. д. Весьма понравилось, так что списал на задней стороне разграфки). Завтра схожу за письмом, зайду может быть к Вас. Петр.
55 м. 11-го. Ложусь.
Вот всего два дня только до моего рождения, т. е. только один день. Тогда начну новую тетрадь. Что-то будет в тот год — в этом году я только более и более запутывался.
11 июля 1849 г., 10 ч. 28 м. вечера. — Утром пошёл за письмом; надел старые брюки и сапоги, отчасти для экономии, отчасти чтоб не зайти никуда, и не надел шпаги. Чтоб не зайти к Вас. Петр., пошёл по новой дороге, налево из калитки, по той, которая идёт как бы на Смольный, вышел к Арсеналу,— дальше той дороги, по которой ходил обыкновенно. В университете 25 р. денег и письмо от Сашеньки. Не знаю, что писать; повторяю, должно быть, что написал раньше. Дай бог, чтобы он приехал сюда, мне кажется, это было бы лучше. Так как деньги, то должен был к Вас. Петр. Если только мне прислано, думал я, утаю от Терсинских это письмо; деньги — Вас. Петр., отдавши Ал. Фёд., что должен. Нет: ей 15, мне только 10 руб. Хотел не разменивать, но зашёл к Вольфу и выпил кофе, чтоб разменять, посидел там более 3 часов, почти до 4, после пошёл к Вас. Петр., от него в 5 к Ал. Фёд., у которого посидел с час, а после, когда он уж пришёл, он проводил меня до пристани. Я проездил 2 к. сер. — одну в университет от дворца, другую сюда от Гагаринской пристани. Ему отдал 9 р. сер. Когда сидел у Ал. Фёд., говорили обо мне, тоже когда шли. Когда пришёл, несколько времени разлинёвывал. Ив. Гр. сказал, что умер Пластов — дай бог ему царства небесного! Я перекрестился, и жаль умом, но на сердце никакого впечатления — даже не знаю, кажется, не пойду [296] завтра, чтоб узнать, когда его будут хоронить. Верно, завтра же. Прекрасный был человек. Умер от холеры. Вот и теперь уже несколько товарищей моих по семинарии умерло, а каково-то будет в старости слышать: тот умер, тот умер. Папенька пишет в письме, чтоб я встретил свой день рождения молитвою — без этого напоминания я и не подумал бы о ней, да и теперь едва ли буду в церкви, а следовало бы пойти в город за этим и чтоб присутствовать при похоронах Пластова, бедного моего Павла Николаевича.
Так вот чем заключается этот первый год — известием о смерти близкого ко мне человека! И который был гораздо здоровее меня! Дай бог ему царства небесного! Дай бог! Он был человек добрый, хороший и его заслуживал. Хотя и называли его кутилою, но это по моему мнению несправедливо.
Должен написать что-нибудь о своих мнениях и отношениях.
1. Религия. Ничего не знаю; по привычке, т. е. по сростившимся с жизнью понятиям, верую в бога и в важных случаях молюсь ему, но по убеждению ли это? — бог знает. Одним словом, я даже не могу сказать, убеждён я или [нет] в существовании личного бога, или скорее принимаю его, как пантеисты, или Гегель, или лучше — Фейербах. В бессмертие личное снова трудно сказать, верю ли,— скорее нет, а скорее, как Гегель, верю в слияние моего я с абсолютною субстанциею, из которой оно вышло, сознание тождества я моего и её останется более или менее ясно, смотря по достоинству моего я.
2. Политика, а) Теория — красный республиканец и социалист; более приверженец по прежнему (более по преданию[331] и привычке, но нет — кажется, и по сочувствию) Луи Блана; если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам.
б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы многим пожертвовать.
3. Наука. — Занимаюсь Нестором, более ничего не делаю; машину свою хочу пробовать в искажённом хотя, т. е. в упрощённом самом виде.
4. Литература. Теперь ничего нет в голове; поклоняюсь Лермонтову, Гоголю, Жоржу Занду более всего.
Отношения: к Вас. Петр. всё прежние. На Над. Ег. смотрю как на обыкновенную, добрую, простую женщину, которая в иных случаях, т. е. почти постоянно, слишком мало образована и слишком не в образованном обществе жила. К Терсинским решительно [297] миролюбив, кроток, нет и тени прежней вражды; Ивана Григорьевича жаль, что так мало имеет денег; совестно, что обкрадываю их, как и раньше было совестно.
Мысли: машина; переворот. Что касается собственно до меня — более всего, несравненно более всего, женитьба, любовь, иначе сказать — я хотел бы, чтоб у меня любовь была единственная, чтоб ни одна девушка и не нравилась мне до той самой, на которой предназначено мне жениться, чтоб и не сближался я до того времени ни с одной и не думал ни об одной; об этом думаю постоянно. Надежда на Нестора, т. е. словарь к нему — следовало бы, чтоб его напечатала Академия. О саратовских думаю несколько более прежнего, но всё не столько, сколько заслуживает их любовь ко мне, решительно не столько; я много виноват перед ними и мне их тоже совестно.
Итак, надежды или желания: а) сейчас — пусть поправится Вас. Петр., он выйдет из своего затруднительного положения, образует Надежду Егоровну; я также выйду, поеду на следующий год в Саратов; б) через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блана, и женат, и люблю жену, как душу свою; в) надежды вообще: уничтожение пролетариатства и вообще всякой материальной нужды,— все будут жить по крайней мере как теперь живут люди, получающие в год 15—20 000 р. дохода, и это будет осуществлено через мои машины.
Аминь, аминь.
Эта тетрадь кончена в 5 м. 12-го часа веч., 11 числа июля.
18 49 Николай Чернышевский
Итак, здесь 44 страницы и в первое полугодие 100 стр., следовательно, всего 144.
Дневник 22-ого года моей жизни (1849-1850)
Июль месяц
12-го [июля], вторник. — Вчера (начал писать это в 9 м. 12-го веч.) стал ложиться спать, как вдруг почувствовал ужасное стеснение в груди, как будто б на ней лежало пудов 20 или 30 тяжести, но слабости никакой, так что от давления этого было весьма больно и срывался голос, так что я мог говорить только отрывочно вскрикивая, да и то было едва слышно, так слабы и глухи были звуки; время от времени вдруг сердце начинало биться как живчик,— боль та же самая, которая была, когда бывал у Чистякова, но несравненно сильнее, так что едва ли бы скоро прошла сама, и трудно было переносить её. Я побежал пить воды, при[298]бежал снова в свою комнату и бросился с глухими стонами на диван. Прибежали, стали давать пить горячей воды, тереться дали мне горчичным маслом, стали ставить самовар,— наконец, меня вырвало говядиною, которую я ел за ужином, и мне тотчас стало гораздо легче. Потом выпил два стакана пунша, прикладывал горячие салфетки, и прошло, я думаю, через полчаса после того, как началось, а когда началось и прежде чем вырвало, я думал: ну, верно, это аневризм и лопнула вена, потому что казалось, как будто заливается сердце кровью или что-то в этом роде. Не могу сказать, чтоб мысль о предстоящей через несколько минут, по моему мнению, смерти сильно подействовала на меня,— так, как вообще, головою думал, что это весьма жаль, а чувствовать скорби или тоски чувствовал мало, но сильнее всего была мысль, что умру я такою смертью, что несвободно будет употребление рук для письма, не смогу и говорить, не дождусь никого, напр., Вас. Петр., которому можно бы передать словами, если уж нельзя написать, и машина моя снова исчезнет на бог знает сколько времени для людей, бог знает, скоро ли найдется другой человек, которому придёт это в голову,— эта мысль была сильнее всего.
Любинька весьма хлопотала, и мне было совестно, что я так холоден и бесчувствен был во время её болезни. К часу всё совершенно прошло. Когда она была тут, я, чтоб не так было скучно (а может быть несколько и под влиянием рома, но нет), начал рассказывать ей о хашише и ассасинах, что, однако, кажется, и не кончил. Встал, выпил снова стакан пуншу, хлеба не ел с чаем, только несколько съел около 12-ти; обедал мало, вечером тоже почти не ел хлеба с чаем, также почти не ужинал и есть почти не хотелось и теперь почти не хочется — желудок ещё не совершенно хорош. Большую часть времени провёл в том, что разлинёвывал, отчасти и читал Курца. С 3 до 6 спал; в 8½ пошёл смотреть шар, который спустился в парке, там пробыл около часу и оттуда воротился с Филипповым, для которого посылал за табаком. Разлиневал до 55-й стр., так что теперь остаётся работы на 2½ часа или этак. Завтра вечером хотел идти, чтоб ночевать у Ивана Васильевича, а утром дождаться Срезневского на железной дороге. Теперь 29 минут 12-го, ложусь.
(Писано 14-го [июля], в четверг, в 10 ч. 10 м. вечера.) Утром долинёвывал 13-го числа, вечером решил идти в город ночевать, чтоб утром дожидаться Срезневского на железной дороге. Так и сделал. Ушёл около 5 после обеда, подождавши, что выйдет, не станет ли снова теснить грудь,— и точно, около 5 вырвало. Пришёл к Славинскому, они играли в карты, несколько времени и я играл за отца, и тоже, как он, проигрывал. От них зашёл к Иванову и уж не успел зайти к Вас. Петр., а вместо того — к Ив. Вас, отнёс книгу его (Разговоры, которые брал Ив. Гр.) — его не было дома, поэтому я не мог ночевать, а должен был воротиться к Ал. Фёд. От него утром — [299]
14-го [июля] пошёл на железную дорогу. Пришёл — только что пришла машина, опоздал [на] 2—3 минуты, поэтому не мог знать, приехал ли Срезневский (говорить хочу я с ним о Несторе), и пошёл к нему узнать — его нет. Я снова на машину, зашёл к Вас. Петр., посидел до 11½ и пошёл дожидаться; дождался — нет. Снова к нему: говорит слуга — нет. Следовательно, не будет, поэтому должно ехать к нему, и я пошёл домой, чтоб взять денег у Любиньки. Пришёл домой, уставши от жара, а не от дороги, поэтому теперь и не чувствую решительно ничего, хотя исходил никак не менее 4 часов. Пообедал весьма хорошо, потом читал, потом строил пробу своей машины (около 8½ или 9 вечера, когда Терсинские ушли гулять, но не потому, что ушли, а так пришла охота) — сделал коромысло, надел на концы два равновесные деревянные чурбачка, проделал дыру в лагуне старой, распиленной на-двое, которая служит вместо стула Марье и которая служит, чтобы ставить на неё чашку, в которой умывается. Продел туда коромысло, в центре которого (но не совсем, так что перевес был на стороне, которая в лагуне) вдел поперек иголку, так чтобы не проскользнуло оно, налил воды, и чурбачок, который лежал на дне и опускался на него, если поднять, теперь, конечно, всплыл, как будто я в этом не был уверен, как будто не всякий в этом уверен,— да нет, дело такое необыкновенное, что поневоле берёт сомнение во всём, что относится к нему, и в расчётах, на которых оно основывается,— это мне было-таки радостно. — Сверял текст первых четырёх страниц Нестора, ошибки есть на каждой странице, дело не такое скорое, как я думал: 4 страницы разве в час, поэтому не менее двух суток нужно. Вот теперь Любинька дала целковый и я завтра еду в Царское.
10 ч. 55 м. Это писано после ужина. — Да, не должно забыть сна, который я видел ночью у Ал. Фёд. и который так был радостен, что и на весь день оставил по себе радостное воспоминание, и теперь приятно подумать о нем: мне снилась долгая история о том, что я поступил в какое-то знатное семейство учителем сына (лет 7 или 8), и собственно потому, что мы с этою дамою любим друг друга — или собственно она любит меня и хочет этого, я тоже люблю её, а до этого почти мы не знали с ней друг друга. Она белокурая, высокая, волоса даже весьма светлорусые, золотистые, такая прекрасная. Я у неё целовал 2—3 раза руку в радости, что она заставляет меня жить в их доме. Муж её человек пожилой, глупый довольно, с брюхом, несколько надутый или собственно не то что надутый, а так. Итак, я чувствовал себя весьма радостным от этой любви с нею, с наслаждением целовал её руку (которая, кажется, была в перчатке и ещё тёмного цвета). Собственно, для неё уладил я с мужем, который не слишком-то тянулся за мной, но я сначала был разошедшись с ним, после сам завязал снова дело и сказал ему, что я-таки поселяюсь у них, потому что она так велела или желала, или просто сказала: живи у нас. Никакой мысли плотской не было (каким образом? это странно), решительно никакой [300] плотской мысли, а только радость на душе, что она любит меня, что я любим. — 5 м. 12-го, ложусь.
(Писано 15-го, в 8 ч. 45 м. вечера.) — Марья разбудила в менее чем 6, встал. В 7 вышел, постригши волосы. Едва успел к первому поезду, чтоб посмотреть, здесь ли Срезневский,— нет; следовательно, должно ехать; взял билет, сел. Против меня сидел мужчина, молодой человек, и, кажется, девушка, его сестра, а не жена, собою нехороша, поэтому сначала мне не понравилась, но когда присмотрелся, то лицо показалось имеющим хорошее выражение и милым. Железная дорога не произвела, разумеется, никакого впечатления. Пошёл к Срезневскому и, как обыкновенно, прошёл сначала мимо. Вхожу. «Дома?» — «Да». — И начали толковать. Он сказал, что к первой половине Нестора составляет Корелкин, а вот если бы к Ипатьевской, так это бы так. — «Велика она? — говорю я (что пропали мои труды, я и не сказал, да и мало жалею о них). — Покажите мне». Он повёл наверх: 230 страниц и должно быть около 9 000 строк. — «Если,— говорит,— к Новгородской первой,— это 115 страниц» (около 4 800 строк, я думаю). Я говорю: «Всё уж равно, буду составлять Ипатьевскую», и встал, чтоб уходить; он оставлял, сказал, что должно посмотреть сад, а потом воротиться к нему пообедать. Мне это было весьма приятно, что он так ласков, но поблагодарил и не остался. Он стал рассказывать о саде Царскосельском, что стоит посмотреть его и т. д.; говорил об арсенале тамошнем, около часа, я думаю. В 12 я встал, но он оставил дожидаться шоколаду, который готовился, и я просидел ещё более часа. У него был именинник сын и был в церкви с матерью, которую теперь я рассмотрел хорошенько: в самом деле нехороша, когда смотреть в профиль. Весьма хороший человек этот Срезневский. Итак, я принимаюсь за Ипатьевскую летопись и завтра же куплю её.
Едва поспел оттуда на машину, поехал. На одной скамье со мною сидел военный, пожилой (и глупый, должно быть), с тремя дочерьми, из которых две маленькие, третья лет 15 и довольно правильное лицо, хотя не слишком хороша, но решительно ничего,— я всю дорогу смотрел на неё. Когда приехал, пошёл к Вас. Петр, и рассказал ему о летописях (Срезневский сказал, что будет напечатано) в надежде, что он возьмётся,— так и есть. Купить должно. Стал я думать, когда вышел от него, где взять денег. Занять уже не у кого, следовательно… должно что-нибудь продать. Что же? Ничего не мог сначала придумать определённого, после — конечно, книги и, наконец, когда вспомнил, что можно продать библию и что нужно всего 1 р. 50 к. (50 к. есть; стоит только 2 р. сер., как узнал у Юнгмейстера), то решительно развеселился в этом отношении: достанет книг, чтобы приобрести эти деньги. Завтра же иду с ними. А то была забота, что не наберётся на полтора рубля сер. — Заходил к Вольфу, собственно чтоб отдохнуть, потому что весьма устал; отдохнул, ничего, и пошёл в 7 час. домой. После стал разбирать книги и нашёл классиков, которые не [301] приходили в голову; решился продать, если нужно, и Фукидида, и Светония; не знаю, что-то будет, конечно, полтора руб. сер. достану за них. Дорогою придумывал, чем можно отмечать страницы или строки — прокалывать бумагу булавкою. Теперь поел студени, потому что проголодался. По поводу книг пришло в голову, что в самом деле хорошо иметь ценность в вещах, а не в деньгах, потому что лучше: остаётся в руках для непредвиденных случаев. Думал и выиграть деньги у Славинского,— но на это не достанет искусства. Вертелась в голове мысль, что причина всего — затруднения Вас. Петр., и никогда не будет у меня денег, пока он будет в таком положении, т. е. эта причина в сущности тяготит меня,— потому что это существование продлится год,— он хочет держать экзамен в следующем году. Теперь 9 час. 7 мин. — Да, Raveaux не умер, это был ложный слух в газетах. Хорошо.
Писано 16-го в 9 ч. 30 м. — Проснулся — дождь, однако решился идти хоть после обеда, а лучше до него. К 10 ч. поунялся, и можно было думать, что не будет более. Я стал зачинивать старые брюки; ниток чёрных не было, поэтому я белые опускал в чернила и — на столе лежал раскрытый Курц — я махал ими, капнуло несколько капель на страницы, которые были раскрыты («Вильгельм Телль», начало). Так как кислота не выедала, я выскоблил их насквозь ножом,— это скверно, конечно, и неприятно было, что напакостил Славинскому. Пошёл усталый, принёс к одному продавцу — слишком дёшево; у другого продал библию, алгебру Себржинского, одну часть Кайданова и катехизис за 1 р. 20 к. с., Лукиана и Светония за 30 к., итак — 1р. 50, сколько мне было нужно (у меня было 55 остававшихся). Потом захотелось купить тут же и бумаги, поэтому остальные книги, которые были со мною,— Фукидида и Теренция,— за 25 к. Удивительно сходно все дают, и [за] эти последние две книжки — у трёх или четырёх был — все решительно давали 25 коп. сер., никак не более. Продал их (эти последние в лавочке, которая отдельно от других — б — ряд лавочек, а — она, как идти от Министерства внутренних дел, так направо, и купец дал тотчас же 25 к. и не согласился ни копейки добавить, не торговался).
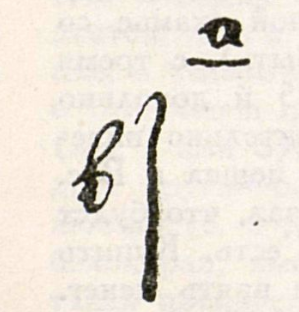
Хорошо, пошёл, чувствовал, что устал, зашёл отдохнуть в Казанский собор; после купил полдести бумаги, так же, как прежде, за 25 к., у Юнгмейстера взял (2 р. с.) Ипатьевскую летопись и пошёл (хотя и решался долго, потому что устал весьма) в университет за письмом. Там посидел, отдыхая на верхних ступеньках, ведущих к студентам, около 20 мин. После пошёл домой. Дома несколько времени (мало) отдыхал (теперь не чувствую никаких следов усталости), после стал размечать строки, и вышло, что в Ипатьевской летописи 8 485 строк. Решил списать текст к концу июля, т. е. в течение 15 дней, поэтому на день почти по 600 строк. Когда кончил это, стал рассчитывать, насколько сократится работа, если выпускать грамматические слова (не, же, [302] яко, и, въ и т. д.), вышло, что ⅕ долею — итак, не стоит, лучше уж полнота. Когда кончил, то сел писать это, а теперь должно быть буду читать. Денег осталось у меня теперь 5 коп. сер. — и приятно, что продал, это, знаете, придаёт какой-то оттенок крайности, или как это — это хорошо (фанфаронство перед собою даже). ¼ 10-го. Теперь курить буду трубку для поправления желудка.
(Писано 17-го, воскресенье, почти ровно в 11 ч. вечера.) — Весь день писал, кроме того, что несколько времени курил трубку и отдыхал от неё (курил потому, что желудок ворчал), именно с 10 почти до 12, и от 5 до 6 почти спал. Списал ровно 150 столбцов — 24 строки и 19 страниц или 609 отрок. По этому расчёту выходит, что мне остаётся около 130 часов списывать — или около 13 дней. Думал несколько о Вас. Петр. Ложусь. Не устал нисколько, кроме этой высунувшейся кости на локте правой руки, которая лежала на столе.
18 [июля], понедельник. — (Писано в 10 ч. вечера, ложусь.) Утром ещё-таки писал, но после с 12 большей частью спал; после чувствовал нехорошо в желудке (возясь с которым и трубкою, не спал вчера до часу или более), и нападала-таки порядочная тоска и главным образом о своих, что так обманываю их и в Саратове, и здесь; совестно было и перед своими, и перед Терсинскими; и вообще довольно дурно, я думаю, главным образом, оттого, что нездоров. Утром чувствовал слабость и усталость в спине; после сна ничего. Поэтому написал всего только 330 или около [того] строк до 27-й строки 29-й страницы. Итак, теперь всего списано около 950 строк, около ⅑ всего. Теперь ложусь. Домой писал письмо, в котором описал всё как есть, свои занятия летописями.
19 [июля], вторник. Почти ровно ½ 11-го. Почти весь день писал Ипатьевскую летопись и списал ровно 44 первых страницы = 1 500 строк из 8 500 строк = 15⁄85 = 3⁄17 = 1: 52⁄3. Хотелось бы ещё списать теперь 100 строк, т. е. до 1 600, потому что хотелось бы в день списывать более 600 строк. Думал ныне и о походе в город, чтоб повидаться с Вас. Петр., но это после, может быть завтра, если буду здоров. Здоровье ныне ничего, хотя снова заставило меня потерять, я думаю, часа 2 за трубкою, и с 2½ до 5 спал после обеда. Сказал Любиньке за ужином, если хочет учиться по-немецки, я буду, пожалуй. А то ей скучно. Читаю «Германа и Доротею»[332] в Курце,— лучше, чем я думал, т. е. мне-то не нравится, а чем хуже какого угодно Гомера? Мне кажется, решительно всё равно. Снова пишу.
20-го [июля]. — Утром писал и дописал до 54-й страницы, т. е. 1 838 строк, и думаю о том, идти ли в город или нет, затем чтобы достать бумаги (которой остаётся только 10 листов, поэтому недостанет до послезавтра, а должен может буду идти завтра) и повидаться с Вас. Петр.; желудок почти ничего, хотя всё нехорош. Но раньше, чем идти, должно починить сюртук на плече. Начал чинить — вошёл Ив. Гр. за трубкою, и я стал писать это. Теперь снова буду чинить, после пойду. [303]
(Писано 22-го, в пятницу, в 5 ч. 38 м. вечера.) — Пошёл в город, чтобы продать книги, взял довольно много, так что думал 60—70 к. сер., давали только 30—40, и я не захотел, а решился просить денег у Любиньки снова, хотя это и тяжело довольно, что делать? Зашёл к Вас. Петр., там стала такая отрыжка, что я думал, как бы поскорее домой, а с другой стороны, у него уже ставили самовар, а я не хотел там пить, поэтому ушёл. Дорогою прошла отрыжка, и я зашёл к Славинскому, у которого просидел почти до 9 не без приятности. Устал-таки.
21-го [июля]. — Утром думал, что я решительно здоров, и сел писать. В ¼ 12-го пришёл Вас. Петр, и просидел до 8½, т. е. — как напились чаю, пошёл было дождик и буря, поэтому он оставался переждать его. Утро до обеда он пробыл в моей комнате; после обеда (я, думая, что я решительно здоров почти, ел более, чем сколько бы следовало) пошли к парку. Там началась ужасная отрыжка, и когда пошли домой, меня вырвало дорогою. Мы шли по наружной стороне по большой дороге подле парка. Вас. Петр, стал говорить об этом; его это озаботило, меня мало. Пришли, был уже Ив. Гр. дома, и в это время более всего говорил я до того самого времени, как ушёл Вас. Петр. Рассказал «Нафана Мудрого», ещё несколько анекдотов. Когда началась гроза, говорил о молнии и т. д. Пошёл провожать его и проводил его до поворота к пристани. Дорогою почти всё говорил я о своей бесчувственности, глубоком эгоизме и т. д., о холодности своей. Он сказал — так пришлось,— что у меня нет твёрдых убеждений. Я старался объяснить, в каком отношении это справедливо и отчего это.
22 [июля]. — Утром всё писал, и было довольно спокойно в желудке. За обедом ел щи и мало; теперь несколько бурлит, но тоже мало; пойду походить до чаю. — Теперь списано ровно 50 страниц моих или до «вѣдущю» в шестой строке 65-й стран., т. е. 2 257 строк, почти 1: 34⁄5 всего целого.
К ночи стало довольно сильно бурлить. Я выпил рюмку водки — ничего; но через несколько времени стало тяжело в голове и не как от красного вина, которое выпивал у Благосветлова, а скверно; но в желудке как бы улеглось, поэтому, поужинав, выпил ещё рюмку. Однако просыпался от возни в желудке и кончил тем, что выпил ещё.
23 [июля]. — Утром собрался за письмом и бумагою, просил у Любиньки денег, она сказала, что нет; это дурно. Я всё-таки пошёл и придумывал, как достать. Спрошу у Ал. Фeд.; если не застану, продам новые перчатки или посмотрю, нет ли чего другого, что можно было бы продать. Письма, к удивлению моему, ещё не было. Подождал до 12 в библиотеке, где читал о Фейербахе у Эрша в статье Philosophie и несколько о Фесслере. Оттуда уже не пошёл к Вас. Петр., а к Вольфу, там до 2 [час.], оттуда к Славинскому, где думал видеть карты, но нет; домой; поел щей и не так много, однако несколько бурлило, так что я предпочел лечь [304] спать, а писать стал только около 7 [часов]. Теперь дописал до 71-й страницы, то-есть ровно 70 страниц или 2 480 строк = 1 : 32⁄5 = 5⁄17.
24 [июля], воскресенье, 11 ч. 24 м. утра. — Дописал 60-й листик, последний,— больше бумаги нет, поэтому начну проверять текст и разлинёвывать страницы, пока достану ещё. Списано теперь до «Кіева» в 23-й строке 76-й страницы, следовательно, всего 2 693 строки, или 36 000 лоскутиков. ещё нужно будет, судя по этому, бумаги 130 стран., т. е. десть и 36 листов, или 3 тетрадки. Теперь списано, следовательно, почти ⅓ плюс 2⁄13 = 13⁄41 = 6⁄19.
(Писано в 10 ч. 40 м. вечера.)
Желудок беспокоил не слишком, хотя всё-таки была отрыжка и особенно тяжесть в нём. К обеду я думал, что приготовят кашицу из простой крупы, но думали, что всё равно и суп с говядиной. Это сделало на меня несколько неприятное впечатление и я был так глуп, что не вспомнил, чтобы сдержать выражение неудовольствия в лице — глупость; должен удерживаться, особенно при таких пустяках. Жаркого не ел; поэтому ничего. После чая пошёл гулять в парк, никого не встретил, кроме Олимпа и после Лыжина, с которым ходил. После зашёл к Филиппову, пришёл в 10 ровно почти. Стал проверять текст и теперь проверил до конца 17 страницы, ровно 548 строк. Это весьма медленно, 20 минут на страницу, следовательно, всего около 60 часов. Ложусь. К ужину была кашица. Завтра хотелось быть в городе, взять письмо, и если нет денег, продать что-нибудь, напр., перчатки, или спросить у Ал. Фёд., и купить бумаги.
(Писано 28 июля, в четверг, почти в 10 ч. вечера.)
25 [июля]. — Пошёл за письмом и взял на случай, если будет без денег, с собою свою столовую ложку, чтоб заложить её. Когда шёл, сильно бурлило в желудке. Денег нет, ложку не решился заложить. Пошёл к Вас. Петр.; когда стал подходить, стало делаться так, как будто хочет рвать. Я стал ходить между каналом и задами казарм. В самом деле, через несколько времени стало рвать. Хорошо. После этого ничего. Пошёл к Вас. Петр., у которого пробыл всего несколько минут, потому что опасался того же и не хотелось поздно прийти домой. Пошёл. Когда пришёл, более, кажется, спал. Да, и писал письмо. Так как бумага вся была исписана, то должен был от этой тетради взять 3 листика, которые были не исписаны. Написал о своей работе. Всё-таки не заложил.
26 [июля] (писано 1 августа, почти в 11 час. вечера), вторник. — Должно было отнести письмо. Пошёл я и спросил у Любиньки денег, она дала 1 р. сер. Я спросил, можно ли истратить, она сказала,— можно, и я купил на 75 коп. 1¼ дести почтовой бумаги (2 тетради такие, как эта, чтобы дописать до 100 страницы, и десть синей для следующих 100 стран.; для остальных 25 после уже решился купить) и дюжину перьев. Стал писать.
27-го [июля], среда. — Пришёл Вас. Петр, после обеда, посидел [305] часа 4 и ушёл. Я провожал его и как выпил пуншу, то чувствовал, что язык как-то тяжёл.
28-го [июля], четверг. — Писал между прочим. Поел неосторожно, и вырвало.
29-го [июля], пятница. — Писал между прочим. Желудок всё продолжал быть беспокоен. Вечером пришло желание описать на всякий случай своё изобретение, чтоб не могло погибнуть, и написал. Надписал красными чернилами заголовок, вложил в конверт, который тоже надписал красными чернилами.
30-го [июля]. — Пошёл за письмом. Оно было с деньгами — 45 р. сер. Любиньке было 20, но я не прочитал хорошо и думал 25, поэтому мне оставил 20 р., 10 отдал Вас. Петр., к которому зашёл и которого просил к себе в воскресенье или во вторник (поэтому завтра жду, т. е. 2 августа), оттуда к Славинскому, чтоб узнать, где живёт Троянский, чтоб спросить у него записки для Ол. Яковл.; узнал; заходил, не застал дома. Обедал как следует и ничего не было; думал, что желудок успокаивается. Вечером пришёл Никита Алексеевич Горизонтов вместе с Ив. Гр. и ночевал две ночи, поэтому я весьма мало мог писать. Ушёл он в понедельник, т. е. ныне утром. Теперь спать, август после.
Август
1 [августа], понедельник. — Пошёл в город рано утром и думал, что лучше будет, если поем кашицы. Зашёл к Троянскому, его не было снова дома. Была сильная отрыжка, всё ждал, что станет рвать. Пошёл в Детскую больницу. Что было там, можно видеть в письме к папеньке[333]. Когда туда шёл, зашёл на дровяной двор, и там меня вырвало и после этого стало весьма хорошо. Так как должен был быть у Кораблёва и чувствовал некоторую усталость, то не пошёл к Вас. Петр., а к Кораблёву; оттуда купил десть бумаги обыкновенной в 40 к. сер., кажется, будут хорошо писать по ней перья (для Ипатьевской летописи). Оттуда к Вольфу, где просидел до 5 [час.] и выпил чашку чая без булки — чрезвычайно успокоило это желудок. Итак, чай со сливками хорошо, буду это знать. Оттуда к Славинскому, у которого до 7½. Говорил довольно откровенно о своих товарищах и благонадёжности их для серьёзного будущего. Дома напился чаю и ничего не ел. Писал себе Ипатьевскую и дописал до конца 23-й страницы своей синей, следовательно, до 4708-й строки.
2 [августа]. — Большую часть времени писал Ипатьевскую летопись. Желудок хорош, только вечером пил слишком много чая с хлебом, так что несколько обременил, но отрыжки нет. Всё-таки должен был выкурить трубку, но совершенно не беспокоит теперь, слава богу. Встал рано, до утреннего чая написал 23 страницу и разлиневал 2 тетради, т. е. до 48-й страницы. Теперь списано у меня до конца 36 стран., или 5 290 строк, следовательно, написал я менее строк, чем ожидал, всего только 582, хотя писал довольно [306] постоянно. Ждал Ал. Фёд., поэтому не пошёл ночевать в город. Завтра утром хотелось бы пойти к Славинскому, но боюсь разойтись с Вас. Петр. Не знаю, как это будет. Скорее, что пойду уж ночевать туда. Теперь почти ½ 12-го. Ложусь.
(Писано 6 августа, ровно в 10 час. вечера.) — 3 августа, среда. — Утром шёл сильный дождь, к 11½ перестал, и я уже пошёл к Славинскому, между прочим, с намерением ночевать в городе и справиться о книгах утром. Когда шёл за огородом из акаций, не доходя казарм Литовского полка, мне закричал Вас. Петр., который шёл ко мне и к счастью увидел меня. Пошли вместе. Он, ехавши на лодке, поссорился с одним чиновником, который сказал ему неучтивое слово; вот не то, что я,— когда меня назвали мерзавцем, я не мог ничего сделать. Посидел до вечера, после пошли вместе, я прямо к Ал. Фёд., у которого ночевал и нашёл «Débats».
4 [августа]. — Утром пошёл в больницу, опоздал к директору и попросил, чтобы сказал письмоводитель смотрителя, что если не будет послано приказание выслать книги, я пожалуюсь директору. Оттуда занёс Вас. Петр. «Débats»; половина осталась у него, другую взял с собою и теперь всё прочитал. Оттуда к Иванову, у которого думал застать новые журналы,— нет ещё. Всё-таки выпил чаю, просидел до 6; оттуда к Троянскому (у Иванова понравилось сидеть в последней комнате на мягком диване), после домой. Отдал деньги Ал. Фёд., которые был должен (6 р. сер.).
5-го [августа], четверг. — Писал мало, чувствовал себя как-то неловко, много спал — всё оттого, что слишком ем много, хотя желудок почти совершенно поправился.
6-го [августа]. — То же самое. Теперь дописал 52-ю стр., или кончена 4-я строка 163-й страницы, ровно 6 027 строк. Дело идёт весьма медленно. Вечером (т. е. после обеда скоро) поел, чего не должен был, и отрыжка, которая заставила снова возиться с желудком. Отдал Любиньке 2 р. сер. (хотя, кажется, должен был ей 3), которые был должен. Теперь осталось только 85 к. сер. и 6 к. для переезда. 80 коп. должно отдать Савельичу. Вечером наливал в графин горячей воды, и он лопнул,— должен купить новый. Ложусь выкурить трубку.
(Писано в среду 10 числа.) 1-го [августа], воскресенье. — Утром рано пошёл в город. Там Савельич был у обедни, поэтому письмо взял так и пошёл к Иванову (решился в этом письме ничего не писать папеньке о книгах) и просидел там с 11¼ до 5 почти. Читал «Отеч. записки». Ничего порядочного не нашёл из того, что читал. Победа над венграми прискорбна[334]. Сначала поверил, после несколько не поверил, после снова поверил, теперь более верю, чем нет, что Гёргей в самом деле сложил оружие. Должно узнать подробности, как, отчего, что значит. После зашёл к Славинскому, у которого пил чай.
8-го [августа]. — Пришёл вечером из города, ел жаркое, от этого на другой день утром было скверно несколько. После обеда [307] стало нехорошо и я вздумал воспользоваться средством заставить, чтоб вырвало, запустив пальцы в горло, как делал раз на дороге в городе. Так и сделал.
9-го [августа], вторник. — Утром пришёл Вас. Петр. Я сидел и писал и уж сделал, чтоб вырвало. Он посидел до 8. Обедать я не стал бы, если б его не было здесь; обедал; после обеда стало снова дурно, и я на минуту сбегал, чтоб вырвало, и выбрал для этого парк, а не кусты по дороге к Смольному, как раньше. Пришёл назад и скоро после пошёл проводить его. Вечером был и Пелопидов с Дивногорским. Я больше времени (т. е. до чаю) сидел с Вас. Петр, в своей комнате; после сидели вместе несколько времени. Когда воротился я, проводивши Вас. Петр., сидели вместе. Итак, сделал два раза, чтоб вырвало. Вечером выпил полстакана водки. Ужинал — селёдки и яйца всмятку, что, казалось, подкрепит желудок, но вышло, как после увидел, наоборот.
10 августа. — Утром, когда встал, весьма скверный вкус был, хотя отрыжки не было; насилу дождался чаю. После должен был сделать, чтоб вырвало, и ходил для этого в парк. Обедал только кашицу. Всё-таки должен был сделать около 5 час, чтобы вырвало. Теперь сижу так, выпив рюмку пива с сахаром. Теперь думаю так: в пятницу вечером пойду в город к Иванову, после к Вас. Петр., после ночевать к Ив. Вас, оттуда в больницу, справлюсь или пожалуюсь; после за письмом и домой. Если будет по прежнему дурно, возьму слабительного в аптеке. Итак, по этой болезни мало времени пишу, и теперь списано только всего 68 стран. или до конца 182-й стран., или 6 779 строк. А думал, что всё и варианты кончу в пятницу к обеду. Это писал в 7 ч. 40 м. вечера. Терсинские ушли гулять, я жду их, чтобы пить чай, хочу пить с пуншем. Да, ещё хлопот наделали мне часы — стали становиться. Должно отдать вычистить, но нет денег. Я вздумал заводить их по два раза в день, и чтоб они лежали, а не висели. Так они шли, и нынешний день вот уж идут как следует, так что я завёл вчера в 10 ч. вечера, и теперь идут как должно.
(Писано 15 авг. в понедельник, в 2 часа.) 11-го, четверг. — Ничего особенного, но желудок был скверно по прежнему.
12-го [августа], пятница. — Утром мне казалось как будто довольно сносно. Выпил чаю с молоком и хлебом и кажется как бы ничего сначала, после стало тяжело. Выпил горячего молока кружку, думал будет легче — нет. Всё-таки пошёл в 2 часа в город. На дороге должен был сделать, чтоб вырвало, и в первый раз при повороте к Литовских казарм огороду, не доходя доски, через которую переходят через канаву. Здесь не успел хорошо сделать, потому что шли за мною. Поэтому снова пошёл далее, стало снова дурно, и я должен был сделать это в другой раз. У Иванова видел Славинского, выпил чашку чаю и ничего. Пришёл к Вас. Петр, и чувствовал себя изнурённым, весьма изнурённым, так что, когда пошли к Ив. Вас. (которого не было дома), я лёг отдохнуть на постель. Вас. Петр, сел ко мне и стал рассказывать несколько [308] о своих приключениях. — Мне стало теперь досадно на себя, что всё ещё трачу столько денег даром.
13 [августа]. — Пришёл в университет за письмом, отдал за него 20 к. сер., весьма устал (был в Детской больнице — ничего ещё; в следующий раз скажу директору) и сел, чтоб отдохнуть. Просидел там до 12½, более двух часов; все, кто видели (между прочим, и Срезневский), восклицали, что я чрезвычайно похудел. Идя оттуда, взял слабительного на 20 к., понадеявшись на него (серный цвет, магнезия), выпил стакан чаю вместо обеда и вечером выпил с довольно много хлеба,— этим вот меня вырвало.
14 [августа], воскресенье. — Утром почти решительно ничего (да, ходил в аптеку, где взял на 10 к. сер. английской соли, которую выпил всю в этот день), выпил половину соли, выпивши, съел за обедом несколько ложек кашицы гречневой, и стало несколько тяжеловато на желудке, как будто завал. Я думал, что снова должен буду сделать, чтоб вырвало, и пошёл, чтоб помочь желудку. Ходил, хотя была изморось (т. е. тепло, но весьма мелкий дождь), пошёл в лес за Кушелевкою, чтоб сбирать грибы, весь испачкался и измок. Пришёл только что к чаю.
15 [августа], понедельник. — Утром посылал Марью взять ещё на 10 к. соли английской; половину уже и выпил. С чаем ел более чем следовало хлеба, и была тяжёлая отрыжка из глубины желудка; чтобы избавиться от неё, удачно вздумал выпить воды с ромом и сахаром. Не обедаю. Теперь ничего. С вчерашнего вечера начало слабить, и это хорошо. Я думаю, что пройдёт решительно через это расстройство в желудке, и не обедаю. Хотелось снова идти за грибами в надежде есть их. Теперь списал 6 страниц большого формата = 25 строк 209 страницы = 7 805 строк. Думаю завтра кончить это и начать варианты. Теперь начинаю писать письмо своим.
(Писано 19-го августа поутру в 7 ч. 20 м.) Писал несколько, после несколько переводил, для того, чтоб прочитать у Никитенки, «Нафана Мудрого» (начало 2-го акта).
16 [августа], вторник. — После обеда ходил собирать грибы. Поздно вечером пришёл Ал. Фёд. к чаю, принёс 6 и 7 №№ «Отеч. запис.» и «Débats» до 1 августа. Я должен был проводить его. После стал читать. Слишком много ел, должно будет сделать, чтоб вырвало, но желудок поправляется.
17-го [августа], среда. — В 12 пришёл Вас. Петр. Я был не в духе, но к вечеру ничего. Снова должен был сделать, чтоб вырвало, потому что обедал всё, что он, чтоб не показать, что болен, и вечером много ел с чаем.
18-го [августа], четверг. — Несколько писал и дописал до конца 12-й страницы, т. е. до 8153-й строки (218 стран.) и перевёл больше половины первого акта «Нафана». Кончу этот акт в воскресенье или понедельник ко вторнику. К вечеру снова должен был [309] сделать, чтоб вырвало (пил соль и золототысячник). Больше: читал «Отеч. записки» — «Дженни Эйр»[335], весьма хорошо, жаль только, что и здесь хотят вмешать трагические сцены до мелодраматического и страшные приключения — этого не следовало.
(Писано 30 августа вечером.) 19-го. Пошёл на лекции, но Срезневского не было. Устрялов был. Несколько устал, идя туда,— самое, кажется, дурное время моей болезни. от Вас. Петр, пошёл, ночевать к Ив. Вас, чтоб пойти в Детскую больницу.
20 [августа]. — Был в Детской больнице, там сказали, что послали, я не верил, а между тем, папенькино письмо когда прочитал, там увидел, что прислали уже. Оттуда пошёл к Вольфу, где выпил чаю в долг, оттуда к Славинскому, домой.
21-го и 22-го августа — были праздники. Провёл более лёжа и читая «Отеч. записки». Несколько переводил и «Нафана» для Никитенки.
23-го [августа], вторник. — У Никитенки был; ничего не удалось сказать, потому что говорил только он. Вечером был у Славинского, после у Ал. Фёд. ночевал.
24 [августа], среда. — Был у Плетнёва в другой раз, после домой, где пробыл и четверг. Плохо поправляюсь, а теперь даже похудел, должно быть, и в пятницу (был Мих. Павл. Соколов) не ходил, потому что Срезневского лекции не должно было быть.
27 [августа]. Думал получить деньги — однако нет. На лекции Плетнёв заметил худобу мою и советовал не изнурять себя. Вечером пошёл через Иванова к Славинскому, чтобы выпить чаю, после к Ал. Фёд., у которого было скверно спать. Да, из университета проводил Срезневского до его дома; он говорил со мною о моей работе; особенного ничего.
28-го [августа]. — Ал. Фёд. дал взаймы 3 р. сер.; 2 отдал Любиньке за долги. Весьма устал тогда, ну, да это в другой раз напишу, теперь лень и главное — холодно.
(Писано 4 сентября в 9 ч. 50 м. вечера.)
28-го [августа], воскресенье. — Ал. Фёд. провёл этот день у нас. Я ел больше, чем следует, и поэтому меня вырвало снова. Было не слишком, но довольно скучно и не решительно в хорошем расположении духа, хотя ничего.
29-го [августа], понедельник. — Ал. Фёд. вечером отправился в город. Было так же, как и в тот день.
30-го [августа], вторник. — Было весьма холодно у нас, я дрожал всё время. Большею частью лежал на диване под одеялом и читал Гизо.
31-го [августа], среда. — Был Вас. Петр., и я думаю, что в этот раз я был несколько полюбезнее, чем раньше, хотя весьма мало. Говорил несколько и о болезни моей, но более говорил о нём и его планах. [310]
Сентябрь
1 [сентября], четверг, провёл дома, читал несколько и Гизо, несколько и писал. Начал, кажется, читать вместе с Любинькою,— так, и даже в среду несколько читали.
2-го [сентября], пятница. — Пошёл к Срезневскому на лекцию, и он читал не весьма хорошо. Был у Устрялова и жалел, что должен был и теперь должен пропустить несколько лекций, потому что любопытны. После был у Вольфа, где думал застать «Отеч. записки», но не застал, чтобы почитать «Дженни Эйр», которая заинтересовала. Купил бумаги и, как увидел, весьма хорошей. Это меня обрадовало, т. е. хорошо идёт по ней перо.
3 [сентября], суббота. — Получил деньги 50 р. сер.; 25 р. в университет, 3 р. 25 к. Ал. Фёд. (25 к. за извозчика), 10 р. Вас. Петр., и сначала думал 10 р., а теперь 9 р., потому что так приходится (у меня 3 бумажки по 3 р. сер.) Любиньке, потому что совестно ничего не отдать. В пятницу был у Вас. Петр, вечером вместе с Залеманом. Оттуда шли вместе, и я всё утешал его насчёт кандидатства. В субботу хотел посмотреть квартиру у Зурова, теперь это всё равно, потому что Ал. Фёд. переехал к Аллезу и не будет жить у нас, а то мне хотелось доставить хоть это облегчение Терсинским. Но шёл дождь, поэтому не пошёл и к Вас. П., а из почтамта, купивши бумаги, пошёл в аптеку и после к Иванову, где до 5¼. Прочитал «Отеч. записки». «Дженни Эйр» 3-я часть не так хороша, как первые две, однако ничего. После домой.
4-го [сентября], воскресенье. — Кажется, что желудок несколько поправляется, хотя сейчас должен был сделать, чтобы вырвало, но это сам виноват, ел лапшенник и весьма много ел хлеба вечером с чаем, а чай был без молока. Был Пелопидов; мне это не было неприятно, хотя и не доставило удовольствия. Остальное время читал, проверяя с Любинькою, и теперь проверено до 170-й стр., и надписывал цифры — теперь надписано 1 520 строк или до 19-й строки 45-й страницы. Не знаю, пойду ли завтра в университет,— скорее нет. Теперь, может быть, съем что-нибудь и ложусь. Пью золототысячник с померанцевым листом, и, кажется, он несколько полезен.
5-го [сентября], ровно 12 час. утра. — Теперь прочитано, сию минуту кончил, до 6 770 г., т. е. кончены синие листки. Цифры выставлены теперь до 17-й строки 52-й страницы. Любинька ныне спросила денег, и я отдал 10 р. сер. Теперь не знаю, отдам ли Вас. Петр. 10 или 9, лучше 10. Мне, конечно, было совестно, что довёл до этого Любиньку; она, конечно, спросила взаймы, конечно, я дал так. Желудок, кажется, лучше, во всяком случае excrementa более, чем раньше было. Эти excrementa вообще меня занимают, и когда есть, то радуюсь, потому что считаю это признаком поправления желудка. Думал, не пойти ли ныне к Устрялову, однако не пошёл. [311]
Сколько времени должно употребить на летопись? Списать:
a) разграфить листы — 30 минут на 6 листков, следовательно, 7½ час.
b) переписать — по 60 строк на час (несколько менее 60, поэтому 8 520 получаю строк) — 142 ч. Итак, только переписать текст не разграфлённый — 150 ч.
c) проверить текст 25 страниц — одну по 20 м. (несколько менее, поэтому всего 24 полагаю), будет 8 ч., после: 40 страниц по 9 минут с Любинькою читая,— 360 м., или 6 часов. Наконец, остальные 120 стран. по 7½ м., или по 8 стр. в час — 15 ч. всего. Поставить цифры по 12 м. (несколько менее, поэтому только 180 стр. считаю) или 5 в час. — 36 ч.
Итого 215 часов.
Сколько времени нужно на разграфку — не знаю; верно тоже около 35 часов, и тогда было бы всего работы до разрезывания ровно 250 часов.
5 ч. 25 м. Теперь дочитал всё вместе с Любинькою. Ив. Гр. ещё не приходил из Сената, поэтому почти всё читали, кроме только того, [что] Любинька ходила часа на два гулять, а цифры теперь расставлены до конца 65-й страницы, т. е. 2 292-й строки.
(Писано 11-го, в 7 ч. 10 м. утра.) — Во вторник был у Никитенки, он думал, что стану что-нибудь читать, но стал читать свой Фельетон из «Полицейской газеты» Главинский. Я сделал несколько замечаний, в которых можно было видеть презрение, если угодно. Вечером пошёл к Иванову, читал там новые журналы, после к Вас. Петр., у которого до 9½, после к Ив. Вас. вместе с ним, чтоб ночевать. Но у него была в эту ночь должно быть его блядь, о которой он так смешно рассказывал Вас. Петр., и поэтому сказали, что его нет дома. Мы пошли всё-таки к его комнате — заперта, а он спрашивает в просонках «кто?» Итак, пошли. Я думал — домой идти или к Корелкину? Решился на последнее. Ночевал не без приятности.
7-го [сентября], среда. — Утром пошёл искать квартиры, искал более 2 часов на Васильевском острове и нашёл две, которые понравились всем, особенно своею близостью к университету. Пошёл сказать об этом Ив. Гр., чтоб посмотреть вместе. На мосту встретил живущий с Никоновым купец и попросил воротиться к нему, чтоб подписать, что я ему даю доверенность распоряжаться оставшимися после Пластова вещами, потому что отец его просил вместе и меня об этом, и теперь этого требует полиция. Пошёл. У Плетнёва написал записку Ив. Гр-чу, пошёл,— его не было в Сенате. Воротился и начал снова расставлять цифры, которых было выставлено так около ⅓ и выставил в этот день несколько.
8-го [сентября], в четверг — ещё более.
9-го [сентября], пятница,— утром также несколько, до 165 стр., я думаю, и пошёл в университет, взяв с собою несколько листков, чтоб не пропало время, когда буду дожидаться лекции; писал несколько. Лекция Устрялова была так нова, что пожалел, зачем не [312] бывал раньше в понедельник вместо среды, и теперь хочу делать так. Воротился домой и в этот вечер (переезжая тоже писал цифры и написал около страницы), и следующее утро писал цифры. Итак, оставалось только налиневать.
10-го [сентября], суббота. — Утром начал разлинёвывать. Синие чернила, стоя на солнце, полиняли и обратились просто в красноватую воду,— это ничего, не взбесило меня, хотя, конечно, взбесился бы в другое время. И так они были плохи, что жаль. Итак, стал графить чёрными и красными чернилами и карандашом, которых было весьма мало, так что ясно, что недостанет. Я боялся, что недостанет красных чернил, но достало. Топили баню, и я ходил. Рука от линевания сильно устала.
11-го сентября, [воскресенье]. — Как встал — линевал. Excrementa не было весь день почти ничего; это меня несколько беспокоило; хотя желудок днём ничего, а ночь на воскресенье просыпался-таки от бурчания и должен был пить золототысячник (да, тогда в аптеке дали вместо него тысячелистнику, но во вторник переменили так, это меня утешило). Любинька взяла рубль сер., итак, теперь недостанет отдать Ал. Фёд. денег. Думаю, уж не отдать ли ему 25 р. Утром приехал Горизонтов с женою и братом. Я не выходил в это время. Они пошли обедать к Карпову, профессору Духовной академии, мы остались, и когда сели обедать, молока не было, поэтому я поел супу и манной каши, думал, что это будет всё-таки нехорошо,— напротив, хотя и чай пил с сухарями,— ничего, совершенно спокойно. Как нельзя лучше провёл ночь, и бурчания и тяжести вечером не было. Карандаша недостало на 108-й странице, поэтому стал разлинёвывать только чернилами, оставляя для него места, чтобы разлиневать, как я думал, в городе, взяв у кого-нибудь карандаш, чтоб не отрываться. К 10 [ч.] вечера долиневал всё и хотя линевал более, чем в предыдущий день, рука устала менее. Вечером воротились Горизонтовы, я вышел, но они посидели только несколько минут. Утром мне послышалось, что Ив. Гр. сказал, что он приостанавливается исканием квартиры, потому что хлопочет о переходе в министерство юстиции. Я вздумал: если так, то спрошу его об этом, и если так, то попрошу Ол. Як., нельзя ли мне жить у него в это время. Но вечером он успокоил, сказавши Горизонтову, что проживёт 3–4 дня много, а может быть, уж неделю.
12-го [сентября]. — Не знаю, идти ли к Устрялову или нет. Склоняет идти, между прочим, то, что теперь погода хороша, а завтра идти будет бог знает по какой. Если пойду, возьму с собой недографлённые листы, чтоб дографить. Во вторник я у Никитенки должен читать, потому что сказал так, не знаю, что — вероятно, «Нафана», разбирать в то же время неудобства драматической формы, а может быть и о всеобщем языке.
Писано 24 сентября, в субботу, в 6 ч. утра. Итак, снова пропустил полторы недели.
Во вторник у Никитенки (да, в понедельник был у Устря[313]лова, после к Вольфу, оттуда ночевать к Ник. Павл. Корелкину) сказал, что у меня есть перевод «Нафана Мудрого», а если, нет, то я буду говорить о всеобщем языке. Никитенко отклонил «Нафана», и я стал говорить. Думал, что не успею дотянуть до конца лекции, но прочел только предисловие о том, что язык этот должен явиться и что он должен быть искусственным. Никитенко сказал комплимент, что весьма ясно и последовательно я говорил, и что если буду учителем, то хорошим. Следовательно, если встретится урок, он отрекомендует меня. Вечером домой на среду.
14-го [сентября]. — Там страшный холод, так что я решился к Олимпу как можно скорее перебраться. Да, карандаша у меня недостало долиневать раньше; поэтому, когда был у Корелкина, я взял у него чёрный карандаш и долиневал в аудитории. Теперь несколько разрезывал в 10 коробочек (1. — А, Б, Г; 2. — В; 3. — Д, Е, Ж, З; 4. — И; 5. — К, Л; 6. — М, Н; 7. — О, Р; 8. — П; 9. — С; 10. — Т и т. д.), но более, так как было чрезвычайно холодно (9 или 10 градусов и до 8), то лежал под одеялом, читая кое-как Гизо. Но был не совершенно недоволен, потому что это ускорило искание квартиры и переезд, а то бы ещё несколько дней прошло.
15-го [сентября], четверг. — Пошёл [к Ол. Як.], чтобы попроситься пожить, пока переедут (условились переехать в субботу непременно), у него. В канцелярии его не застал, а встретил на дороге. Он сказал, что очень можно; я был весьма рад и пошёл вечером к нему; он уехал.
16-го [сентября], пятницу, я провёл хорошо. Среди дня (лекций не было) был у Доминика — там лучше диван, чем у Вольфа; поэтому и потому, что всегда дают журналы, хочу бывать у него: Здесь истратил последние деньги, и булки к чаю покупала в долг Устинья.
17-го [сентября], суббота. — Среди дня ничего не ел; это несколько уж расстроило дух. Приехал Олимп и когда увидел, что запятнан стол в двух местах стеарином, рассердился. После стал разбирать бумаги, и я его более не видел. Утром говорит Устинья, что он весьма ругался, что я всё перетормошил. Я был в весьма дурном расположении оттого, что не ел и т. д., и от Олимпова свинства, и это окончательно поссорило меня в душе с Олимпом: что за педантство, чтоб всё не было пошелохнуто, за каждую пылинку ругает и, наконец, даже не мне, а ругает меня перед Устиньей. Кажется, наше близкое знакомство кончится этим делом, не знаю, однако. И велел сказать мне, чтоб я уходил скорее, потому что ждёт (как и раньше говорил, это правда) гостей из Гатчины. Ушёл в сердцах, но холодных и не раздражённый особенно, к Доминику — это было в понедельник уже,— или нет, ещё в субботу у Доминика — итак, заплатил 30 к., да у Доминика 15 к., да калач 5 к. Когда шёл оттуда, показалось, что потерял 10 к. сер., это раздосадовало. Пришёл к Доминику, купивши калача, и нашёл гривенник, а ходил к Славянскому, чтобы выпить чаю, однако не выпил и [314] скоро ушёл. Оттуда снова к Корелкину, где спал уже к своему удовольствию на полу, между тем как в прежние два раза это делал Попов, что мне было совестно.
Итак, теперь понедельник, 19-го [сентября]. — К Устрялову пошёл,— Вас. Петр. пришёл и сказал, что переменил квартиру, переехал в дом Сергиевской церкви, чтоб учить сына Орлова, квартира с дровами 25 р. асс. и порядочная. Это переменяло мою судьбу несколько. Итак, есть теперь надежда, что его дела поправятся и мои поэтому тоже. Можно надеяться, что Орлов достанет ему уроки ещё или место управляющего, как было и раньше достал у Озеровой (но другой священник успел перебить место). Приглашал ночевать к нему, потому что теперь можно. Я сказал, что буду, если только наши не переехали ещё, a куда переедут, я сам не знал. Был в самом дурном расположении духа, потому что надоело скитанье, да и как же в самом деле не надоесть! Вышел из университета — к Доминику. В 5 вышел с весьма слабою надеждою справиться в доме Кошанского об Ив. Гр.,— он говорил, что там есть квартира (виделся в последний раз в субботу; в понедельник не застал уже его в Сенате, и он, чудак, не оставил записки), которая мне, правда, не совершенно нравилась, но ничего, уж лучше, чем ничего. Хорошо. Дворник сказал, что они тут, ждут мебели. Это меня чрезвычайно обрадовало, чрезвычайно, что, наконец, кончаются эти путешествия и эти ночевки чёрт знает где. Они сидели у Маева, который был раньше в этой квартире (№ 8) (дом Кошанской в Большой Конюшенной, против Шведской церкви, от университета 1 250 шагов через мост); прождали мебели до 8 час. — нет. Решили более не ждать, и Любиньке остаться у Маева. Мы пошли ночевать. Сначала думали оба у Мих. Павл. Соколова, и на другой день, если не будет мебели, ехать мне на Кушелевку за ней. Это было неприятное ожидание для меня, но ничего. У Мих. Павл. красили комнаты, поэтому я пошёл к Вас. Петр. Квартирка порядочная, весьма тёплая, и теперь его жизнь, как кажется, должна перемениться. Сидели вечер, толковали о том, каково его теперь положение, и т. д. Я дописал лекции Неволина, которые начал списывать с Корелкиным утром в университете, до 4-й лекции.
20-го [сентября], вторник. — Пошёл в дом Кошанской — мебель привезена; я так и надеялся, это хорошо. Пошёл в радости в почтамт, получил там 5 р. сер. из Аткарска Любиньке, и бельё, и чай, и платок прислали из Саратова превосходный. Вечером, когда пришёл, было уже всё устроено и мне отвели последнюю комнату, может быть лучшую. Но докончу уже после, как обыкновенно раньше делал, у Фрейтага, а теперь за Гримма. Его стану писать, выпивши магнезии.
(Писано у Куторги на лекции в четверг,— или нет, некогда.) Продолжаю, пришедши на лекцию к Перро, дожидаясь его. 3 октября первая лекция, понедельник.
Итак, 20-го, во вторник, привезли мебель. Этому я был весьма рад; итак, избавился от хлопот и всё слава богу. Пошёл в поч[315]тамт; деньги 5 р. сер., на которые я уже было надеялся, были присланы Любиньке. После этого пошёл в университет. У Никитенки должен был читать Корелкин, но вместо того, чтоб читать, принёс Калевалу[336] — кажется, так её зовут,— финляндскую поэму. Мне хотелось, чтобы он вместо того, чтоб читать её, дал читать мне «Нафана»; однако, конечно, я ему этого не сказал, он читал. Вечер провел, разбирая разрезанное, что было удивительно медленно, так что привело меня в отчаяние. Отыскал из университета Ал. Фёд.
21-го, среда, 22-го [сентября], четверг. — В один из этих дней подошёл ко мне Воронин и сказал: «Не поедете ли вы со мною на дачу?» Так, это было в четверг. У меня мелькнула мысль, что, должно быть, что-нибудь сделать для него, потому что Корелкин (теперь как я вижу, по предположению ошибочному, между тем как раньше я думал, что он это знал) сказал мне, когда я ночевал у них, что с его братьями занимается Стасюлевич, так у меня явилось положительное знание, что я потерял безуспешностью своего преподавания уроки у них: мысль, которая явилась во мне ещё тогда, когда сказали весною, что Константин болен,— да ещё сначала ещё раньше, когда в начале прошлого года не возобновились уроки с маленькими его братьями. Я сказал ему своим мягким тоном, как бы делая ему услугу: «Когда вам угодно, с удовольствием». И обрадовался, думал, что вот открывается путь готовиться вместе к экзамену, т. е. получить деньги. Он продолжал: «А то мы остаёмся ещё долго на даче, потому что в доме поправляют, а между тем Костеньке не должно уже откладывать; маленькие братья могут погодить до переезда сюда». — Превосходно! Превосходно! Это меня весьма обрадовало как нельзя более — итак, снова источник этот получения денег открывается и снова мне можно будет давать больше Вас. Петр-чу и вместе с тем несколько давать и Терсинским, и оставлять и себе 3–4 р. сер. в месяц. Итак, всё устраивается лучше, чем я уже надеялся. Я был в большой радости.
23-го [сентября], пятница. — Так как через мою комнату, угольную, ходили из кухни, то я переселился в переднюю, чему сначала был рад, а теперь, может быть, стану раскаиваться, и со временем, может быть, снова перейду назад. В пятницу подошёл к Срезневскому и попросил у него Гримма; он сказал, что можно вечером. Я пошёл к нему, думая, что посижу,— не удалось, только взял и пошёл. Пришедши домой, почти всё время проспал. Смотри о записках Срезневского под «среда, 28».
24-го [сентября], суббота. — Так как увидел, что Гримма читать бесполезно, потому что всё позабудешь, то решился делать из него выписки; начал с вечера пятницы, продолжал этот день и воскресенье и почти совершенно кончил первый том 3-го издания Vocalismus; нового мало в методе, и без него я стал бы делать точно так же.
25-го [сентября], воскресенье. — В это время желудок у меня, казалось, всё поправлялся, но так как я ел говядину или суп, то [316] начинало рвать через день два раза. Я воспользовался для этого окном подле нашей двери; вдруг, только что кончил это дело, слышу ужасный шум: это поднялись жильцы нижних этажей, которых окна заливались моею рвотиною, они ругались с Марьею, про которую говорили, что она это выплёскивает помои. Мне это, конечно, было неприятно, но я решился промолчать по своему обыкновению, оставив постыдным образом её расплачиваться за мои грехи. — В предыдущие дни два раза был у Ал. Ф. по его просьбе, чтоб читать Histoire de la Révolution de Février, par Lamartine. Он писал так бессвязно, что, чтобы понять его, должно бы было читать со вниманием, а так как этого-то именно и не было, то я почти ничего не узнал оттуда, кроме того, что уже знал,— чего не знал, не мог сообразить, как это было. Да, я ошибся, думая, что праздник был в субботу,— нет, напротив, в понедельник; поэтому я писал Гримма 3 дня: несколько в субботу, после в воскресенье и понедельник.
26-го [сентября], понедельник. — Был около часу Корелкин, я ему обещал Гримма, и теперь он воспользовался этим обещанием, спросил его, что мне было неприятно, потому что проходит время. Мне хотелось как можно скорее разделаться с этими книгами и после снова за летопись, но вот он взял; к счастью, скоро воротит. Так как в субботу мне Любинька додала истраченные мною 3 р. сер. для 25, то я отдал их в университет, и мне велели в воскресенье получить свидетельство.
Во вторник, 27-го [сентября], я хотел быть у Штейнмана, получить свидетельство; в этот день был дождь. Мы условились с Ворониным в субботу, что я буду давать на даче по два урока, во вторник и пятницу, и могу после ночевать там или ворочаться, как мне угодно. Хорошо. Поэтому я сказал Любиньке, что в этот день не ворочусь и чтобы мне не готовили моей кашицы из пшена и молока, которую я выдумал есть после того, как Вас. Петр., застав меня раз за обедом моим из молока и гречневой каши, сказал, что эта каша тяжела. В первые дни эта кашица мне чрезвычайно нравилась. — Пришёл Перро.
Продолжаю у Фрейтага на лекции. — Перро мало понимал, потому что мало, кроме некоторых фраз, хорошо произносимых и вообще окончательных слов не мог расслышать звуков; однако, кажется, к концу лекции несколько более, но всё менее, чем надеялся.
Итак, 27-го пошёл к Штейнману, опоздал и это снова показалось мне как после, к моему счастью. Итак, пошёл в почтамт за деньгами: 10 р. сер. прислали для Любиньки. Когда воротился оттуда, пошёл в дежурную взять свидетельство. Когда стоял у стола, подошёл Никитенко и сказал: «А, это вы, весьма рад, подойдите ко мне, когда кончите, я имею вам нечто сказать». — Я думал, что уроки, и обрадовался. Хорошо. Подошёл, он говорит: «Скажите, пожалуйста,— у вас ведь, конечно, есть знакомые в кружке, окончившие курс,— кто есть из них, кто бы хорошо знал по-рус[317]ски и ещё не получил места? Видите, есть место старшего учителя в Пскове русской словесности; ждать некогда, поэтому до вас это место не может остаться». — Я сказал: «Гульельми». — «Да я ему уж доставил место». — «Так я поищу», сказал я, уже образумившись и припомнив, что Вас. Петр, хотел уже держать непременно этот экзамен. — «Ищите поскорее». — «В четверг», сказал я (потому что вечер думал у Ворониных). Итак, я был в радости: или место Вас. Петр., и тогда он и я выходим из затруднительного положения, или, если он не принимает этого места, что я думал тоже, то доставлю несколько услугу кому-нибудь из студентов, во-первых; во-вторых, во всяком случае, значит Никитенко хорошо обо мне думает, когда обращается ко мне с таким поручением, и значит я более всего курса могу на него рассчитывать. (Куторга в этот же день сказал, что из 4-го курса не примет новых, итак, связи с ним вероятно не будет, поэтому не должно рассчитывать на место учителя истории, чего скорее всего мне хотелось бы.) Во всяком случае, это хорошо. «Ах,— думал я,— как благоприятствует мне счастье: вот опоздал, и из этого опозданья выходит такое хорошее дело!» Воронин сказал, что урок завтра,— это уж не хорошо в отношении к обеду, но хорошо в [том] отношении, что ныне же могу увидеться с Вас. Петр.,— итак, ничего. После обеда пошёл к Вас. Петр., сказал ему — мешал мальчишка, сын Орлова,— он сказал, что слишком рад, как же теперь? Фрака нет, а должно явиться к Никитенке. Решили, что он приедет в университет и я поговорю с Никитенкой, можно ли подождать месяц, который, как мы решили, нужно для приготовления или для того, чтоб выписать ему аттестат, который избавит его от приготовительного экзамена. Я ушёл в самом хорошем расположении духа от него.
28-го [сентября], среда. — Дождался Никитенку, сказал ему: «Если бы вы, Александр Васильевич, могли сделать важное благодеяние не только для него, но и для меня, то я попросил бы вас, если можно, подождать месяц. Один мой, можно сказать, друг держит экзамен на старшего учителя и должен дожидаться своего аттестата об окончании курса во второстепенном учебном заведении для того, чтоб не держать гимназического курса». — «Да, но какой он человек, потому что ведь мне нужно же будет опереться на что-нибудь перед попечителем, когда он станет спрашивать, почему». — «Человек весьма умный». — «Так пусть он побывает у меня, потому что нужно же мне самому узнать его». — «Очень хорошо, когда?» — «В воскресенье, в 10 [час] утра». — Сказал Вас. Петровичу, и весьма хорошо всё нам казалось. Начали толковать о фраке, где его взять. Я говорил о Раеве, Виноградове Гавр. Григ., он не согласился, хотел сам достать у Залемана или Ив. Вас. Хорошо.
Из университета поехал к Воронину. Я решил тогда ночевать. Встретили как будто ничего. До обеда я озяб несколько; сели обедать, я ел всё, понадеялся, но вышло нехорошо, т. е. ничего особенного не было, решительно не слишком тяжело, но должно быть по[318]чувствовал, что следует, чтоб вырвало, и сделал это в отхожем месте, которое сделано как университетское, поэтому весьма удобно, тем более, что можно совершенно низко наклониться, потому что запаха решительно нет никакого, весьма хорошо. Да, в пятницу ту Срезневский сказал: «Если бы вы были так добры, что писали бы мои записки этого года». Я сказал: «Хорошо, только после масленицы». Но вечером вздумал: разве не всё равно? и сказал ему, когда был за Гриммом, что если ему нужно, то хоть и теперь. Он сказал, что теперь лучше,— так и мне показалось, по его способу выражения утром. Итак, стал писать и брал с собою к Воронину, но там ничего не успел. После обеда почти сейчас урок до 8 час, они считали один урок прежний, итак, это был уже второй, хорошо. После 8 час. предлагали мне ехать на извозчике, я остался. Вечер просидел с Ал. Степ, и приготовлялись вместе к латинскому классу. Он знает теперь гораздо лучше по-латыни, чем раньше, так что довольно хорошо знает. После, около 11 час., пошли спать. Мне было весьма хорошо, я долго читал статьи из Gegenwart[337] II том, продолжение, и Convers. Lexikon[338], почему этот вечер прошёл решительно ничего. Хорошо. Утром, как встали, должны были спешить в университет, где должно было Воронину подать сочинение Фрейтагу. Я его прочитал и показал там переправить несколько, но он не переправил почти, хотел на словах.
29-го [сентября], четверг. — Приехал с Ворониным. Так как он достал мне книгу, то я стал переводить, не весьма хорошо, но ничего. Из университета что я делал? Кажется, был у Ал. Ф. или он у нас. Нет, был, кажется, Вас. Петр., или писал Срезневского. Одним словом, день прошёл ничего.
30-го [сентября], пятница. — Воронин сказал, что нынче урока не будет, потому что всегда у них накануне Покрова большой молебен,— это не слишком хорошо было для меня,— а в следующие разы будут в среду и субботу; ну, это как угодно, конечно. Итак, воротился домой. Не было приготовлено кашицы, потому выпил чаю. Вечером пошёл отнести Гримма, взял I том 2-го издания. Оттуда идя, зашёл к Violet в кондитерскую, после к Вольфу и за чернилами в свою обычную лавку в доме Кошковского[339] подле Юнкера, где бумага мне нравится. Так проходил до 8, и когда воротился, должен был уже один пить чай. Так пришла суббота.
Октябрь
1 [октября], суббота. — Утром был у нас Ал. Фёд., пил кофе. Я несколько писал из Гримма (склонения), несколько для Срезневского, для которого уже и раньше написал 9 листиков, в этот день ещё 2 с лишком. За обедом кроме своей кашицы съел кусок говядины и показалось, что ничего, т. е. сначала была отрыжка, после и она прошла, так что не вырвало. Я думал, что теперь могу уже есть, но последнее воскресенье показало, что не годится, да и ве[319]чером съел пропасть хлеба с чаем; однако ничего. Да, вечером пришёл Вас. Петр, и мы потолковали с ним по прежнему, часа три сидели и большею частью толковали хорошо. Он хотел взять фрак у магистра здешней академии Княжинского, прийти ко мне в 8 час, надеть мои сапоги и идти к Никитенке. — Звонок.
(Писано 8-го числа в III аудитории на первой лекции.) Пришёл в университет в надежде, что может быть есть деньги, поэтому должно будет сходить в почтамт, но их нет. Думал, если так, переписывать для Срезневского лекции — забыл дома его бумажку; итак, должен теперь писать это.
2-го [октября], воскресенье. — Дожидался Вас. Петр.,— его не было. Ждал, ждал — его нет. Что такое? Наконец, решил, что должно быть он раздумал быть у Никитенки, и стало на душе тяжело. Так провёл этот день нехорошо. В 6 час. отнёс Срезневскому его книги, чтобы не развлекали от дела, тем более что хотел в следующий вечер быть для чтения журналов у Иванова, поэтому время прошло бы так. Как я пришёл к нему, он сказал (я отнёс ему ещё 5 листиков, всего поэтому 14, до конца его 3-ей лекции, так что оставалось переписать только один): «Скажите, г. Чернышевский, до какой степени владеете вы французским языком?» — «Не могу ни писать, ни говорить»,— сказал я. — «Я это спрашиваю потому, что через барона Мейендорфа обратились ко мне с просьбою отрекомендовать им учителя русского языка двое служащих во французском посольстве чиновников, М-r Буало и M-r Lallemand. Они хотели, чтоб я давал им уроки сам, я отказался, а сказал, что порекомендую из студентов, но что трудно сыскать, кто бы говорил по-французски». — «Я не знаю,— сказал я,— кто говорит: Корелкин так же, как я, Лыткин разве? Я спрошу, другого я не знаю». — «Да другого я не могу и рекомендовать, потому что сам не знаю». — «Из других курсов?» — «Нет, из вашего лучше, потому что, конечно, у вас я должен предполагать более методы и уменья». — «Так я спрошу; если Лыткин знает лучше меня, так я вам скажу; если нет, так сделайте милость, уж отрекомендуйте меня». — «Хорошо». — «А если не из студентов, то вот один человек, который хорошо говорит по-французски и которого, может быть, вы знаете — он бывает в университете — это Лободовский». — «Нет, не помню». — «Ну, так нечего делать, уж меня». — «А это было бы хорошо и в том отношении, что вы ближе узнали бы западную образованность: вы в душе русский, но увлечены Западом — до невозможности. Так вот вы бы и узнали его: боже мой, какая разница между этими людьми и между нашими молодыми людьми, состоящими при посольствах! Я знавал их в трёх посольствах, что это за люди! полные знаний, образованности, энергии; а здесь решительно противоположное: один из них, Lallemand, выдает себя ещё за филолога, а не знает греческой азбуки, т. е. вида их букв,— что за образование после этого?»
Я ушёл в восторге от того, что буду получать деньги и вместе выучусь по-французски, если удастся поступить мне, а не Лыткину. [320] Но на дороге лакей шпорою разорвал мне брюки, и это несколько поутишило мой восторг. Пришёл домой, напился чаю, Любинька зачинила брюки, и я пошёл к Вас. Петр., узнать, что он, как ему. Дорогой сделал, чтоб несколько вырвало. Погода была скверная, на душе нехорошо. Вас. Петр, велел подать свечу в другую комнату, потому что у них была сестра её, Александра, и сказал, что он не достал фрака у Княжинского, потому что неловко выставить причину, для которой ему нужно, и поэтому решился отложить. — «Как же теперь?» — «Да уж завтра приду увидеться с ним в университете, если не будут болеть зубы и не будет грязи». — Это меня разогорчило, и я начал выкуксывать перед ним мою печаль, смешанную с досадою. Это было оттого, что в сущности я через это был поставлен в неловкое, по моему мнению, положение перед Никитенкою этим невежливым неприходом в назначенное время; что через это отлагалась снова на неопределённое время самостоятельная жизнь Вас. Петр, и поэтому возможность не употреблять на него все деньги (тут кроме того, что не совестно будет перед Терсинскими, являлось мне употребление 3–4 руб. сер. на ветчину, калачи с душкою, посещение кондитерских, сладкие вещи от Елисеева или из Милютиных лавок и т. д.). Итак, снова это скверное, стеснённое решительно положение, которое, того и смотри, прорвётся перед нашими! И что за глупость не взять было мне фрака у Ал. Фёд., не спрашиваясь у Вас. Петр.? ведь известно, что сам он не достанет, так как же? Что это за глупая черта в характере не делать для другого, если он положительно не выскажет, что ему это нужно, хотя сам весьма хорошо знаешь, что ему это нужно; черта, от которой именно и терпят люди благородные или, как это сказать, не любящие надоедать просьбами, деликатные, думающие о том, чтоб не обременить, не поставить в затруднительное положение другого. А главное, что вот он заставляет Никитенку ждать, время всё проходит и, наконец, дело кончится тем, что он не выдержит экзамена, т. е. не будет держать его, и мы останемся с ним в подлецах перед Никитенкою, которого поставим в самое неловкое положение. Так от этого всего я сильно досадовал и стал вымещать свою досаду тоскливыми речами на Вас. Петровиче, который оправдывался как мог. Я решился достать ему, не спрашивая его, фрак, чтобы он был у Никитенки и сам сказал ему, хочет или нет держать экзамен. Он решился не быть у него, а быть в университете, чтоб переговорить с ним на лекции. Ушёл от него, конечно, в самом скверном расположении духа, которое увеличивалось ещё тем, что я так неловко вёл разговор и свои упрёки, что вместо того, чтоб склонить его думать так, что он не был у Никитенки случайно и будет, как достанет фрак, ещё развил в нём и себе мысль, что это он не был с намерением по решимости, потому что не должно и не хочется ему быть у Никитенки, потому что это слишком неловко. Скверно.
3-го [октября], понедельник. — Решился на всякий случай приучиться понимать по-французски и поэтому пошёл к Перро, что и [321] записал раньше, кажется — нет, Не найду, где это. Раздосадовало несколько то, что понимаю гораздо менее, чем надеялся. У Фрейтага написал Лыткину, подле которого сидел, на бумаге вопрос, говорит ли по-французски, прямо сказавши, в чём дело, только не положительно, а «может представиться случай». Он сказал, что говорит, но с русскими, а с французами говорить трудно. А по окончании лекции, когда я рассказал ему, он отказался, сказавши, что ему и некогда. Это меня обрадовало; итак, я теперь поступлю, если будут просить они Срезневского, с спокойною совестью, между тем как раньше хотел несколько покривить душою, когда услышал ответ: «говорю, но плохо»,— всё же, конечно, лучше меня, который не понимает, что говорят по-французски. А я, однако, хотел сказать Срезневскому, чтоб меня, а не его. Итак, теперь с чистою совестью скажу Срезневскому, чтобы рекомендовал меня, чистою, потому что Лыткин сам отказался. Воротился домой в весёлом от этого расположении духа: одним камнем двух зайцев или трёх убью: буду получать деньги, которые так нужны, познакомлюсь с людьми, с которыми познакомиться интересно, и выучусь по-французски, что давно хотел, только не знал, как приняться за это дело,— ведь я хотел уже бывать на лекциях французских поэтому.
Продолжаю уже после звонка, когда, уж народ шумит в коридоре. Воротился с твёрдым намерением (продолжаю в понедельник, 10 ч., дожидаясь Перро на первой лекции) достать фрак Вас. Петр., чтоб мог идти к Никитенке. Как пообедал, действительно пошёл и, чтоб не сказывать для [чего] нужен для Вас. Петр., придумывал дорогою, как сказать, и выдумал, что это нужно потому, что разыгрывают у Ворониных (я ему уже говорил, когда ночевал не дома, что это я был у них) — сначала хотел сказать: какую-нибудь Гоголеву пьесу; после придумывал, какую же, не мог выбрать, где для меня роль, наконец, вздумал, что лучше всего сказать, что мою пьесу, какую же? — «Учитель», будет разыгрывать всё семейство, кроме отца и матери, я буду учитель, поэтому нужен фрак, а впрочем можно, если нельзя, обойтись и без него. Так и сказал. Он дал без отговорок, хотя сначала соображал, завтра или послезавтра лучше быть ему у своего будущего начальника отделения (как бишь его фамилия?). Как встали они из-за стола, мы пошли. Я напился чаю и к Вас. Петр., там оставил, не сказавши ни слова, только что до завтра.
Вторник, 4-го [октября]. — Утром Вас. Петр, пришёл в университет. Никитенки не было ни в этот день, ни вчера, потому что был болен. Пришёл он в сюртуке и сказал, что я нехорошо сделал, что принёс фрак, потому что у них ведь была Алекс. Ег., а ему не хотелось бы, чтоб она это знала, и решительно отказался быть у Никитенки и просить этого места: «Не успею, потому что мало ли что может случиться, и поставлю Никитенку в неприятное положение». — «Так принесите ныне фрак». — «Хорошо». — Из университета, пообедавши дома, пришёл он. Снова стали толковать, особенно когда наши ушли гулять, толковали довольно много. Ре[322]шил так он, что не будет входить в обязательства, потому что может изменить им, и это тогда поставит и Никитенку, и меня, и его в скверное положение, меня и его перед Никитенкой, Никитенку перед попечителем. «Итак, я отказываюсь от условий относительно этого места; экзамен на старшего учителя держать буду непременно на этой же трети, до рождества, обязавшись перед вами, если хотите, а когда будет звание учителя, место найдётся здесь, потому что есть протекции: Муравьев, Полозов, даже княгиня Белосельская, да и Казанский всегда может доставить». — «Хорошо, итак, вы держите, а теперь отказываетесь». — «Да». — «Итак, я завтра скажу об этом Никитенке, что вы больны и поэтому не можете».
5-го [октября], среда. — Утром у Никитенки, поэтому не мог быть у Перро. Застал дома, сказал, что болен. Он сказал, что попечитель два раза писал ему письма об этом, и, наконец, он должен был отвечать, что не имеет в виду никого. Итак, это и хорошо, что Вас. Петр., решился отказаться, потому что если бы и не решился, было бы уже поздно, когда не был в воскресенье. Никитенко был так деликатен, что моё положение и объяснение с ним не имело ничего неприятного. Из университета к Ворониным, где снова обедал весьма много: было четыре блюда, и я ел всего помногу. Особенно дурно сделал, что поел последнего, какого-то пирожного, которое с маслом, пшеном, должно быть, яйцами и т. д. и должно быть весьма тяжело. Однако особенного ничего не было, и когда после чаю сказали мне, что мне можно ехать (это мне было отчасти вот как: или уж, когда ночевал я у них, не было ли сделано мною что-нибудь такое, что заставило их не желать дальнейших моих ночёвок?), я на дороге сделал, чтоб меня вырвало, однако, не весьма много. Начиная, кажется, с этого дня, снова начались почти как следует excrementa. — Видно, Перро не придёт, поэтому принимаюсь за дописывание лекции последней для Срезневского, потому что мне весьма хотелось вчера вечером и ныне хочется отдать ему листки его и именно 25, а не 24, которые теперь написаны, так, чтобы не оставалось уже за мною ничего, кроме самого последнего листка, который нельзя отдавать, потому что не дописан.
(Продолжаю у Фрейтага на 3-й лекции.) 6-го. четверг. — Что делал в этот день? Был у Штейнмана первый раз, потолковал несколько с ним, когда была возможность. Вечером писал несколько для словаря, несколько для Срезневского.
7-го [октября], пятница. — Утром дописал Срезневского лекцию предыдущую, т. е. 18 листиков, и решился взять в университет, надеясь, однако, что велит относить домой; однако, ничего, взял. У Устрялова Воронин, когда кончилось, подошёл и попросил ехать с ним,— хорошо, а я думал, что рассыхается снова, нет, нисколько; и как я глуп с своею мнительностью. Мне только то было несколько нехорошо, что готовили для меня обед, а я не буду, да и то, что Вас. Петр. хотел быть в этот день у меня, а меня не будет. Итак, [323] отправился с Ворониным в карете, в которой сидел ещё тот человек, которого я видел у них, довольно полный, или родственник, или какой-нибудь главный управляющий. Дорогою толковали о банях довольно много. Приехали, пошли в биллиардную дожидаться обеда. Я взял из «Die Gegenwart» das Deutsche Vorparlament и читал. После обедали. Я много ел, напр., котлетки две и большие довольно. После обеда был я в следующей комнате, и как увидел здесь, что гораздо более фамильярности между семейством Ворониных и живущими у них молодыми людьми, то и я стал гораздо свободнее и не так смирен. После этого стали заниматься до чаю. После входит их гувернёр и говорит: «Идите пить чай, дрожки готовы». Я пошёл. За чаем была мать только, потому что отца и за обедом не было. Да, в прошлый урок, когда мы переводили на латинский, и тут сидел старичок, который вроде надзирателя за маленькими сыновьями и которого прежде не было,— нам попалось invado[340] должно было сделать perfectum[341], я сказал invasi, он сказал по-французски, я разобрать хорошенько не мог, но кажется: «N'est ce pas, Mr,— invado, invadi, invasum, invadere, n'est ce pas, Mr?» Это меня смутило и смешало, что (как мне показалось, однако, я не знаю, так ли) уличает в ошибке, и я сказал: «Да», и сделал форму invadi, а между тем, когда после Константин вышел, я-таки посмотрел в словарь у Кошанского, хотя был уверен, что ошибся, сказав раньше invasi, и мне представлялось, что этот человек вроде наших прежних знатоков латыни, напр., хоть папенька, который всегда лучше меня знает грамматику, хотя уже 20 лет не занимается ею; посмотрел — о, счастье, invasi — это меня утешило решительно. А в этот урок в пятницу (сейчас Фрейтаг спросил, что я пишу на такой elegantiore papyro — я сказал, что такую привычку имею. После, так как Нейлисов не мог перевести, спросил — «tu potes fortasse adjuvare eum» — это была VII elegia около должно быть 20–25-го стиха, там Tyros что-то,— а у меня не было книги; конечно, я молчал, потому что вместо Тибулла у меня был Овидий; спасибо Залеман сказал скоро, как должно) я должен был сделать, чтоб меня вырвало у них, и в среду, когда мы ехали от них, я сделал, чтоб меня вырвало. Когда напился чаю, поехал домой. Когда всходил на лестницу, попался Ал. Ф., который в то время сходил с лестницы; воротился, посидел с полчаса или несколько менее, после ушёл. Я пошёл к Доминику, не вытерпел, хотя денег не мог уплатить, потому что только 20 к. сер. было, а-таки хотелось как можно скорее узнать характер «Северного обозрения»[342], чтобы узнать, можно ли отправить туда статью или нет по духу его, т. е. повесть об этом. Однако, после всё-таки или позабыл спросить, или теперь ошибся и пошёл так, а не для «Северного обозрения», потому что его не спросил теперь, а в следующий день. [324]
8 [октября], суббота. — На лекциях спросил у Корелкина, будет ли он читать у Никитенки, чтоб знать, нельзя ли прочитать повесть свою. Сказал, что ничего. Итак, я должен приготовиться ко вторнику. Хорошо. Он принёс всё-таки вместе с тем записки Срезневского для Залемана. Я взял их, обещаясь принести в этот вечер или воскресенье утром. Решился быть у Вас. Петр.
(Писано у Фрейтага 13-го в четверг на лекции.) В субботу 8-го вечером пошёл к Вас. Петр. Отнёс, кажется, что-то — да, именно листки от Славинского «Débats» с твёрдой решимостью после быть у Иванова, чтобы прочитать «Северное обозрение», чтоб узнать его дух и то, можно ли будет послать в него свою повесть. Но пришёл к Иванову — у него нет «Сев. обозрения». Взял на последние 15 к. сер. всё-таки чашку чаю, купивши, чтобы разменять двугривенный, на 5 к. сер. в одной булочной сухариков, так всегда буду делать, чтобы покупать таких сухарей, когда буду в кондитерских, так как весьма хорошо с ними пить. Итак, просидел там недолго и после пошёл к Славинскому взять Лоренца Историю, которую просил взять Вас. Петр., и взял действительно. В 9 ч. почти воротился домой, но не утерпел и пошёл посмотреть, нет ли «Сев. обозрения» у Доминика — нет. Пришёл домой и начал переписывать для Срезневского, потому что хотелось в понедельник принести ему, а пошёл к Доминику, потому что взял у Залемана записки Корелкина Срезневского, обещался принести ему в тот же день или утром на другой. Пошедши к Вас. Петр., забыл к своей досаде его, теперь должен буду отнести ему. Вас. Петр, сказал мне, что он с четверга поступает служить в квартал, но говорил, что, во-первых, там настоящий ад — это бы, говорит, ещё ничего, но должно будет ему там бывать с 8 до 12 и с 6 до 12, поэтому нельзя заниматься с сыном Орлова, поэтому должно что-нибудь бросить, и поэтому он говорит, что ныне поговорит с Орловым; если тот будет давать по 15 р. сер., он бросит квартал. Когда был в понедельник, сказал, что тот обещался, если будет хороший приход, и что он бросит квартал уже по одному тому, что тот чиновник, который нанимал его от себя, требовал его паспорта.
Итак, вечером я написал два листика Срезневского и лёг раздумывать, какую, т. е. о чём, писать повесть — вывести ли главным лицом Вас. Петр, и его характер и то, как подобным людям тяжело жить на свете, или о том, как вообще тяжела участь женщины, или, наконец, о том, как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни, как тут овладевают им и сомнение в этих убеждениях, и нерешительность, и непоследовательность, и, наконец, эгоизм действует сильнее, чем в случаях, когда он должен отвергать его для общепринятых уже в свете правил и т. д. — Лежал и всё думал и, наконец, выбрал последнее, так с тем и уснул. Прежде всего родилось положение мужа к жене, как он не решается быть таким мужем, быть в таких отношениях к жене, как должен по своим убеждениям; также положение отца перед сыном: [325] а) выбирающим род жизни, б) желающим жениться; и перед дочерью, желающею выйти замуж (а теперь вздумалось ещё — желающею быть актрисою, это чудесно — или писательницею). Но это уже весьма поздний период жизни, а раньше должно изобразить важнейшие случаи жизни этого человека,— так как третье по времени — отношение к детям, второе — отношение к жене, первое — отношение к женщинам до женитьбы. И когда встал поутру, с тем, чтобы писать, только стал думать об этом первом периоде, и развилась мысль, что не женился, когда должен был жениться. Второе — из этого старается устроить женитьбу, которую по своему убеждению не должен был устраивать. Второе по времени должно быть раньше и лучше всего относиться к той же женщине. Между отношениями к жене и с детьми войдут какие-нибудь отношения служебные и светские. Так развивалось постепенно. Писал в этот день поэтому повесть[343], написал всего 3 первые страницы, кажется, 160 строк; кроме того, писал лекцию Срезневского и дописал почти всю, так что оставалось только один листик дописать, поэтому 24 листика всего или в этот день 4 листика, и прочитал их для поправления. В понедельник пошёл снова к Перро, после писал в лекцию, чтоб дописать Срезневскому, и передал ему на четвёртой лекции эти листики, всего 25,— это почти ⅕ доля всего; итак, всего будет около 125.
(Писано у Фрейтага на лекции в понедельник, 17-го.) Вечером в понедельник писал несколько свою повесть, что должно разуметь и о всех следующих днях до воскресенья, когда утром дописал последнее, т. е. когда дописал в субботу вечером до смерти Владимира Петровича, писал предисловие, которое заняло 80 строк, чего я не ждал.
Во вторник снова писал свою повесть; утром у Никитенки хотел читать; он отклонил, сказавши, что лучше прочитает один в рукописи, если я доставлю (Я доставлю потому, что это более лёгкий путь, если ему понравится, а если не понравится, то ведь, конечно, он не продержит более недели, и поэтому замедление небольшое будет), поэтому должен был я, чего решительно не думал, говорить снова и сказал о драматической форме, в которой, как стал доказывать, это всегда есть стеснительность. Он говорил, что никогда не замечал, чтобы от неё выходили крайности[344], как я говорил, у Шекспира и др., которые владеют ею, напр., ничего подобного нет в «Макбете». — «Если позволите, я разберу его в следующий раз, теперь не могу, потому что плохо знаю». — «Весьма хорошо». — Итак, должен буду доставать его. Хотел взять из библиотеки Юнгмейстера, но, однако, у него уж не выдают томами; итак, должен доставать в других местах, лучше всего у самого Никитенки. Вечером писал снова несколько свою повесть; характеры постепенно развивались и положения тоже. Жаль, что я не [326] писал в то время этих записок, как постепенно развивалась повесть эта.
(Да, во вторник купил халат, это должно написать. См. следующую страницу в конце. — Вторник, к концу предыдущей страницы, о халате, который купил 11 октября.) Так как пальто моё почти доносилось, то я стал: подумывать, что буду носить после. Всё думал о том, что должно купить пальто, но денег, конечно, нет и не будет,— что делать? оно стоит 5 или лучше 10 р. сер. — Вдруг в первых числах октября родилась мысль о халате. Решено, сказал Марье, чтоб позвала татарина с халатами, как увидит; с неделю прошло так; наконец, во вторник пришёл татарин. Весьма хорошо,— стал торговать халат, который, главное, решился [купить] потому, что можно — отчасти, во всяком случае,— заплатить за него вместо денег старым платьем,— вынес платье. Я пил чай, читал «Современник» и торговался. Наконец, уступил за двое старых брюк, которые попросил за 1 р. 50 к. сер. обое, и 1 р. 50 к. сер. деньгами, которые взял у Любиньки. Весьма был рад, главное потому, что теперь не нужно так хлопотливо одеваться утром, почти не надевать брюк, да и весьма легок, да и, главное, весьма тёплый, так что, напр., теперь 18° в комнате, мне даже несколько жарко, даже и в 17° уже, если угодно, несколько слишком тепло; в 15° кажется только впору. По крайней мере, вчера было 15°, и я ничего не чувствовал, не заметил и потом. Обеспечил себя довольно надолго с этой стороны от расходов (это писано в 40 м. первого ночи, 17 окт.).
Среда, [12 октября]. — Итак, пошёл к Перро снова — его не было. Мы говорили с Голубевым, этим чудаком, студентом 3-го курса; после я писал свою повесть до 3-й лекции. Вечером поехал к Ворониным, снова много ел и снова вырвало, и снова воротился к 9 часам. Хорошо. Никитенку не мог догнать, поэтому так и не сказал, что книги нет; в нашей библиотеке нет также. Где взять? Когда ехал с Ворониным, я спросил у него — есть английский, переводов Шекспира нет. Что делать? Приехавши от Ворониных, писал несколько снова.
Четверг, 13-го октября. — Так как у меня был Вас. Петр., то вечером решился быть у него и был, разумеется, на минуту, а в университете спросил,— почти без всякой надежды, что есть,— у Сидонского Шекспира. К счастью, у него есть, и он обещался принести на другой день.
Пятница, 14-го [октября]. — Срезневский был и ничего не сказал, только прочитал по своей книге лекцию. Я спросил книгу, он сказал, что не может дать, потому что по этому экземпляру поправляет свою речь. Итак, я отложил до того времени, когда получу книгу, переписывать лекции. Вечером писал снова свою повесть, кроме неё ничего почти, однако несколько страниц «Макбета» прочитал — особенного ничего нет, не могу понимать красот.
15-го [октября], суббота. — Утром пошёл в университет с некоторою надеждою получить деньги пораньше. Ел хлеба с чаем [327] весьма много, и поэтому отрыжка была. Из университета, где Плетнёв предложил писать себе на темы — довольно пошлые, но особенного ничего, [на] эти темы я буду писать на две и на одну тотчас по окончании переписки своей повести; это хорошо, что можно будет и с ним сблизиться. Получил деньги, но только 10 р. сер. Итак, если отдать Любиньке, то останется только 4 р. 35 к., поэтому не могу отдать долга за сапоги Фрицу, и тоже не стоит давать 3 р. сер., поэтому лучше всего отдать для поддержания взаимных услуг Ал. Ф., который несколько раз говорил об этом. Из университета поехал к Ворониным, там занялся до обеда, это прекрасно, и после обеда несколько, и в 6 ч. выехал оттуда вместе с Александром, который ехал в театр, и их доктором. Александр дорогою, говоря с доктором обо мне, запнулся, желал назвать меня по имени, потому что мне слышно было, но не помнил, и через это сказал «Чернышевский». Это меня уязвило и то, что довезли только до Полицейского моста, а не до места, но особенного ничего. Напился чаю дома, хоть уже наши напились, и поэтому с досадою пил. Так [как] сделал, чтоб вырвало, ночь спал весьма хорошо. Дописал свою повесть, т. е. первую часть её, которая кончается смертью Владимира Петровича. Отдал 10 р. сер. Любиньке.
В воскресенье утром, напившись чаю, пошёл к Ал. Фёд., чтоб предложить деньги, потому что хотелось разменять и в тот же день отдать Любиньке свой долг, который теперь решился отдавать не весь, а целковый оставить за собою. У Ал. Фёд. сдачи не было, поэтому условились, что я принесу завтра. Я надеялся, однако, что 3 р. сер. слишком мало, и поэтому он не возьмёт,— а взял, это скверно,— я собственно для того и пошёл, чтоб он отказался, и тогда можно будет мне отдать их Вас. Петр., которого ждал в этот день. Оттуда зашёл остричься к Victor, y которого скверно то, что вместо 15 к. взяли 20 к. сер., поэтому вперёд буду уже у Иванова, оттуда к Вольфу, где с час просидел и почувствовал снова прежнее довольство, сидя и читая газеты. В 11 ч. пришёл домой и хорошо сделал, потому что Вас. Петр. дожидался. К Ал. Фёд. ходил между прочим и затем, чтобы узнать, нет ли у него знакомых в Палате Государственных Имуществ, чтоб место там канцелярского для Вас. Петр.,— нет, сказал. — Итак, когда я воротился, Вас. Петр. уже дожидался меня, просидел до часу; Любинька так была мила, что сделала кофе. После этого я стал писать предисловие, которое начал писать вчера, и когда дописал, то стал поправлять его, чтоб переписывать — весьма медленно, времени несколько нужно на поправку, несколько на то, чтобы писать. Поправил менее 1½ стран. Когда ушли гулять Терсинские, я сказал, что буду обедать один, и тотчас стал,— это мне было лучше, потому что сахару можно было украсть, для того, чтобы есть с кашицею. К моему удовольствию, были ещё макароны, которых также я поел. На кашицу, которая весьма понравилась с сахаром,— кусок, на макароны также, и как [328] кончил, ушёл к Вольфу почти в три часа; зашёл к Иванову в булочную купить сухарей, но когда купил на 5 к. сер., увидел, что позабыл 2 куска сахару, которые приготовил для чаю у Вольфа; воротился за ними. У Вольфа прочитал «Дженни Эйр»; «Северного обозрения» и у него нет. Когда вошёл, стоял тот мальчик лет 16 или 17, такой неуклюжий, широкоплечий, мужиковатый, с которым мы такие приятели. Я попросил у него чаю, спросил — «Северного обозрения» нет, поэтому попросил «Отеч. записки» — тотчас подал. Я напился чаю с удовольствием, отчасти с их, отчасти с Иванова сухарями и весьма хорошо. Спросил у него, чтоб поддержать приязнь, что его так долго не было видно. Он сказал, что теперь на кухне и здесь только на время, потому что другой мальчик ушёл. Когда принесли «Staats-Anzeiger» новый, он сам мне подал его, такой милый; это хорошо, что мы с ним такие друзья; и «Siècle»[345] тоже, когда спросил, есть ли новый, мне подали тотчас, ещё не вставленный; весьма хорошо. Просидел там до 6½, после домой, где с комфортом напился чаю. После стал писать повесть, написал 1¾ стран., прочитал с лексиконом 40 стр. «Макбета», и это заняло до часу. Когда стал отдавать Любиньке деньги, она не хотела взять, потому что, говорит, если уж так, то я должна 10 р. сер., взявши раньше. Хорошо, если б не взяла, можно было бы Вас. Петр.,— нет, однако, когда утром снова предложил, взяла. Конечно, совестно перед ней, что на их счёт живу. Когда стал вынимать деньги, оказалось, что в кондитерской 20 к. сер. потерял, а вчера думал, что 30, это огорчило. Ночью было весьма много excrementa, так что облегчило от них желудок. Вообще день до самого вечера прошёл ничего, довольно хорошо.
17-го [октября], понедельник. — Хочу с этого дня каждый вечер снова писать эти записки, а у Фрейтага может быть и не стану уж, потому что лучше слушать его и говорить с ним. Хорошо. Утром дочитал «Макбета» и пошёл. Заходил везде, спрашивал в лавках Катулла — нет маленького издания нигде, так [что] должно будет взять в библиотеке; это хорошо, 30 к. сер. останется в кармане, и вознаграждается вчерашняя потеря. Из университета пришёл, поел супу и говядины, кроме кашицы, после лёг и уснул до 7 слишком час. Днём заходил из университета отдать Ал. Фёд., где видел Conseiller du peuple, Lamartine, и может быть завтра пойду к нему. Когда пил чай после этого, скоро пришёл Ал. Фёд., просидел ½ часа. Итак, я писал только с 9¾ до 12½, написал более двух страниц и дописал как раз до начала мыслей, что «этот человек должен бороться и с самим собою, кроме того, что должен бороться, как мы видим, против общества». Выходит теперь по расчёту, что это будет ровно 100 стран. в «Отеч. записках», куда, конечно, я думаю, скорее всего обратится Никитенко, если ему покажется, что можно; если нет — я сам должен буду, так тоже туда и верно лично к Краевскому. Теперь 50 минут 11-го. [329]
(Писано 19-го на второй лекции.) Вторник, 18 [октября]. — Весьма глупо истратил день. Утром переписывал повесть до 10, конечно, потому, что к Штейнману теперь я хожу, к Грефе нет; впрочем, Грефе был болен и теперь был в первый раз. Из университета когда пришёл, поел две котлетки; это было дурно; хотя не вырвало ничем, кроме воды, что я сделал перед чаем в 8 [час], но всё не хорошо, была отрыжка из глубины желудка говядиною. Пошёл-таки, как думал, к Ал. Фёд. читать Conseiller du peuple, хотя совершенно не было любопытно. Выкурил у него две трубки для уничтожения отрыжки и по крайней мере хоть то хорошо, что G. Sand «La petite Fadette»[346] позволил взять посмотреть, а после даст «L'oeil de Boeuf», хроники XV и XIV Людовика, хоть то хорошо, что буду брать книги. Итак, был у Ал. Фёд., после его просил к нам, он и пошёл, до 9 просидел, после я спал, потому что отрыжка. Так потерял день совершенно. Весьма досадно теперь.
Среда, 19-го [октября]. — В 6 с небольшим встал, написал 1½ страницы и пошёл к Перро, которого не было, поэтому первую лекцию поправлял повесть для переписки, вторую отчасти сидел в библиотеке, а теперь снова буду поправлять. Да, когда шёл сюда, т. е. в университет, думал, что делать с Куторгою. Решился, если не буду писать на медаль, подам ему диссертацию на кандидата — это весьма хорошо, так будет всё равно. А писать на медаль уже верно не удастся. Сердце как-то тоскует, тоскует, тоскует.
(Писано в пятницу в 35 м. 10-го утра.) Из университета, где была ужасная тоска оттого, что даром пропускаю время, поехал к Ворониным; у них обедал, как обычно, даже ел сдобный пирог с вареньем и не вырвало,— весьма хорошо, весьма хорошо. Когда воротился от них в 8½, был у нас Ал. Фёд., который до половины 10-го почти просидел. Когда он ушёл, я лёг читать, потому что писать было неудобно, потому что ворчало в животе после обеда у Ворониных, и уснул.
20-го [октября], четверг. — Проснулся в 4 часа и сел писать свою повесть. Писал с небольшими перерывами до часу и написал более 5½ стр., потом вечером ещё поболее страницы, так что около 7 в этот день. Поэтому в университете когда был, тягость от сердца отошла более, потому что таки идёт вперёд дело. Когда воротился, думал, если не будет Вас. Петр., идти к нему, но он пришёл. Он будет давать три урока в неделю у Залемана по 50 к. сер. Это не слишком хорошо, но всё лучше, чем ничего. Принёс «Débats», который вечером отдал я Ал. Фёд. — После Вас. Петр. я большею частью возился с трубкою и «Débats» и «Fadette», после с чаем (Терсинские уходили в гости), так что до прихода Ал. Фёд. в 7 час. написал только немного более страницы. На странице 3800–4000 букв, я пишу её больше часа. — Он просидел до 9, взял ещё рубль сер., который я мог дать, потому что Марья, которой я поручил продать старую одежу, при[330]несла мне 1 р. 10 к. сер. за сапоги, да теперь 25 к. сер. за фуражку, 30 к. сер. за бедуин; поэтому на неделю денег достанет. Он говорил ныне принести «Débats». В среду я взял Катулла и т. д., издание в 12° в Роттердаме 1805 г., итак 30 к. сер. осталось в кармане, и кроме этого поставил себя в приятную необходимость возвратить книги, которые давно лежали. Уснул рано.
21 [октября], пятница. — Проснулся в 7 час. и успел написать несколько более 1½ стр., так что теперь написано 15 страниц до места, где говорится: «кроме жалованья, доходов не было у Ясенева, поэтому только концы с концами сходились». Иду в университет; решил это писать дома, а у Фрейтага слушать и записывать. Дурно то, что пропадает урок завтра у Ворониных, но как-то, ничего — скорее кончу свою переписку.
(Писано снова в пятницу у Фрейтага 28-го.) В пятницу ничего, в субботу был праздник, поэтому просидел дома, переписывая свою повесть, написал всё-таки не так много, как думал.
22-го [октября], суббота. — Утром понёс Вас. Петр. газеты, его не застал дома, поэтому пошёл домой. Был у Славинского, который именинник, поэтому просил обедать,— я не согласился, поэтому хоть вечером. Я не знал, буду ли. Хорошо, я сказал, что может быть буду. Когда шёл домой, у здания, которым кончается улица Б. Конюшенная,— большое, длинное,— встретился Вас. Петр., который был у меня; сказал: «Достаньте фрак, вот чего ради — мне нужно быть у одного человека». Я позвал его к себе, он зашёл на минуту и сказал: «Это вот зачем: я был у Щепкина и просился в московский театр, он сказал, что можно, только должен раньше побывать, для того, чтобы справиться об отметке, которую мне поставили здесь, когда я испытывался, у директора». — «Хорошо. Итак, вы едете в Москву?» — «Да, еду». — «Твёрдо?» — «Твёрдо, если только получу деньги из общества посещения бедных так, чтоб было на что доехать». — Я обрадовался: итак, я выхожу из своего стеснительного положения, начинаю платить деньги Терсинским, сам пользоваться удовольствиями, которые хочется иметь, изредка и сладким, но нельзя сказать, чтобы не было тягостно несколько за Вас. Петр.: ведь это такой большой риск ехать в Москву: здесь у него всё-таки были знакомые, между прочим я, которые его поддерживали, и здесь он всё-таки мог надеяться того — другого, а там? Но зато, если поступит, так и будет там жить сколько-нибудь похоже на других, а здесь что за жизнь. Итак, он просидел у меня до часу, после ушёл. Я стал писать до обеда, т. е. с час. Наши ушли, я пообедал один с наслаждением с полчаса и пошёл к Вольфу, где просидел около 3 часов, также с удовольствием, и, наконец, пошёл к Славинскому. Когда пришёл, отца его не было, мы дожидались, после сели играть в карты. Я сначала думал, что проиграю, потому что решительно не умею играть, но уже к концу стал играть, несколько больше понимая, хотя всё ещё весьма мало, и так как я играл с [331] осторожностью, то ровно ничего не проиграл, даже ещё выиграл один приз и теперь могу всегда садиться с обыкновенными игроками, не боясь много проиграться. Так прошло до 11 [час.]. Когда шёл туда, должен был сделать, чтоб вырвало, потому что ел много дома лепёшечек из яблок, которые тяжелы. Когда сидел у них, туда пришёл Лавровский, стал рассказывать о своём брате, который в Педагогическом институте, что его «Реймское евангелие» Срезневский думает представить к демидовской премии, а представляют к ней около нового года. «Так не поэтому ли говорил и мне он?» подумал я и решился сказать ему об этом прямо. Если так, то я только часть обработаю. В понедельник утром сказал Срезневскому, когда быть, тот сказал — завтра. Вечером писал несколько, был у Ал. Фёд., отнёс «La petite Fadette»,— весьма хорошо, хотя, может быть, другому и покажется, что много идеализма; но какое живое знание движений души, хода развития страстей и склонностей. Вместо этого взял хронику «L'Oeil de Boeuf». Несколько писал вечером, но более спал.
Вторник 24-го [октября]. — Вечером, только пришёл из университета, как пришёл и Благосветлов, которого я поручил попросить ко мне за запискою ему от Промптова у Славинского брата, академика-медика. — Это писано на 3-й лекции в субботу, когда был в почтамте, после в кондитерской на углу Вознесенского и дожидался Воронина. Теперь звонок. — Я пошёл к Срезневскому, у него скоро пришёл редактор или что-то в этом роде «Библиотеки для чтения»; поэтому я посидел несколько, пока тот [не] ушёл. Срезневский свои намерения объяснил несколько не так, как я думал: он хотел действовать через Пушкина, а не через Академию,— это не совсем хорошо для меня, я не люблю Пушкина, и сам Срезневский говорит, что он дурно говорит обо мне,— и вообще менее надежды блестящи, чем я думал. Всё-таки он сказал, чтоб я делал всё, а не часть. К демидовской премии он не думает, как видно, представлять, но сказал, что в следующем году будет просить меня заниматься с ним за деньги. Я сказал, что денег не нужно, а заниматься и теперь можно, потому что есть время. Конечно, он отклонил это, что, однако, теперь не было ясно высказано ни им, ни тем более мною, чтоб у него в доме, но поручил, когда я сказал, что у меня время свободно, сделать для него разбор 15 грамот Новгородских в Собрании Румянцева, которыми он думает доказать, что решительный перелом между старым и новым периодом русского языка был в XIV веке. С этого дня до 7¼ ч. воскресенья (6 дней) я всё время употребил для этого дела, всё — итак, о своих занятиях не буду писать,— а читал «L'Oeil de Boeuf»[347], после несколько Munk, о котором напишу, и после 10 № «Современника«. Когда воротился, Благосветлов ещё сидел у нас. Начал делать после его ухода. Да, с понедельника я не стал есть молока. Однако ещё рано, поэтому снова начну с вечера, т. е. с 30 октября. [332]
Среда [25 октября]. — У Ворониных был; воротясь, тотчас же уснул.
Четверг [26 октября]. — Встал в 4 часа, до часу писал, но только приходил Вас. Петр. на несколько времени и взял у меня 50 р. сер., из которых 40 должен себе, взять, 10 мне возвратить, чтобы передать Любиньке. Он хочет сделать условие с извозчиками, которые хотели ехать во вторник, между тем подал просьбу и в Общество посещения. Пошёл к Куторге, была ужасная погода, его не было. На дороге почти у университета попался Сидонский, который сказал это и пошли вместе мы с ним. Он нанял извозчика и пригласил меня. Как поехали по Гороховой, то остановились у него, я должен был по его просьбе зайти, просидел с час; он предложил «Историю греческой литературы» Мунка и др. книги, я попросил Шлоссера. Вечером спал и писал.
Пятница [27 октября]. — Пришёл Вас. Петр.; принёс деньги; сказал, что дал задатка извозчику, который едет в среду, и условился с кондуктором тяжёлой почты предоставить ему места, если будут, а это случается часто. Почта в пятницу, в среду он скажет ему решительно, можно ехать с ним или нет. За место 5 р. сер., если будет место. — Это мне уже было несколько неприятно, что на неделю отлагается отъезд. После он стал рассказывать о том, что он был у Бельцовых. Она (которую он весьма много хвалил и раньше) вмиг угадала, когда он сказал об отъезде, что нуждается он в деньгах, и сказала, что у неё есть 700 р. сер., которые может дать, если сказать об этом отцу. «Мне не хочется,— сказал Вас. Петр.,— потому что он такой благородный человек и ничего не знает о моём положении, а я сделаю так: возьму рублей 25 у неё, что она может дать, не говоря отцу, и брошку она мне хочет подарить на память — можно будет её заложить — рублей 30 стоит; тогда можно будет выкупить фрак и Гёте». моё этим мнение о Вас. Петр. снова возвысилось, что ему так многим готовы жертвовать. А кроме того, она сказала: «А если нет, я отдам вам фермуар и скажу папеньке, что потеряла». Так вот как! Чем хуже моих поступков! Поэтому я решительно и не такой необыкновенный человек, как мог думать о себе.
Сидонский принёс Шлоссера,— старое издание, 1815 г., поэтому почти не годится; это меня теперь разочаровало, а я ждал нового. Тем лучше, однако,— скорее отдам. Так как Срезневский прислал сказать, что его не будет, поэтому мы и не стали дожидаться Устрялова. Я, потому что думал кончить вечером этим или, во всяком случае, к завтра утру для Срезневского и отнести, зашёл более чем на час к Вольфу, между тем как в четверг был у Доминика, всё даром. После писал вечером, однако, всё-таки не успел дописать, весьма много не успел, так что нечего и думать, что завтра утром успею кончить и отнести.
(Это писано до этого времени у Фрейтага, а теперь до Устрялова.) [333]
29-го [октября], суббота. — Получил письмо с деньгами. Кому? Я думал, мне, и решился уже отдать Вас. Петр., но пошёл в почтамт, поэтому вместо Неволина сговорились сойтись и университете с Ворониным. Деньги из Аткарска[348]. Оттуда зашёл на несколько минут в кондитерскую, которая на углу, ничего не взял, конечно. Оттуда в университет, где несколько минут дожидался Воронина после звонка; после поехали. Вместе с нами сидел доктор их; я хотел говорить о лекарстве против желудка, но не решился. До обеда занимались, после обеда мне думалось, что удастся почитать «Gegenwart», но снова сказал Константин: «Если угодно, мы будем продолжать». — Итак, ещё четверти три. После поехали вместе с Ворониным и гувернёром,— они в театр. Александр позабыл шпагу, я предложил заехать взять мою, и взял, т. е. остановились, я сбегал за нею. После сделал, чтоб вырвало, и стал пить чай, решившись уже в пятницу вечером, по предложению Любиньки, снова есть молочное.
30-го [октября], воскресенье. — Уснул в субботу снова весьма рано, зато проснулся в 2½ ч., сел писать и писал до 10 или 11, когда пришёл Вас. Петр., который просидел до двух почти. Особенного ничего нового не было, поэтому сначала скучно было, после разговорились о характерах своих, вообще о людях, о моих планах относительно того, как устроить свою жизнь после университета. Когда ушёл,— снова писать. Писал до чаю, после снова, и только через полчаса после чаю, в 7¼ успел кончить, по не успел перечитать, чтоб сверить. Синтаксиса было гораздо больше, чем я думал; вместо двух страниц занял почти 4. Пошёл к Срезневскому, у него ничего особенного, только сказал, что я сделал слишком обширно, что ему было бы довольно одной страницы. Я почти тотчас ушёл, потому что ему некогда, и пошёл к Вольфу, у которого более часа. — Новость: перемена министерства; что-то будет — не знаю. «Siècle» переменил формат и стал совершенно похож на «Presse» или «Constitutionnel». Это мне не нравится, хотя шрифт не такой, как в «Presse», гадкий, а прежний — прекрасный, но мне прежний формат весьма нравился, чего о теперешнем сказать нельзя. Пришёл домой и почти тотчас уснул, потому что и так работал 14–15 час. Устрялов пришёл.
(Писано у Фрейтага на лекции 4 ноября, в пятницу.)
Понедельник не помню, кажется ничего особенного, даже кажется, почти ничего не писал повести, а когда пришёл из университета, спал должно быть и читал «L'Oeil de Boeul» и «Современник».
Ноябрь
1 [ноября], вторник. — Пошёл слишком рано, поэтому сидел в библиотеке и перебирал исторический каталог. Подошёл Лерх и спросил, что я ищу. Так как был Sismondi под глазами, я спросил его, он принёс, и я должен был взять билет, который на сле[334]дующий день дал подписать Куторге, и взял IX, X, XI томы Sismondi, Histoire des Franèais[349]. Отдал Сидонскому его Munk, которого почти не читал. Вечером думал, что будет Вас. Петр. у меня. Несколько времени и был и сказал, что Залеман доставил ему в среду переписку ролей в театр по 15 к. сер., что если так, то можно в день заработать по рублю сер., и если будет постоянная работа, то он останется месяца на два, чтоб собрать рублей 60 сер. Это меня раздосадовало: итак, снова остаётся поглощать мои деньги, итак, снова остаётся бог знает при чём, итак, снова остаётся околачиваться здесь неопределённым образом. И притом он, во-первых, помешал обедать мне, во-вторых, я должен был велеть подать обедать ему. Поэтому я досадовал и, может быть, не хорошо обращался с ним. Он хотел уведомить меня, если что будет,— если поедет, то в среду утром, если поедет в среду, а между тем не был до сих пор. Бог знает, что с ним, верно, всё-таки, не уехал. — Вечером несколько писал.
2 [ноября], среда,— Утром писал несколько; вечером не поехал с Ворониным, потому что он сказал, что ему нельзя ехать на дачу, а должен здесь остаться. — А чтоб вас к чёрту! — однако не слишком рассердился и если рассердился, то главное потому, что не приготовлено дома молочного, поэтому ел говядину и поэтому вырвало, но не всё, а только жареное, поэтому ещё довольно порядочный у меня желудок. Писал повесть и дописал до конца 4 листка 3-й тетради. Взял Sismondi; отдал Munk Сидонскому.
3 [ноября], четверг. — Утром писал и написал более 2 листков, вечером также, несколько менее, и как раз кончил третью тетрадь, т. е. 48-ю страницу. Ждал утром и вечером В. П.,— его не было. Мне из 4 р. сер., которые был должен несколько времени тому назад, Ал. Фёд. отдал 3 р. сер., и Любинька выпросила из них 2, т. е. спросила 50 к. сер., но я отдал ей их и просил возвратить мне рубль. Так как ел за обедом много и слишком поджаренные корки кашицы, которая почти каша, то была отрыжка. Приходил вечером Ал. Фёд. Заснул, сам не заметил, как это часто теперь случается. Почти дочитал I том «L'Oeil de Boeufs».
4 [ноября], пятница. — Утром встал в 8 с лишком, почитал несколько, написал ½ стр., после пошёл к Вольфу, у которого буду на-днях надолго, чтоб читать «Отеч. записки», как они выйдут, и выпью тогда чаю. После пошёл к Фрейтагу, когда он только что вошёл в аудиторию, верно буду переводить у него — нет, переводит Куторга. Я уже начал было, но Лыткин сказал, что он готовился, и я сказал ему, чтобы он переводил вслух. — Несколько думаю о Вас. Петр., но, однако, мало. Не знаю, лучше ли желать, чтоб он здесь остался или уехал, решительно не знаю. В самом [деле], бог знает, верно ли то, что в театр поступит. Если верно, то, кажется, для него лучше. Но затрудняет суждение здесь то, что мой эгоизм желает того же, потому что тогда я освобожусь от всякого стеснения.
(Снова пишу у Фрейтага в понедельник, 7 числа.)[335]
В пятницу, дожидаясь В. П., вечером я пошёл узнать, уехал он или нет. Когда шёл, то думал, что, конечно, моё ожидание, что уехал, не исполнится, а мне, признаться, как-то более хотелось, чтоб уехал. Пошёл в 8 час; когда вошёл во двор, у них огонь, поэтому не уехал. Особого впечатления не сделало, потому что ждал этого: если б уезжал, верно раньше пришёл бы. Сказал, что то, что доставил ему переписывать для театра Залеман, удержало его отъезд, что если это не удастся, то уедет в следующую пятницу (но скорее останется, как мне кажется). Над. Ег. получила шитьё для невесты Славинскосо, и жена Орлова обещала доставать ей шитьё из института, где её дочери. Это радует В. П., он думает — 6 рублей. Начал толковать об отъезде; я показывал неосновательность его надежд на то, что успеет скопить денег или что может выдержать экзамен на учителя. Я уверял, что время пройдёт ужасно много, и он никогда не примется за дело. Что и говорить, что меня побуждал говорить отчасти и эгоизм, т. е. собственно он делал, что я высказывал мысли свои, иначе, конечно, промолчал бы. После стали говорить об уме, о литературе, мне удалось уговорить его прочитать мне что-нибудь из того, что есть у него написанного. Он стал читать, как он говорит, писанное в гоголевском роде, как он говорит — вздор и дрянь. Не могу сказать, чтобы в самом деле видно по отрывкам гениальное произведение, потому что начинал читать его только начало, но гораздо лучше и судя по отрывкам того, что печатается, и уже гораздо лучше всего, что было напечатано с самой «Обыкновенной истории»[350] и «Кто виноват?»[351]. Я опасался несколько, что он не напишет так, как они — весьма хорошо, если не принимать во внимание Ж. Занда и подобных ему, о достоинстве которых я хорошенько, однако, не могу сам судить, а восхищаюсь, потому что все так делают. Часы мои вечером остановились и не стали идти, поэтому я просидел у В. П. до 10½, a то взял бы их с собою, потому что Ив. Гр. откуда-то достал довольно хорошенькие, т. е. лучше моих гораздо, золотые часики, которые подарил Любиньке.
Суббота [5-го ноября]. — Утром писал несколько. У Ворониных просидел дольше, может быть, чем обыкновенно в этот день, так что воротился в 8,— это потому, что поехал с отцом, который отправился в баню. Я думал, что может быть что-нибудь нужно будет и говорить, но ничего, кроме нескольких общих слов, которые не имели никакого отношения к какому-нибудь делу. Обедал там, как обыкновенно, и так легко было, как никогда, так что хотя дома напился чаю одного с большим количеством хлеба, но ничего.
Воскресенье, 6-го [ноября]. — Решился праздновать. Утром писал и к 11 собрался было идти к Вольфу праздновать, читать новые журналы и посмотреть статью Срезневского в библиотеке, но как я одевался, пришёл В. П., которого я ждал или теперь, или к вечеру, просидел почти до двух. Ничего особенного не было. Как ушёл, я стал обедать, после обеда пошёл к Вольфу, у которого пробыл более 3 часов, до чаю своего, и истратил 33 к. сер. таким об[336]разом: когда туда шёл, взял у Иванова на 3 к. сер. 10 сухарей, как теперь обыкновенно делаю, и потому что так лучше и у Иванова (в доме, где контора «Отеч. записок») весьма хороши сухари. Пил кофе вместо чаю, потому что так, думал, сытнее и хотел пороскошничать; пил, читал газеты. Когда взял «Отеч. записки» (которые подали весьма вежливо, что меня обрадовало,— значит, я пользуюсь авторитетом), то нечего было с ними есть, потому пошёл, оставивши книгу у своего приятеля мальчика, который снова был тут в этот раз, к Иванову купить сухарей — не было. Поэтому должен был что-нибудь другое взять, и я взял два пряника — один шоколадный, другой миндальный, один пирожок в 3 к. и один в 1½ к., пряники по 3 к. сер., и воротился читать «Отеч. записки» и читал «Записки Пикквикского клуба»[352] с пряниками. Весьма был рад, что взял, потому что весьма удобны для медленной еды при чтении, так что я читал с ними все «Записки Пикквикского клуба» более часа.
Понедельник [7-го ноября]. — Писал и более ничего. Особенного, кажется, ровно ничего не было, только письмо получил из дома.
Вторник [8-го ноября]. — Отнёс сам письмо. После отнёс. В следующие дни особенного ничего не было. (Это продолжаю писать в среду, 16 числа.)
В среду [9-го ноября]. — Вас. Петр. был и оставил записку. Я не был у Ворониных, потому что Александру должно было остаться здесь.
Четверг [10-го ноября] и пятница [11-го ноября]. — Кажется, особенного ничего. Писал свою повесть.
Суббота [12-го ноября]. — Был у Ворониных и получил деньги; из них 7 р. сер. отдал Любиньке.
Воскресенье [13-го ноября]. — Дописывал свою повесть. Дописал и начал перечитывать.
Понедельник [14-го ноября]. — Утром читал повесть, решась в этот день быть с нею у А. А. Краевского, которого адрес накануне узнал в конторе — дом Неслинда против Грязной на Невском. В 11 час, не дочитавши её, понёс. Лакей сказал, что принимает только по воскресеньям. Итак, я отнёс Никитенке, у которого просидел несколько минут и не понимал первых знаков его, что пора уходить. Посмотрим, что будет. Вечером начал словарь Ипатьевской летописи снова работать.
Вторник [15-го ноября]. — Утром начал разрезывать свою работу, переменивши идеи — снова буду делать, как делал раньше — словарь без мест, где слова, после вставлю места зараз с обозначением грамматических форм. Когда вставил, ужасно тяготился тем, что эта работа так медленна была. Поэтому пошёл к Вас. Петр., оттуда к Иванову, у которого на 25 к. сер. съел пирожков — это глупость, но ничего, потому что с Ивановым поговорил, что будет стоить брать у него после «Siècle»; он говорит — 12 р. с.
Среда [16-го ноября]. — Утром разрезывал для словаря. В 11 [337] [час] пришёл Вас. Петр., в 12 вместе пошли — он к Залеману, я в университет за письмом, оттуда у Елисеева взял фунт пастилы и зашёл к Вольфу, где пробыл до 4¼, поэтому более 3 часов, съел 5 пирожков и из купленной пастилы на 15 к. сер.,— итак, в эти два дня я проел по 25 к. на пирожки, поэтому 50 к. сер., и на 35 к. купил пастилы — это мотовство, которое лелеется мыслью, что будут деньги за повесть. У Вольфа было «Северное обозрение», которое я поэтому прочитал. Это для меня любопытно. — Выходит, судя по этой книжке (4-я, где Трансильвания), что вздор, хуже «Библиотеки для чтения» этот журнал. После пришёл домой, обедал; после почти всё спал и пил чай и т. д., так что нынешний день делал дело только 3 или 3½ ч., но с завтра начинаю работать и, чтобы вознаградить свои издержки, в кондитерских не буду до новых журналов, т. е. до 3–4 декабря, если не получу обещания, что моя повесть будет в «Отеч. записках» или «Современнике». Это писал почти в 12 ч. Вчера А. Ф. принёс последние два тома «L'Oeil de Boeuf» и я читаю их. Теперь выкурю и ложусь. Желудок в эти дни всё лучше, напр., вчера несколько только отрыгалось кислым, и когда стал делать, чтоб вырвало, почти не вырвало, так хорошо варит; а между тем, вчера я, наевшись у Иванова (2 кусочка ветчины, между прочим), поел дома жаркого и всё-таки не вырвало жарким. Завтра схожу, наконец, в баню. Да, вчера написал Саше и Промптову.
(Это писано 29-го во вторник утром.)
Итак, 18-го [ноября], четверг, утром сходил в баню, вечером, кажется писал. В пятницу должно быть тоже. В субботу тоже. Да. В воскресенье тоже. Бывал в кондитерских почти каждый день и разрезывал листики.
Понедельник, 22-го [ноября] — был праздник, поэтому я снова не был в университете. Эту неделю, т. е. с того дня, как отнёс я Никитенке повесть, всюду были разведены мосты, поэтому лекций не было, я не ходил в университет, поэтому не взял и письма, и написал домой и пошёл во вторник после того за письмом. Там пишет папенька, что пришлют деньги на сюртук со следующею почтою. Это привело меня в сомнение — шить или нет. Решился не шить, а сшить жилет, переменить воротник у шинели, заплатить за сапоги, остальные деньги оставить для взноса в университет. Так и сделал. Нет, это было писано за неделю раньше.
Во вторник получил деньги 70 р. сер. и сделал так: из них прислали 20 р. Любиньке (я перепутал здесь и не могу сказать, когда именно). В этот же день их и отдал. На лекции ждал у Никитенки, что скажет о моей повести,— я этого дня дожидался с нетерпением,— он сказал, что ещё почти ничего не читал, потому что неразборчиво писано, и это хорошо: должно будет переписать, следовательно переделать, когда отдавать Краевскому, следовательно тогда выйдет лучше. Во-вторых,— что было бы, если бы я отдал Краевскому переписанное таким образом? Поэтому лучше, что отдал раньше Никитенке, хотя и проведёт он времени больше,[338] чем я думал. Из университета зашёл в справочное место, чтобы посмотреть, какие там журналы и стоит ли того, чтобы подписаться (подписаться там по моему расчёту выходило дешевле, чем бывать в кондитерских, теперь вижу, что нет почти. Там «Débats», «Siècle», «Presse» — это хорошо, но то дурно, что нет «Немецкой иллюстрации»[353], да и комната как-то тесна, неудобно, так что едва ли возобновлю подписку, однако, посмотрю; это, главное, зависит от того, будут ли все номера попадаться в руки без пропусков, а сначала весьма понравилось и я сказал, что подпишусь завтра.
Среда, 23-го [ноября]. — В 10 ч. пошёл в это место, подписался. Вечером был у Вас. Петр.
Четверг, 24-го [ноября]. — Утром пошёл делать одежду себе, зашёл прежде всего — нет, так, сначала я одним числом ошибся и поэтому не мог сказать, когда получил деньги — в понедельник 21 числа на этой неделе, а то письмо было получено в среду, т. е. 16-го. Итак, в среду уже вечером был я в справочном месте, в понедельник 24-го решился подписаться и сделать одежду себе, сначала воротник. Зашёл в Гостиный двор — там 7 р. сер. не слишком хороший, 11 р. сер. хороший,— не стоит, поэтому хотел было уже не делать, зашёл узнать цену материям для жилета — 2 р. 50 к. просят, поэтому за 2 р. отдадут. Пошёл всё-таки в толкучку посмотреть воротник и там купил за 2 р. 50 к., это недорого. Воротник, конечно, скверный, но ничего, всё-таки енот и различия с хорошим не так много в качестве, как в цене. К портному,— за жилет 4, брюки 10, за пришивку воротника 1 р. сер., итого 15 р.; Фрицу 6 (но 1 р. вместо него отдал Ал. Ф., а ему только 5 р., но это, однако, всё равно); 2 р. 50 к. за воротник; 1 р. в справочное место на месяц (который считается с этого числа), следовательно, 24 р. 50 к.; поэтому 15 р. сер. оставлю для взноса, а 9 или 8 отдам Любиньке. Это хорошо пока. Вечером пошёл к Славинскому узнать, когда именинник Иринарх, верно ли, что непременно 27-го; напротив, вышло по святцам, которые достать стоило ему хлопот, что 28-го, теперь зато уже наверно.
25-го [ноября], пятница. — Срезневский болен, поэтому я ушёл в справочное место, просидел до двух. Сказали мне, что В. П. был и только что ушёл, и хотел быть снова в воскресенье. Я пожалел, что он не застал меня. Послал с Марьей шинель к портному, сам стал разрезывать и читал «L'Oeil de Boeuf».
26 [ноября], суббота. — Всё сидел дома и разрезывал. В университет не ходил, потому что шинель у портного; я послал в этот день для того, чтоб не давать денег мальчику, которого хотел прислать он за шинелью в субботу; я, чтобы предупредить, и послал в пятницу. Весьма много разрезал, больше чем предполагал, так что оставалось только 5, кажется, листиков, и думал, что кончу к воскресенью. К 6 часам шинели не дождался; за ней пошла Марья, но не ворочалась всё. Я решился идти в хо[339]лодной к Ворониным, которые теперь переехали и у которых снова начинаются уроки. Там сказали, что в среду будет ещё урок с маленькими братьями; итак, три всего урока в неделю. Оттуда зашёл на минуту в справочное место — пропустил один № газет, не бывши утром. Когда пришёл домой, сидел Ал. Фёд., он взял с собой «L'Oeil de Boeuf», который я дочитал,— там Людовик XVI и Мария Антуанета представляются не такими невинными агнцами, как обыкновенно представляют их,— и выпросил один рубль сер. денег.
Воскресенье, 27 [ноября]. — Утром пришёл Фриц, я ему отдал 5 р. сер.; стал разрезывать снова (да, Фриц сделал головки и калоши,— прежние калоши совершенно износились, совершенно, так что нельзя надеть на ногу,— и взял ещё сделать головки). В 12 [ч.] пришёл Вас. Петр., посидел, для меня довольно приятно. Как он ушёл, я стал обедать, и пошёл в справочное место, там только до сумерек, поэтому я пошёл оттуда к Вольфу, где выпил чаю собственно потому, что был мой приятель мальчик, и [съел] два пряника, поэтому 25 к. сер. истратил. Стал читать процесс Вальдека и был проникнут негодованием некоторым. Когда воротился, у нас сидел Пелопидов, который просидел до 9 час., приходил, чтоб сказать ответ на мою записку, посланную ему со Славинским по просьбе Ал. Фёд., какая программа во 2-й разряд ветеринарных наук. Как ушёл, я уснул, кажется, или нет — разрезывал несколько, так что оставалось к утру всего только 3½ стран.
Понедельник, 28-го [ноября]. — Решился быть у Иринарха Ивановича давно уж я и теперь хотел сделать это. Поэтому, разрезавши всё, пошёл в 10 ч. в справочное место, где пробыл с полчаса, и после пошёл к нему, оставив университет так. Пришёл к нему в половине первого. Я, должно сказать, сам не знал, когда шёл, идти или нет, но почти инстинктивно сошёл с мостков, пошёл не налево, к дверям университета, но вдоль по университетскому зданию. Пришлось искать долго квартиры, наконец, нашёл, постучавшись раньше напрасно в двое дверей. Вошёл и в коридоре, когда мимо меня прошла его жена с тарелкою,— они сидели за блинами, а я скидал калоши, задел её шляпою, т. е., как обыкновенно, сделал неловкость. — Теперь пишу письмо домой, а это допишу после. Теперь 20 м. 9-го утра, по моим часам, начинает светать. — Продолжаю через полчаса. Вхожу я — он сидит за Краузольдом и тем офицером, которого я помню, за блинами. — «Если я не ошибаюсь, вы ныне именинник, Иринарх Иванович, узнаете ли вы меня?» — «Узнаете, вы говорите!.. Да, но я сам сейчас только вспомнил, что в самом деле я ныне именинник; а теперь мы [за] икру, потому что я кончил свою работу — перевод для следующей книжки „Пикквикского клуба“. Весьма рад»,— сказал он. — «Что вы перестали бывать у нас?» — «Я сам не знаю». — Итак, я должен был просидеть за блинами, а после подали кофе; я было собирался уйти, но он сказал, что ему[340] нужно ехать, и поэтому я увидел, что уже должно всем, вместе поэтому вышли. Я просидел у него около часу, и когда пришёл в университет, было уже несколько поздно к Устрялову,— мне почти и хотелось этого. Когда я входил в комнату перед дежурною, чтобы сверить часы, шёл попечитель в аудитории. Он позвал меня и спросил: «Вы были у Срезневского, г. Чернышевский?» Я сказал что не был; сказал, что он болен серьёзно; чем теперь сказал болен, чем был раньше, решительно свободно, нисколько не смешавшись и не покраснев, как того ждал. Итак, попечитель решительно не имеет предубеждения против меня, и я могу надеяться служить у него в ведомстве. Не пошёл, конечно, к Устрялову — главное потому, что не хотелось, а домой, где ждал Вас. Петр-ча; нет,— поэтому я к Ал. Фёд. пошёл сказать ему, что сказал Пелопидов. Он достал мне от Поля «M-lle Maupin» Теофиля Готье. Я стал, когда пришёл домой, читать её и почти всё время спал,— и перед чаем, и после.
Вторник, 29-го [ноября]. — Проснулся весьма рано, в половине 6-го, и огня не мог достать и поэтому лежал и думал, большею частью о том, как переделывать свою повесть, выдумал одну сцену. Я думал о том, что должно вставить 2–3 сцены, 2–3 случая перед рассказом Ан. Константиновича, случаи, в которых выставлялось бы решительное отсутствие эгоизма и решительно верное следование своим убеждениям. После достал огню и стал писать это письмо. Что-то скажет Никитенко ныне? Или снова ничего? Я иду без большого ожидания что-нибудь услышать от него; скорее, что ничего не скажет, а в прошлый раз ждал, что скажет непременно. Но в этот раз может быть уже и скажет что-нибудь.
Да, когда мы стали собираться уходить, Ир. Ив. пригласил, конечно, меня бывать у них по средам, и когда вышли вместе и шли несколько шагов, пока они с женою наняли извозчика, он также сказал это, и когда сели на извозчика, снова сказал, и она тоже сказала. Итак, я могу с спокойным сердцем бывать у них, потому что приглашение было искреннее. Теперь подан чай. В 10 ч., т. е. как докончу письмо, иду в справочное место, оттуда в университет. Вечером должен бы быть Вас. Петр., поэтому не пойду к портному (он, разумеется, Я. Шмит, живущий на Гороховой у Каменного моста), а пойду к нему завтра утром.
Декабрь
(Писано 15 декабря, в 12-м часу вечера.) 1-го — 5-го. Ничего особенного не могу сказать про эти дни; всё приводил в алфавитный порядок свой словарь и кончил разрезку, так что с 7-го (кажется, что с 7-го) начал приводить в алфавитный порядок слова. Портной принёс жилет и брюки. В первый раз в жилете я был в четверг, т. е. 2-го или 3 декабря, в университете. Бывал в справочном месте почти каждый день; читал Сисмонди IX–XI томы.[341]
6 декабря. — День моих именин. Утром был Ал. Фёд. на несколько времени, после не приходил. Накануне был Вас. Петр., ему сказала Любинька, что я именинник, и просил его Ив. Гр. обедать. Мне это не совсем хотелось, знаете, из-за того, чтобы не связываться с ними, и я ничего не сказал, но так как Над. Ег. на весь день уходила к своим, то он решился обедать у нас и просидел с 11 до 5. После обеда, чтоб не скучал, я стал говорить ему о своей повести и рассказывать несколько; а более я это делал для того, чтобы заставить его, когда я у него буду, показать мне то, что он пишет. Вечером читал и спал. За обедом был гусь, и я ел всё, однако меня не вырвало.
7-го [декабря]. — Хотел быть у Иринарха Ивановича. В этот день был второй урок у Ворониных у маленьких детей, и я просидел до того, что позвали завтракать, и я, должно быть, поел довольно много и тоже дома. Просил их, нельзя ли начать урок в 5½ вместо 6 в этот день, чтоб пораньше быть у Ир. Ив., но им было нельзя, потому что обед у них будет с гостями. Это для меня ничего. Когда пошёл к ним вечером, то меня тошнило, и я у их входа сделал, чтобы несколько вырвало.
8-го [декабря], четверг. — Утро пробыл в справочном месте. Вечером, кажется, был В. П.
9-го [декабря], пятница. — Срезневский, наконец, выздоровел. Фрейтага ещё не было, поэтому я был в справочном месте.
10-го [декабря]. — От Ворониных, чтоб не пить дома чаю одному, пошёл к Ал. Фёд., у которого посидел до 12 ч., взял у Поля Béranger две части, изд. Perrotin, Paris 1843. Первую часть начал читать утром и в эту ночь.
11-го декабря, воскресенье. — Утром был Вас. Петр. и взял первую часть Béranger; я стал читать вторую. Он также сказал, что ему нужно 7 р. сер. У меня как раз оставалось 11 р. сер., когда я отдал 3 р. сер. А. Ф., но я из этих 11 — 3 р. должен был Любиньке, потому что мне принесли сапоги (головки наделали) от Фрица и попросили денег, а я ему должен был 1 р. сер. Итак, я дал Вас. Петр. 10 р. сер., прося его принести 2 или 3 (он во вторник принёс 3), чтоб отдать Любиньке, я и отдал в среду утром.
12 декабря, понедельник. — Наконец, Фрейтаг, у которого не было 4 лекции (болел что-то язык), пришёл. Была моя очередь, я дал ему выписку из прибавления к физиологии Вагнера и лекцию эту просидел у него с довольным духом.
13-го [декабря], вторник. — Я думал в среду читать что-нибудь у Плетнёва, поэтому писал на вторую его тему (раньше писал на первую несколько), должен был также в этот день читать у Никитенки и написал о том, какие книги должно давать читать детям[354], но до этого вопроса не доходил, а раньше должно было решить, что всякие почти можно давать и вообще ни в каких нельзя им отказывать. Никитенко был недоволен парадоксальностью этой темы и спорил сильно, весьма был недоволен, это было ясно, отчего я был в дурном расположении духа, особенно когда[342] после лекции и Корелкин, и Соколов сказали, что он рассердился. Вечером был около полутора часов Вас. Петр. и принёс «Современник» 12 №.
14-го [декабря], среда. — Во вторник Корелкин сказал, что будет у Плетнёва читать он; это мне было весьма на руку, потому что таким образом он являлся выскочкою перед товарищами, а не я, и это мне было весьма приятно, поэтому я и не писал. Но о среде напишу уж завтра утром. Я докончил букву Б. Весьма много времени отнимает это приведение в алфавитный порядок. Да, в субботу после своих именин я получил из дому 10 р. сер., из которых 9 отдал Любиньке. Итак, в этот месяц я отдал ей 17 р. сер., это хорошо во всяком случае.
(Это писано 26 декабря, в 12 ч. 15 м. ночи.) 14-го [декабря], среда. — Был у Ворониных утром и вечером и оттуда вечером отправился к Ир. Ив. Туда ехал, заплатив 10 к. сер., от угла почтамта,— так дёшево, как не думал. Оттуда шёл пешком мимо университета и ряда лавок и несколько, хотя весьма мало и только воображением, а не сердцем, трусил. Всё-таки не пошёл через Неву, к Дворцу, а пошёл к Адмиралтейству,— побоялся там идти, потому что ещё не было дороги проезжей, и весьма мало народу ходило. У Ир. Ив. просидел до 11 ч., как и трое других, между которыми был тот офицер и Краузольд. Толковали более о средствах или собственно о желании приобрести деньги, и я не участвовал в разговоре; после о Финляндии — это после, когда сидели у него в кабинете, а раньше, когда сидели за чайным столиком, тут было ещё двое — один, я думаю, Дерикер, а другого зовут Николаем Гавриловичем, как меня, и весьма должно быть туп и глуп — должно быть учитель в корпусах. Тут разговор шёл отчасти о школьниках, отчасти о Краевском, отчасти о возможности переводить Гегеля. Ир. Ив. сказал, что весьма можно,— я согласился с ним в душе. В этих разговорах я также не участвовал. Оттуда зашёл к Вольфу, у которого и забыл шпагу.
15-го [декабря], четверг. — Утром перед лекциями к Никитенке, раньше зашёл к Вольфу за шпагою. У Никитенки взял свою рукопись, с тем, чтоб переписать её и переправить. Переписать должно потому, что Никитенко говорит, что весьма неразборчиво; поэтому, может быть, по этому уж одному не захочет Краевский ломать глаз и головы и не поместит. Лекций не было.
16-го [декабря], 17-го и т. д. — до субботы, кажется, ничего особенного. В субботу урока не было, потому что ученик болен. Я этому был отчасти рад, потому что мне хотелось в этот вечер не помню что-то сделать. В эти дни начал переписывать свою повесть, переписавши сначала сцены, как познакомился рассказчик с Серебряковым. Мне кажется, они нужны, чтоб с первого раза не утомлять разглагольствованиями и описаниями, чтоб хоть сначала было несколько живого действия, которого дальше весьма[343] мало, и потом чтобы высказать несколько характер Андрея Константиновича в его высоких правилах, чтоб не сказали, прочитавши: «да это в самом деле негодяй, каким и представляет он себя в своём рассказе».
18 [декабря], воскресенье. — Был Вас. Петр. и читал то, что я успел переписать из повести, более ничего не помню,— или нет, ещё не читал, кажется. Нет, читал.
19-го [декабря], понедельник. — Уговорились не быть на лекциях, и я пошёл к Вас. Петр. сказать, что Béranger спрашивают и что понадобится и Лоренц на этой неделе. У Фрейтага всё-таки был. Весьма много времени все дни проводил в справочном месте, весьма много.
20-го [декабря], вторник. — Снова был Вас. Петр., снова читал мою повесть, которой я до среды переписал половину описания характера Андр. Конст.; кончил тем, как оправдывается он, что продал дома и положил деньги в ломбард..
21-го [декабря], в среду, пошёл к Корелкину за лекциями. Оттуда вздумал пойти (бывши и у Ворониных) к Срезневскому, чтоб спросить тексты, нужные для составления его лекций, и главное, надеясь, что он скажет, что тех лекций, которые есть напечатанные, не нужно. Он сказал, чтоб я постарался отделать букву Д из своего словаря, чтоб представить её на образец в Академию наук вместе с Корелкиным отрывком (также буква Д). Он сказал при этом, что надеется, что у меня более будет аккуратности. Снова повторил, что попечитель странно на меня смотрит, и сказал, чтобы я приходил заниматься к нему, когда понадобится. Я вечером был у Ворониных, конечно, снова.
Четверг, 22-го [декабря]. — Сверял свои лекции с Корелкиными и нашёл, что у него на этот раз составлено лучше, чем записано у меня, чего до сих пор не было. Вечером должно быть спал.
23-го [декабря], пятница. — Утром понёс его тетрадь Срезневскому, его не застал дома; то же и Корелкин, который тоже отнёс.
24 [декабря]. — Был Вас. Петр., который говорил о том, что Залеман требует Гёте, а Гёте уже продан тем, у кого был заложен, и что поэтому он может раззнакомиться с Залеманом, но им отошлет с запискою Гёте другого — маленькое издание, которое подарили ему Бельцовы. Эта Бельцова должно быть порядочная девушка и должно быть умная; мне бы хотелось познакомиться с нею, если бы я был в состоянии держать себя в обществе, как должно, а то ни говорить по-французски, ни танцевать, да и, главное, слишком неуклюж, семинарист в полной форме. Вечером был-таки Залеман у меня, потому что Вас. Петр. сказал ему, что Гёте у меня.
22-го Вас. Петр., когда был, сказал, что повезли тех, которые сидели в крепости[355], с эскортом на Семёновский плац, говорят, на смертную казнь. Мы не поверили, а думали в ссылку.[344] Ив. Гр. когда пришёл из Сената, сказал, как было дело, поэтому я на другой день этого был у Вольфа, чтобы прочитать газеты об этом: за Ханыкова хлопотали, потому что «по уважению и т. д.». В это утро я был сильно довольно занят этим вопросом и в субботу тоже, и в воскресенье, т. е. вчера, тоже, а ныне, в понедельник, украл у Вольфа листок «Полицейской газеты», где перепечатано это из «С.-П.-Б. ведомостей».
В субботу я старался уговорить Вас. Петр., что это дело с Залеманом о Гёте пустое, поэтому пускался в различные разговоры об этом и о написанном и т. д., поэтому было утро для меня интересно. В этот день и в предыдущий, и не в четверг вечером, а может быть только с пятницы вечера я разбирал; так, только с пятницы вечера — я разбирал и переписывал в алфавитном порядке Д в те 1½ суток, т. е. четверг и пятницу до вечера, я разбирал Д от Е, Ж, З, с которыми она у меня вместе в одной коробке, и вместе разбирал её на место кучкой, чтоб облегчить приведение в алфавитный порядок. — Так как наелся постного, весьма нехорошего для желудка, то должен был сделать, чтоб вырвало; тоже и 25-го и ныне тоже, поэтому с завтра снова ем молоко, а то или гадкая пища, или, если довольно порядочная, объедаюсь. Вообще желудок не совершенно поправился, даже весьма не поправился, а между тем я в лице ужасно потолстел, оттого, что ем пропасть, что именно и мешает желудку поправиться.
В воскресенье утром принёс объявление (25)[356] сторож из университета, я дал ему 20 к. сер. У обедни не был, а всё писал и в этот день к обеду хотел дописать слова Д. До обеда написал всё почти; разобрано было уже вовсе, будет нужно только переписывать; оставил 1½ кучки (дѣ, дю, и ½ кучки дc, дя (дья). Когда сели обедать, ещё не кончили, когда пришёл Ив. Вас, с которым просидел довольно приятно. Я ел так много, что должен был сделать, чтоб вырвало. После дописал словарь и уснул. Теперь начал выписывать места, в которых слова, читая и подчёркивая их в книге. Кончил переписку в 6 ч. и просидел до часу, кажется; успел прочитать около 800 строк, кажется 22 страницы.
Ныне, 26-го, как напился чаю, в почтамт (встал поздно); оттуда (мне только 25 р. и говорят: «сюртук, как хочешь». Это меня облегчает, а то я думал об этом. Но сколько заботы, что у папеньки больны глаза — боже мой!) — оттуда к Срезневскому, отчасти для визита, отчасти чтоб успокоиться, что могу оставить у себя его корректурные листки. Да, вечером, до чаю, после того как кончил вчера переписывать, т. е. с 6 до 8 вечера, играли в преферанс.
Когда пришёл домой, было 11¼. Я ел и делал дело до обеда, после снова читал Ипатьевскую летопись, отмечая места до 4¾; после пошёл к Вольфу, собственно чтоб разменять деньги, чтоб отдать сколько можно Любиньке ныне же. Когда пришёл оттуда,— читать теперь газеты решительно не стоит,— был чай. Тут я раз[345]бил блюдечко, потому что положил «Полицейскую газету» на окно за столом: перед столом стоял стул, я поставил на него стакан, выпивши; Ив. Гр., подошедши за нюхательным табаком, увидел газету и спросил; я хотел (лёжа сам на диване) отодвинуть стул, чтоб он мог подойти и взять газету, и стакан полетел. После несколько уснул. После этого снова делал дело и дописал до смерти Юрия Долгорукого. Когда Любиньке стал отдавать деньги (15 р. сер.), не взяла; я положил их в её ящик, когда они ушли гулять. Когда пришла, она снова стала отдавать и насилу оставила у себя,— хорошая женщина, жаль только, что позволяет себе такие маниловские пошлости (любезности и пр.) с Ив. Гр., жаль, что так неприятно действует на моё эстетическое чувство; она стоила бы лучшего чувства, чем какое я питаю к ней, потому что у неё в самом деле благородное и деликатное сердце; т. е. я не хочу этим сказать бог знает чего, однако она весьма деликатна и способна понимать, что вам нравится, что нет, как нельзя более,— напр., как всегда она не ходит через мою комнату и не ходит в неё, что не всегда кажется нужным Ив. Гр. Ну, теперь 10 м. 2-го ночи, ложусь, выкурив трубку (Ив. Гр. теперь не курит табаку).
26-го [декабря], понедельник. — Особенного, кажется, ничего не делал, а весь день занимался отметкою мест.
27-го [декабря], вторник. — Утром был Залеман и сказал, что у них не был Вас. Петр., что может быть он и не хочет бывать у них после того, как, может быть, потерял Гёте, что это пустяки. Говорил весьма хорошо, как я говорил бы на его месте, и поручил мне сказать это Вас. Петр. Я пошёл к нему, зашедши раньше к Славинскому взять книгу для Вас. Петр. Оттуда снова работать.
28-го [декабря], в среду снова работал (прерываю затем, чтобы сходить прогнать и прибить кошку, которая мяучит, и так прибил — так заканчиваю я новый год воинственными подвигами; но ведь и жаль бедной кошки, она мяучит, конечно, не от удовольствия, а её за это же ещё бьют; снова начала мяукать). Вечером был у Ир. Ив. Введенского. Разговор был о заговорщиках. Когда я вошёл, было уже человека 4 или 5, между прочим, Билярский и другой, как я после узнал — Чумиков. Я сказал с ними по нескольку слов после. Чумиков умнее всех остальных говорил о заговорщиках и решительно отвергал все планы, которые приписываются им. Не Ханыков, а Пальм закричал: «Да здравствует царь»,— это меня порадовало. О них говорили так, что думают, что они не получат прощения, а докончат свой срок; о возможности восстания, которое бы освободило их, и не думают[357]. После говорили и о социализме и т. д. Чумиков решительный приверженец новых учений, и это меня радует, что есть такие люди и более, чем можно предполагать. Иринарх Ив. говорил в духе, напр., «Siècle» или чего-нибудь в этом роде, или, пожалуй в духе Lamennais, что это деспотизм и что права на вознаграждение за[346] умственный и телесный труд не равны. Разговор не был слишком одушевлённый.
Чумиков и Билярский и я вышли вместе. Мы с Чумиковым поехали вместе за двугривенный. Когда слезли, я дал ему 10 к. сер. Он просил меня найти ему переписчика; я думал при этом о Вас. Петр., хотя знал, что он не годится, но если бы он взялся, то я стал бы сам переписывать, бросая переписанное им.
29-го [декабря], четверг. — Пошёл в час к Вас. Петр., чтобы сказать об этом, после пошёл купить магнезии ¼ фунта во второй лавке от Невского — в первой мне стали давать маленький кусочек и я, сказавши «как вам не совестно», взял деньги назад и пошёл. — Вот уже и новый год начался, теперь 2–3 минуты по моим часам. — Заходил в Пассаж, где сделал дурно, что съел говядины кусочек. Вечером был Ал. Фёд.
В пятницу к 6 ч. окончил я отметку мест и стал приниматься за значение. Утром был доктор и сказал, что нужно переменить квартиру — Любинька сделалась снова больна ногою. На этот раз мне её несколько жаль, т. е. в сердце чувствую симпатию, хотя, правда, весьма слабую. Утром ходил поэтому я смотреть квартиры. Ив. Гр., конечно, этим не воспользовался. Пришёл в 3, он также смотрел квартиры. Неизвестно, сходим мы или нет. Я ходил после обеда к доктору справиться о том, как употреблять данное из аптеки. Вечером писал.
В субботу утром пошёл к Срезневскому и Корелкину, к первому за словарем и Карамзиным, ко второму отнести речь Срезневского, чтобы сделать ему одолжение, но собственно, чтобы спросить, нет ли писца, и взять Карамзина. (Вас. Петр. отказался переписывать, потому что я сказал несколько слов только, но высказал, что необходима четкая рука.) Карамзина не спрашивал, писца не знает, поэтому я пошёл к Соколову, на которого более и надеялся. У него есть такой писец, и я оставил ему адрес Чумикова. Оттуда в университет, получил письмо от своих — дай бог им всякого благополучия. После стал переписывать места, в которых есть да союз. Это заняло около 5 час, две страницы ровно вышло. После стал разбирать значение. Что-то не клеится.
Итак, эта тетрадь кончена.
Да, шёл к Срезневскому, встретил его на дороге, он обещал словари,— я пойду на другой день нового года, и сказал он, что обо мне читано торжественно,— мне показалось, что он сказал в Академии на акте. Соколов, у которого я был и который меня как-то затронул своим скромным трудолюбием, тем, что в поте лица достаёт себе хлеб, Соколов сказал, что это было в университетском Совете.
Ложусь. Эта тетрадь кончена и начинается другая. — О, если бы в ней мог я написать вещи положительные и приятные для своих и если бы записал перемену к лучшему в судьбе Василия Петровича. [347]
1850 год
Январь
(Писано 13-го у Фрейтага на лекции.)
1-ое число было воскресенье. Я проснулся рано и весь этот день писал словарь,— кажется, слово да всё отделывал; весьма хорошо занимался в этот день, так что, я думаю, часов 11 или во всяком случае 10.
Зато на другой день — 2-го, понедельник,— почти всё спал или не помню, что делал, кажется был у Вольфа; был, кажется, и Вас. Петр., во всяком случае, не более часа или двух. Да, вот что я делал: пошёл к Срезневскому, чтоб поздравить с новым годом, но пришёл, когда он ещё спал, и пошёл к Доминику.
3 [января], вторник. — Тоже не слишком много. Был Вас. Петрович.
4 [января], среда. — Был уже у Ворониных. Что-то будет, думал я, в новый год с их уроками? Они сказали, что так как Константин чувствует себя вечером слишком утомлённым, то лучше заниматься поутру, и с ним раньше, а потом давать урок маленьким детям. Это для меня было весьма приятно, как нельзя приятнее, конечно. Я этим был весьма доволен. Вечером отправился к Иринарху Ивановичу. У него не было ничего особенного; пришёл, когда уже пили чай. Вообще не слишком был доволен, что был у него — лучше бы в следующий раз быть мне у него вместо этого, потому что не было занимательно и рано разошлись. Тут за чаем рассказывали анекдоты о мошенниках.
5 [января], четверг. — Тоже занимался писанием словаря, весьма медленно, гораздо медленнее, чем я предполагал. Я уже отчаялся кончить это к 10-му или 12-му числу, даже к 15-му, и мне стало тяжело это, тем более, что неудачно — много ошибок и многого не умею разрешить.
6 [января], пятница. — Был у Вольфа, кажется, а если и не был, то не слишком много занимался.
7 [января], суб. — Снова был у Ворониных и мне дали книжку переводить с Константином, текст латинский и немецкий евангелия от Иоанна; это хорошо переводить; и сказали, чтоб учить по-латыни маленьких — хорошо. С нового года я постоянно у них завтракаю.
8 [января], воскр. — Писал снова словарь, был у Вольфа, читал «Библиотеку» несколько. Много я с этого дня до вчера тратил денег у Вольфа.
9 [января], понед. — Снова писал словарь. Словари у Срезневского, за которыми, собственно, ходил 2-го уже, решился не брать, потому что не так нужно, как раньше казалось. Был у Славинского в воскресенье, чтобы справиться у него о записках Лоренца, которые просил достать Ал. Фёд.
10 [января], вторн. — Писал письмо, конечно. Пришёл — нет, [348] не приходил Вас. Петр., нет, не приходил. Поэтому уж давно мы с ним не виделись.
11 [января]. — Был, конечно, у Ворониных, после у Вольфа, зашедши раньше остричься к Виллиаму, где, как после увидел, остригли весьма мерзко и кроме этого вдруг у меня оказалось, что не взял 1 р. с собою, а только 15 к. сер., как думал, что стоит одна стрижка, поэтому извинили меня, сказали весьма деликатно, что это ничего. Оттуда купил ручку к перу за 15 к. сер., потому что перья слишком узки, так что шатаются в гусином пере, в которое я до этого времени их вставлял, и ручка в самом деле как-то лучше. После был у Вольфа, воротился более чем в 4, к 5-ти почти только пообедал и лёг отдыхать и несколько вздремнул. И когда лежал, думал о своём словаре, как он гадок и как долго делается,— и вздумал бросить его; если Срезневский не спросит, до окончания курса не скажу ничего, если спросит,— скажу, что чувствую, что это труднее, чем я думал. Собственно, это так я решился не потому, что слишком дурно, а потому, что слишком медленно, слишком медленно делается: если продолжить это, то обработка Д займёт весь январь, а тут ещё три работы до экзаменов — 1) Срезневского лекции, 2) повесть переписать для Краевского, 3) диссертация. Итак, не успею уже заняться Д и вообще словарем. Однако, я надеюсь, что Срезневский спросит; я скажу, что бросил. «Почему»? — «Не могу теперь порядочно сделать». — «А всё-таки,— спросит он,— что-нибудь сделано?» — «Начал»,— скажу. «Покажите»,— скажет. Покажу — он расхвалит и скажет, что это гораздо лучше, чем можно было предполагать и ожидать не от меня только, а и от настоящего учёного, и не потребует более, а представлю одну эту тетрадь, которая готова,— так я избавляюсь от работы и, однако, всё равно достигну своей цели, если будет можно её достичь окончанием работы, и кроме того, приобрету ещё репутацию скромника. Конечно, едва ли этот расчёт удастся, вероятно, нет, но я стал мало думать о словаре, потому что, как вижу, слишком много работы потребует. Итак, пусть лучше пропадает то, что до сих пор сделало. Поэтому принялся снова переписывать повесть и написал несколько страниц.
(Писано снова у Фрейтага в понедельник [16-го].)
12 [января]. — Писал утром повесть. Пошёл в университет, у Куторги был и услышал, что Корелкин болен какой-то внутренней болезнью. Мне нужно было взять у него речь Срезневского, чтобы начать писать, поэтому пошёл к ним не обедавши. Просидел до 5½, съел у них кусок чего-то и весьма хорошо было, что не обедал как следует. Пришёл оттуда и несколько писал для Срезневского.
13 [января], пятн. — Утром писал несколько для Срезневского. Пошёл к Фрейтагу, там посидел и писал[358], а после вдруг вздумал [349] возмутить студентов, чтобы ушли от Срезневского. Я высказал потому, что думал, что мою мысль не примут, но после некоторого сопротивления приняли и мне поручили сказать Срезневскому, что только 2–3 [студента налицо], потому что остальные ушли, вероятно, на похороны к Кочубею. Я пошёл и сказал. Он сказал: «Как же это жаль, у нас и так, должно быть, не останется времени, чтобы дочитать, и придётся, верно, взять дополнительные часы. Да я с вами хотел говорить, г. Чернышевский: Корелкин получил возможность купить рублей на 40 книг — это так: я сказал Уварову молодому и Жемчужникову о нём, и они подарили ему эту сумму для книг. Я говорил им и о вас, но предупредил, что вы можете оскорбиться этим, так должно с вами раньше поговорить». Я сказал: «Если так, то в самом деле позвольте вас просить, Измаил Иванович, не делать этого». — «Напротив, по моему мнению, это не имеет ничего оскорбительного или обязательного для вас; напротив, должно стараться о том, чтобы это вошло в обычай»,— и сказал ещё несколько фраз в этом роде, так, чтобы убедить меня, и я согласился. Но как же мне было совестно после этого! Он так заботится обо мне, а я сыграл перед ним такую мерзкую штуку! Ужасно совестно! А всё-таки мало-по-малу ушли один по одному мы из университета и дорогою условились, т. е. снова я проповедывал, чтобы не быть завтра у Никитенки. Я знал, что этого не сделают — пойдут, но мне нужно было быть у Ворониных, поэтому-то я так уговаривал других и сказал, прощаясь: «Ну, уж я не буду».
14 [января в] субботу поэтому я думал: быть мне у Никитенки или нет? Думал зайти к Ворониным сказать и просить, нельзя ли переменить часы; если можно, то идти к Никитенке. Поэтому взял чернила и т. д., но когда вышел, вздумал, что ведь это будет противно тому, что я говорил вчера, поэтому нехорошо не выдержать своего решения перед студентами и решился не подать повода сказать: «Вот сам говорил, а между тем пришёл», поэтому решился не идти. Там тот гувернёр (не знаю, как его зовут) сам сказал мне: «Может быть, вам неудобно переменить часы?» Я сказал: «Весьма удобно; если можно в 12 вместо 10 в субботу, а в среду можно как раньше». — «Очень хорошо». Да, в пятницу от Корелкина зашёл к Вольфу и там снова ел много, так что пропасть денег вышло у меня в эти дни к Вольфу, и решился до конца месяца, до новых журналов не быть у него, хотя не думаю, чтобы выдержал это решение, потому что на другой же день был у Доминика, хотя не истратил денег.
15 [января], воскр. — Всё утро и весь день писал Срезневскому, как и в предыдущие дни. С четверга вечера написал 14 листов, т. е. 46–75 страницы его речи отдельного издания, и решился вечером отнести к нему, чтобы поговорить о деньгах, и если что замечу, сказать самому первым, что после пришли к нему в пятницу, были после студенты, чтоб избавиться с этой стороны от всякой опасности. Пошёл, застал дома. Взял прежние 25 листков, которые [350] писал на почтовой бумаге (это, на которой писан этот дневник), чтобы переписать для однообразия на такой же бумаге, как те. Он сказал, что для чего тратить так много времени,— я сказал.
Hoc in tumulto hiems arida aestatis ossa consumit (fornax)[359],— это предложил Фрейтаг в начале [лекции] 20-го, я разгадал.
(Снова писано у Фрейтага 20-го числа в пятницу, продолжаю.)
Итак… я был у Срезневского… «Так что,— говорю я,— ведь это от меня, а не от вас». Только он: «Так позвольте», сказал он, вынул с этажерки свою книжку «Мысли об истории русского языка»[360] и дал мне. Я развернул и сказал: «Это то же издание, которое теперь у меня ваше лежит. Ведь тут есть опечатки». — «Как же, и весьма глупые». — «Что же вы не давали ещё кому-нибудь читать корректуру? Всё лучше двое глаз вместо одних». — «Но ведь каждому своё время нужно». — «Помилуйте, разве не всё равно пропадает. Конечно, другое дело, если какая-нибудь чешская и т. п., чего не знаешь». — «Да вот у меня лежит чешская корректура». — «Что ж, и чешскую, если есть текст, позвольте попробовать». — «Да мне совестно отнимать у вас столько времени; я не понимаю, что вам за охота столько употреблять для меня времени». — «Это оттого, что я не встречал такого… ну, просто сказать, такого дельного человека — извините, может быть я не имею права произносить своего суждения о вас, но ведь всякий имеет своё мнение». — «У вас нет текста, так вот возьмите эту книгу вовсе» — и дал мне издание Лебедева. — «Разве же вам не нужно?» — «У меня два экземпляра». — «Покорно благодарю. Правописание вы оставляете то же?» — «Нет, меняю, и вот как» (написал главные правила). Я пошёл домой, несколько прочитал в этот день, остальное в понедельник и утром во вторник, поправил только опечатки, а не поправил правописания, потому что не умел.
В понедельник утром пошёл в университет и когда входил, встретил Алексея Ивановича, которому когда поклонился, тот заметил, что я расстегнут. — «Что это вы, мой батюшка, и без шпаги? — сказал он, отпахнувши полу. — Вы сами себя арестовали, явитесь в 3 часа». Я пошёл весьма спокойно, потому что это пустяки и, конечно, я не пойду. И после лекции ушёл спокойно домой, но когда шёл, эта встреча произвела неблагоприятное действие и был в дурном несколько расположении духа и главное — это расположение было оттого, верно, что было весьма холодно. У меня болели, бока и спина, и поэтому я всё время пролежал и проспал весь почти вечер, и не пошёл поэтому к Ал. Фёд., с которым условился быть у Соломки, а отчасти и потому, что мне казалось, будто он сказал, что зайдёт ко мне.
Вторник [17 января]. — Идя в университет, опасался, чтоб не встретился Алекс. Иванович, и поэтому ходил по коридору с осто[351]рожностью, чтоб не встретиться. У Никитенки некому, конечно, было читать, поэтому я, сидя в аудитории, написал несколько об историческом роде поэзии. Он сказал, что лучше не читать, а говорить, и поэтому мы говорили. Моя главная мысль была, что поскольку изменяет исторические характеры — это недостаток[361]. Тогда я начал читать о влиянии поэзии, которое начал писать было для Плетнёва, тут же говорил с Данилевским. Никитенко, хотя с трудом, согласился со мною. От него выходя, встретил Срезневского, сказал ему, вынимая из кармана корректуру: «Готово, только я не поправил правописания». — «Уже готово?» — сказал он. Я: «Если угодно, чтоб поправил правописание, вы позвольте мне прийти к вам». — «Очень хорошо, когда же?» — «Когда вам угодно». — «Ныне?» — «Как вам угодно». — «Ну, так лучше уж завтра, потому что ныне я хотел вечером заняться». — «Как угодно, для меня всё равно. Во сколько часов?» — «Хоть в шесть». — «Очень хорошо». — Домой, написал письмо, в котором отвечал маменьке, написал об Ал. Фёд. и моих отношениях к нему, оставив до следующего письма писать о других своих знакомых. Да, в воскресенье, когда был у Срезневского, говорил ему о том, чтобы не выпрашивал для меня книг, как он говорил, потому что, сказал я, это может… (звонок). (Писано это, когда я сидел под арестом, в 5 ч. 10 м. Начал писать в ту же пятницу 20-го числа. Жаль, что пропадает вечер или во всяком случае полвечера.)
Продолжаю: потому что, сказал я, это может оскорбить папеньку. Это правда в самом деле, но более правда то, что мне самому не хотелось бы этого, потому что оскорбительное довольно положение. Но мне совестно сказать прямо Срезневскому, что то, что он вздумал, я считаю унизительным для себя. Он довольно долго говорил о том, что это ничего. Разумеется, я вообще говорил в своём прежнем духе и, наконец, я ушёл, не зная хорошенько, будет ли говорить обо мне, если будет случай, или оставит это дело.
В этот день не виделся я с Алексеем Ивановичем и думал, что всё может сойти с рук, т. е. сходить-то с рук нечему, а он может позабыть; а вот, однако, не позабыл.
В среду я был у Ворониных, к Никитенке не пошёл уже, а вместо этого должно быть был у Вольфа; да именно был. Когда пришёл домой, в 4 часа с лишком, мне сказали, что у меня был Ал. Фёд. и сказал, чтоб я непременно отправился с ним ныне в Пажеский корпус, что и в понедельник он был в ужасно затруднительном положении. Хорошо, что мне делать, когда я должен в этот вечер быть у Срезневского? Я, полежавши, т. е. отдохнувши несколько, пошёл в 5 ч. к Ал. Фёд. и сказал ему, что так и так, не могу быть. Сначала было мы условились с ним о том, чтобы зайти в Пажеский корпус от Срезневского, после я, более по лени, [352] чем потому, что думал, что в самом деле долее 8 ч. просижу у него, сказал, что едва ли я успею, что уж лучше в другой раз. Итак, я от своей лени, или как это сказать, потерял два урока или три. Пошёл к Срезневскому в 5 ч. 20 м., пришёл — не было 6. Сели,— он с одной стороны стола, я с другой, и он стал делать какие-то выписки, а я читать корректуру, спрашивая у него, как должно быть правописание слов, если сам не мог решить. Так просидел дальше 8 ч., т. е. кажется более двух часов, а впрочем не могу сказать, когда позвали пить чай. Когда я вошёл в ту комнату, которая направо в этом маленьком коридоре, который служит у него прихожею, я увидел там Данилевского и ещё одного молодого человека, которого зовут, как я услышал, Александр Фёдорович и который брат Катерины Фёдоровны, его жены. Потом открылось, что это тот же самый, который писал в «Современнике» «О смерти Ярополка», ту статью, которая мне показалась слабою (хотя выказывающею знания летописи) и особенно написано так, как её писал бы Соколов и[ли] кто-нибудь в этом роде, которые не умеют слепить несколько фраз вместе, и он же написал об удельных отношениях в древней Руси, которая помещена в «Библиотеке», должно быть (кажется, что не в «Отеч. зап.», нет, точно в «Библиотеке»). Он человек не глупый, т. е. умнее несколько Данилевского, но принадлежит к тому же классу.
Разговор сначала был о Лермонтове, которого я защищал, хотя не вдавался в жаркие тирады, потому что разговор был спокойный, после несколько о Гоголе, которых Срезневский не хотел считать людьми одной величины с Пушкиным (а я по голосу Вас. Петр. ставлю Лермонтова выше Пушкина, а Гоголя выше всего на свете, со включением в это всё и Шекспира и кого угодно). Здесь разговор был довольно ещё занимателен, далее становился всё менее занимателен, к концу снова несколько оживился. Я всё сначала ждал, что мы снова пойдём работать, после увидел, что нет, но не знал, как встать, когда другие сидят, потому что я тут, конечно, лицо незначительное; таким образом просидел до половины первого. Я говорил не слишком много, даже довольно мало, с некоторою, однако, самостоятельностью, хотя слабою. Несколько раз говорил весьма глупо, как, однако, и всегда это случается.
Четверг [19 января]. — Всё утро читал корректуру, дочитал до 4¾ столбца (всего было 1½ листа, на каждой странице 3 столбца, на 3-х только 2 вместо 3, и из них 3¼ были прочитаны у Срезневского). На это было употреблено 2½ часа. После стал читать в третий раз, на это было употреблено более 4-х часов, и кроме того, все эти дни, т. е. 3 или 4, я читал роман Maturin «Мельмот-Скиталец». Нельзя сказать, чтобы у этого Матюрена, или как там его зовут, не было решительно таланта, напротив, есть талант, есть и некоторое знание человека, но сам роман нелеп и бессмыслен, если не имеет смысла показать бессилие[362] искусителя[353] или ужасность положения человека, меняющего будущую жизнь на настоящую. Всё-таки я читал с любопытством, так я ещё глуп,— хотя некоторые части весьма скучны, напр., рассказ этого Монкады о его пребывании в монастыре (вторая и половина третьей части). И вот что ещё хорошо характеризует мою трусость при моём религиозном, не то что неверовании, а в этом духе, т. е. я не христианин по убеждению, т. е. не был бы христианин, если бы во мне доставало смелости духа, небоязливости перед тем, во что не чувствую нужды верить,— итак, несмотря на это, на меня произвело некоторое действие довольно пламенное, не знаю, однако, хорошо или глупо написанное, описание мучений ада в последней половине 6-й части. Не знаю, хорошо или глупо писано это, говорю я, потому что и эти страницы, как и весь роман, читал как нельзя беглее, читал только 3-ю долю строк и выпускал остальные. Эти книги дал прочитать Любиньке один из поляков.
Итак, к чаю, который в 7½ час, я кончил свою корректуру; пришёл Ал. Фёд. и просидел до начала 10-го. Он сказал, чтобы я был у него в понедельник и мы пойдём вместе,— ах, я уже и позабыл день — не в понедельник и не в субботу, а в какой-то другой, нужно, когда выпустят, зайти спросить, в какой именно. Итак, он ушёл, я вместе с ним, чтоб отнести листы Срезневскому и сказал ему, что если он более не даст, я сочту это так, что это не годится в дело. Он говорит: «Странный вы человек». Я не сел. В университете не был.
20 [января], пятница. — В среду или пятницу я не был в университете, более затем, что думал, что если в эти дни не попадусь на глаза Алекс. Ивановичу, то и вовсе позабудет, а вот между тем нет. Хорошо. Итак, я когда встал, у нас было ужасно холодно — в моей комнате 11 только градусов. Мне Любинька сказала написать что-нибудь аткарским[363]. Так как написать было нечего, то я написал о переводе, если можно, Сашеньки сюда. После пошёл в университет, взяв Sismondi, чтобы переменить. Пришёл почти перед самою лекциею, просидел у Фрейтага, отгадал загадку[364], потом глупо сказал, что Taenaros подле Трои, и только всего. Об Алекс. Ив. и не думал, когда кончилась лекция, а между тем как пришли мы к Срезневскому, он подошёл к дверям, вызвал меня и сказал: «Что же вы думаете, г. Чернышевский? я нарочно дал нескольким дням пройти». — Я сказал ему: «Я хотел извиниться перед вами, что не мог явиться в те дни, потому что в понедельник обещали мне доставить урок, во вторник у меня был урок, в среду и четверг я был не совсем здоров и не был в университете». Он было мычал что-то, но я, разумеется, не перебивал его слишком, чтобы не горячиться обоим; говорил, что нужно, когда он успеет высказать главные слова своей мысли. Он сказал, наконец: «Явитесь же ко мне в 3 часа». Я был более всего в затруднении — куда явиться: в комнаты к нему, что ли, или куда? А однако, думал и то, что едва ли он в самом деле посадит под арест, а вообще это не произвело на меня, хотя я и уверен [354] был, что, конечно, посадит, никакого ровно впечатления, и теперь я в хорошем расположении духа, но если (хотя сторож сказал, как напишу ниже, что нет) должен буду просидеть ночь, то расположение моего духа переменится.
Хорошо. Кончилась Устрялова лекция, я пошёл. Он стоит в дверях; я, подождавши, когда пройдут студенты, потому что несколько совестно, т. е. напротив, а вообще я не люблю, чтобы знали, если могут не знать, про меня что бы то ни было, хорошее или худое,— так я подошёл к нему и сказал: «На сколько времени?» — когда он сказал, чтоб оставался в сборной комнате. — «После узнаете». — «Нет, это я спрашиваю для того, чтобы, если нужно будет оставаться на ночь, то уведомить об этом своих». Разумеется, остался. Вошёл Бострем в эту комнату и спросил, арестован ли я. Я сказал, что да. — «Ну, так останьтесь хоть не надолго». — «Хорошо».
Бострем славный человек, не знаю, впрочем, только он мне нравится своею рассудительностью и обходительностью, между тем как наш Алекс. Ив. глуп и суетлив, хотя в сущности тоже добрый человек, но слишком торопыга и кажется с некоторой, как бы сказать — ну, одним словом, вот что он глуповат, иначе нельзя сказать (в этом роде, напр.,— любит Корелкина, а между тем, как Попов пришёл ему сказать, что Корелкин болен, так чтобы послал врача, он сказал: «Скажите ему сами, а главное, у вас длинные волосы». — Глуп или нет?). Сначала я дожидался, что принесут обед — нет. Тем лучше, это мне забавно, и если случится, я кольну этим Ал. Ив. Я остался и стал читать Сисмонди и прочитал более 50 стр. в весьма хорошем вообще расположении духа. Когда понадобилась свеча, я отыскал сторожа, зажгли, а если бы нет, то я сказал бы Ал. Ив., чтобы извинил — я уйду (теперь бьёт 6 ч.). Сторож сказал: «Да ведь вас отпустят, потому что не приказано выдавать вам койки». Но что мне это, ничего. Есть несколько хочется, но мало, всё равно, что в 3 часа, так и теперь. Меня это несколько забавляет, что по забывчивости или потому, что я сам не сказал, не подали мне обед. Я подожду до 7 ч.; если до тех пор не выпустят, я, предупредивши сторожа, схожу в лавочку за булкою. Хорошо.
Итак, теперь дописал до самого конца своего земного поприща, т. е. история моя доведена до настоящей минуты, а как говорят, что остановившаяся история — статистика, разумеется, нравственная и политическая, статистика же материальна, то и принимаюсь очерчивать свой образ мыслей теперешний.
С год должно быть назад тому или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме[365]. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа, чтоб как скоро начнётся правление народное, правление de jure и de facto перешло в руки самого низшего и многочисленнейшего класса — земледельцы + подёнщики + рабочие,— так, чтоб через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком[355] случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был ещё того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии. — А теперь я решительно убеждён в противном — монарх, и тем более абсолютный монарх,— только завершение аристократической иерархии, душою и телом, принадлежащее к ней. Это всё равно, что вершина конуса аристократии. То когда самая верхушка у конуса отнята, не всё ли равно? Низшие слои изнемогают под высшими, будет ли у конуса верхушка или нет, только самая верхушка ещё порядком давит на них — и давит чрезвычайно порядочно; это, во-первых, стоит народу много денег и слёз и крови, во-вторых — как замок в своде, поддерживает, образует, развивает аристократию. Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше; пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться, потому что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах, а в низших, которые ты предоставляешь на совершенное угнетение, на совершенное иссосание средним, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнётся угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, и между угнетателями их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. — Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променял бы свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренно, с убеждением, без своекорыстной цели, который тотчас же, как достигает, чего хотел, ломает свои орудия и развил бы свои убеждения до того, до чего они должны быть развиты, до их крайних последствий, а эти последствия: лучше d'en bas[366], чем d'en haut[367] анархия, потому что там хоть не может быть таких бесчеловечных отношений, понимаете ли, не действий, а отношений, а это важнее. Что мне за дело, хороший я человек или нет, добрый или нет, когда я считаю себя человеком, а другое существо подле меня собака,— разумеется, она всегда и будет для меня собакою и уже человеком ей не бывать для меня; стану или нет я её бить — это дело случайное, да и дело пустое, а чтобы я сравнял её в правах с собою: может ли это быть? Об этом безрассудно и думать. Вот мой образ мысли о России[368]: не[356]одолимое ожидание близкой революции и жажда её, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. — что нужды? — Человек, не ослеплённый идеализациею, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на всё зло, какое сначала принесли они, не может устрашиться этого; он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии,— я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперёд в истории. Разве и кровь двигается в человеке не конвульсивно? Биение сердца разве не конвульсия? Разве человек идёт, не шатаясь? Нет, с каждым шагом он наклоняется, шатается, и путь его — цепь таких наклонений. Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало. (Оно идёт, как человек: путь и человека и человечества от а к б — линия аб, не а' б', хорошо, если (как это очень часто бывает) не линия а'' б''.
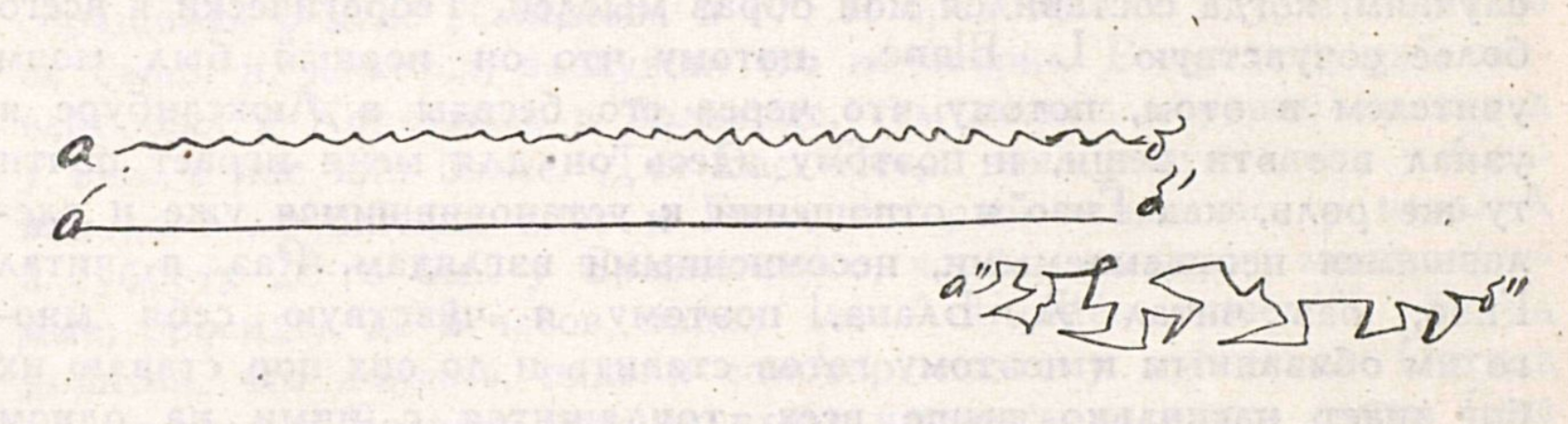
(Ведь это странно, какие я отпускаю штуки — несколько похожу как будто через них на помешанного всегда, между тем как постоянно я весьма апатичен,— ну, как вдруг, говоря спокойно, прибегать для выражения своей мысли к этим чертежам?)
(Сейчас входил на минуту Савельич сказать, чтоб я взял шинель, потому что будет холодно. Я сказал, что ещё ничего. Продолжаю.)
По образу своих мыслей принадлежу я сам не знаю, к какой именно партии социалистов-демократов, став не то чёрным, не то красным; не знаю, к какой именно; не ожидаю исполнения и сотой доли того, чего надеется большая часть приверженцев этого учения от торжества его, т. е. я сам верю во всё это, но моя трусость препятствует мне вообще всегда во всём, что я люблю, ожидать чего бы то ни было, кроме неуспеха, разочарования и т. д., поэтому я нисколько не очарован. Я даже думаю, что на самом деле торжество этой партии, доставит более блага низшим классам, двинет человечество несравненно более вперёд, чем я думаю, принесёт гораздо менее бедствий при своём введении, т. е. кровопролитий, войн, бунтов и терроризма, гораздо менее, чем я ожидаю; итак, немало из того, что обещают, ожидаю я, как исполняющегося со временем на деле от торжества этой партии. Но я всей душою предан этому новому учению, хотя не могу сказать, чтобы верил [357] в него относительно догматов его, не только относительно следствий Я слишком большой трус, слишком нерешителен для этого. Но всё же я привержен к этому учению всею душою, сколько только могу быть привержен по своему подлому, апатичному, робкому, нерешительному характеру. И в развитии следствий я иду гораздо дальше, чем идут большая часть этих господ, т. е. идей о «liberté, égalité» и т. д. Это происходит от моего характера, который неспособен к деспотизму от слабости и которого раздражает малейшая несправедливость или притеснение или унижение, которым он подвергается, т. е. раздражает как факт не всегда, а только судя по состоянию духа, а раздражает всегда в ожидании и в прошедшем, в воспоминании, раздражает и бесит и волнует кровь уж как одна возможность. А факты весьма часто совершаются надо мною самые унизительные, и я нисколько не чувствую от этого [боязни] сложить те выводы, которая отличает, как чрезвычайно далеко в этом отношении зашедших, Proudhon, E. de Girardin, L. Blanc и т. п., и применить это к всем возможным случаям, когда составился мой образ мыслей. Теоретически я всего более сочувствую L. Blanc, потому что он первый был моим учителем в этом, потому что через его беседы в Люксанбуре я узнал все эти вещи, и поэтому здесь он для меня играет почти ту же роль, как Гизо в отношении к установившимся уже и сделавшимся неотъемлемыми, несомненными взглядам. Раз я читал Гизо, раз читал Л. Блана, поэтому я чувствую себя много им обязанным и поэтому готов ставить и до сих пор ставлю их бог знает насколько выше всех, трудящихся с ними на одном поле.
В религии я не знаю, что мне сказать — я не знаю, верю ли я в бытие бога, в бессмертие души и т. д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостаёт твёрдости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом, а если бы у меня была смелость, то в отрицании я был бы последователь Фейербаха[369], в положении — не знаю чей,— кажется тоже его.
В других отношениях люди, которые занимают меня много: Гоголь, Диккенс, Ж. Занд; Гейне я почти не читал, но теперь может быть он мне понравился бы, не знаю, однако. Из мёртвых я не умею назвать никого, кроме Гёте, Шиллера (Байрона тоже бы, вероятно, но не читал его), Лермонтова. Эти люди мои друзья, т. е. я им преданный друг. Тоже Фильдинг, хотя в меньшей степени против остальных великих людей, т. е. я говорю про мёртвых; может быть, он и не менее Диккенса, но такой сильной симпатии не питаю я к ним, потому что это своё и главное — это защитник низших классов против высших, это каратель лжи и лицемерия.
Что ещё сказать о себе? Вас. Петр. я по прежнему считаю если не умнее себя, то во всяком случае проницательнее и гораздо старше по уму во многих отношениях, и не могу защищаться от [358] этого влияния, когда он произносит суждение своё о каком-нибудь, особенно литературном, сочинении. Но [в нём] много такого, т. е. одно что-то такое, проявляющееся под различными видами, что мне не нравится,— есть что-то такое, что есть в Любиньке, например, и в других, это я не умею хорошенько назвать, род пошлости, или в этом роде. И ухватки, и манера говорить часто не нравятся мне. Напр., каждый раз, когда он произносит слово «целковый», я слушаю с неудовольствием его произношение, и мне кажется, что манера произносить это слово самое полное выражение той стороны, которая мне в нём не нравится.
Пишу в субботу, 4-го числа, дожидаясь Никитенку, потому что пришёл рано — почему, напишу после, если успею.
В неделю, следовавшую за тем, что я описал в предшествующем дневнике, ничего замечательного не было, кроме того, что в следующую пятницу, 27-го, т. е. через неделю, получил я посылку, т. е. икру, которую прислали из Саратова. Поляков, с которым прислали, довольно умный человек и несколько образованный. Я напился у него чаю и поговорил с ним без скуки. Он расспрашивал о деле Ханыкова и Кº. Я представлял ему, что ничего не было, и, кажется, заслужил его недоверие. В предыдущий четверг был у Корелкина в больнице, там весьма хорошо; просидел у него с час или более. Для Вас. Петр. взял в этот день у Славинского английских книг и Гизо, который лежал всё у него. А в субботу 28-го был у Срезневского, чтобы выписать места нужные; просидел до 8 часов, видел les Antiquités russes[370]. Когда дописал, что должно, подали самовар, поэтому я остался. Оттуда идя, зашёл к Вольфу, потому что с четверга носились слухи (мне первый сообщил их Тимаев), что прусский король бежал в Англию. Я был рад весьма, весьма, но, конечно, не доверял, потому что теперь не такое время и не из-за чего, кроме как разве не стал присягать этой конституции; но я не думаю, чтоб теперь могло быть удачным восстание, однако всё-таки думаю: авось, бог милостив. Там пробыл до 11 и почти засыпал от утомления. Когда пришёл, мне сказали, что у нас был Поляков.
В воскресенье утром был Вас. Петр. Завтракали вместе икрою и под конец он заговорил о своих отношениях к Над. Ег. Мне снова стало его интересно слушать, как было в первое время [после] свадьбы. Он лучше к ней расположен, чем я обыкновенно думаю, т. е. более чувствует к ней нежной заботливости, хотя любви совершенно не чувствует. У него теперь надежда получить место при таможне через Бельцова, только чудак Бельцов, что бросил службу и уезжает в Кексгольм, где у него поместье. Я что-то думаю, что это дело рассохнется. Бельцов говорит, что можно получить. Просидел до 4 и обедал у нас. Я проводил его после к Вольфу. Пришёл оттуда в 7½, у нас Анна Дмитриевна (у которой я раньше был и которая, приехавши сюда, остановилась у Н. Дмитр., который довольно порядочный человек). Ал. [359] Фёд., который был с нею, сказал, что он сказал Соломке, что я болен. Я, кажется, уже писал, что Ал. Фёд. предложил мне давать уроки у Соломки из химии и аналитики. Я думал, что аналитика равна тригонометрии, и согласился, но потом, когда увидел, как много нужно времени, чтобы готовиться из химии, потому что она вся наполнена (Гессова) техническими процессами и ничего общего нет в ней, так что всё должно учить, у меня весьма остыла охота, потому что слишком много нужно времени. А в пятницу перед этим,— нет, в понедельник это, т. е. не 20-го, а кажется 23-го,— был я у него, и аналитика вовсе не то, а что-то такое, чего я вовсе не знаю, поэтому я решился отказаться и сказал об этом Ал. Фёд. утром, во вторник или среду, хоть мне и казалось неловко. Проведши у него несколько времени, сказал прямо, что не могу, потому что не знаю. А главное, не то, что не знаю, это бы ещё ничего, а то, что слишком много нужно времени, а теперь не до того, и у меня сжимается сердце, когда я подумаю, что должно сделать мне в эти два месяца: 1) докончить Срезневскому, 2) докончить переписку повести,— это я думаю кончить к концу февраля; в марте должно: 1) переписать записки Куторги и другое, что пропущено, 2) диссертацию написать,— это ужас, едва ли успею как должно; нет, успею. Хорошо. Так слишком много времени будет нужно для Соломки. Итак, теперь Ал. Фёд., когда был у нас в воскресенье, сказал,, что он сказал Соломке, что я болен и что поэтому ничего. Когда они уехали, я, кажется, немного писал для Срезневского. Должно сказать, что всё это время, с самого начала лекций до этого числа, т. е. до настоящего времени занято у меня перепискою для Срезневского, для которого выписал 53 листа, т. е. часов 70 или лучше 80 для первого семестра, да теперь написано 8 листов и отнесено 2 семестра, итак, около 90 часов.
Так как наши решили посылать подарки своим всем, то и мне, кажется, нужно послать папеньке бархату на камилавку, тем более, что Ив. Гр. взялся купить ножичек и купил не в английском магазине, а в голландском, и всего за 2 р. сер. вместо 5, как писал папенька. Жаль мне, что я сам этого не сделал.
Понедельник, 30 [января]. — Должно сказать, что я с самого начала лекций сделал так, что не был ни у кого, кроме Никитенки, Срезневского, большею частью Фрейтага, иногда у Устрялова, только раз у Куторги, ни разу у Неволина, так что только бываю в понедельник, вторник 3 лекция, среду и четверг пропускаю, в пятницу одна или две, или 3, в субботу Никитенко; так и теперь, писал весь [день] Срезневского и читал, проверяя, так что можно будет отнести последние 13 листов, 2½ первого полугодия. Думал застать его дома и списать у него следующую лекцию, но не застал дома и вместо этого пробыл несколько времени, кажется, у Доминика.
Вторник, 31 [января]. — У Никитенки говорил о том, что древние языки не стоят внимания. Он согласился довольно на всё, [360] кроме формы и высокого достоинства отделки, так что я мог сказать: «Итак, идеи нет, содержание не годится, остаётся форма» в произведениях древности. Довольно разгорячился я на лице, в душе был, как обыкновенно, совершенно холоден, но как-то téméraire, т. е. какая-то забывчивость о всём, так что думал только об этом; кажется, это произвело некоторое впечатление на студентов, напр., Тимаева и Лыжина. Лыжин пошёл со мною вместе и говорил об этом и отношении к истории европейских наук (по вопросу о Мальтусе, [про] которого читал он у Милютина[371]), и после Славинский мне сказал, что я реформу задумываю,— значит, об этом говорили у Куторги перед лекциею, с которой я ушёл. Вечером пошёл к Вас. Петр., который упрекал, что я у него не бываю; всё боролся с ним, я доставал его бумаги, он сильнее меня. После зашёл к Славинскому, узнал от отца о цене бархата.
Февраль
Среда, [1 февраля]. — Утром был у Ворониных, как всегда, думал получить деньги — нет. Вечером писал, и только.
Четверг, 2 [февраля]. — Утром был снова Вас. Петр. несколько времени. Вечером писал. Хотел нести Срезневскому, но не понёс, потому что вздумал: не стоит спрашивать следующей лекции, потому что не было ничего такого, чего бы нельзя хорошо записать, а если не стоит спрашивать следующей лекции, [то] не стоит его беспокоить в этот вечер, потому что он приготовляется. Так и не пошёл. Вечером, кажется, что был Ал. Фёд.,— да, был и отдал вместо 10 руб. сер. мне 8; это ничего — всё равно достанет заплатить.
Пятница, 3 [февраля]. — Утром читал книгу Срезневского, поправляя опечатки. Вечером пошёл к Срезневскому, только отдал ему. Он не оставлял сидеть, поэтому я воротился домой. Когда пришёл, у нас был Ив. Вас; мы встретились с ним как нельзя дружественнее. (Писано у Фрейтага, в пятницу 10-го.)
(Писано 17-го в пятницу, потому что пришёл к Фрейтагу рано.) В эти две недели тоже я бывал только в пятницу у Срезневского, понедельник и пятницу у Фрейтага, субботу и вторник у Никитенки; другие лекции не посещал до 14-го, писал всё Срезневского. Переговоры должен был переписывать три раза одну половину, а другую половину два раза, от этого так много времени шло на переписку их. Потом что делал в неделю до (это пишу у Фрейтага, тогда не докончил, потому что подошли Куторга и Пршеленский) субботы 11-го? Ничего особенного не было, всё дожидался перехода на другую квартиру и ходил в кондитерские, потому что после уже нельзя будет часто бывать там. В среду был у Ир. Ив., не бывши пять недель. Он сказал, чтобы не забывал его. Я несколько участвовал в разговоре, хотя мало; слышал, между прочим, рассказ о Гоголе, как он в Германии схо[361]дил на двор в кожаный мешок и как его два раза поднимали ему. Это рассказывал, как кажется, Милюков — должно быть, что его фамилия Милюков. Этот Милюков говорит в социалистическом духе, как говорю я, но мне кажется, что это у него не убеждение, как [у] Ир. Ив. или у меня, что у него не ворочается сердце, когда он говорит об этом, а так это только говорит он,— и все эти господа мне кажутся несколько пошловаты, кроме Ир. Ив. — он, конечно, лучше других, да ещё после военный — Дмитр. Иванович, а Краузольд и Вадим Ник. довольно забавны, хотя этот Вад. Ник. лучше Краузольда, а уже и Краузольда далеко непостижимо превосходит один офицер, который бывает у них и которого я в первый раз видел в этот раз и который теперь рассказывал о балете «Взятие Ахты» преуморительно, а ещё уморительнее был он в следующий раз, т. е. 15-го числа, когда говорил о зубном враче праведном с Дм. Ивановичем.
В субботу мы хотели переезжать на новую квартиру, поэтому я от Ворониных пошёл отыскивать её. Нашёл, в ней было холодно, как на дворе, и это продолжалось до вторника, я думаю. Поэтому я был весьма недоволен этою квартирою, весьма недоволен.
(Писано у Фрейтага снова, 20-го, в понедельник.) — Следующую неделю особенного ничего; до среды этой я писал Срезневского, в среду был у Введенского снова,— нет, кажется, не был — так, так, я перемешал оттого, что мне показалось, что написал «6 суб.» вместо «7 суб.». Конечно, мы перешли не 6-го. Итак, 14-го мне принесли повестку быть у следственного пристава, я довольно встревожился, потому что решительно не понимал, из-за чего, и тут решительно почувствовал свою робость. Во вторник отнёс вечером Срезневскому листы до рождества, которые не нужны Лыткину. В среду, как пообедал (получил утром у Ворониных 10 руб. сер.) — к Вольфу, у которого дочитал «Отеч. зап.» и с любопытством читал газеты. После зашёл к Ал. Фёд., занёс газеты, взял другие. У Введенского говорил довольно много и играл довольно значительную роль в разговоре, так что более даже Вадима Никол., менее только доктора одного. Туда идя, сел отдохнуть у схода на Неву довольно долго. Когда вставал, сказал извозчик на Неве, что за пятачок свезет; я сел и говорил с ним об их положении как крепостных, только вообще говорил, что должно стараться от этого освободиться (дал ему гривенник, и он чрезвычайно был рад). А когда оттуда ехал за 15 коп. сер., теперь говорил уже с извозчиком весьма ясно, что [надо] силою чтоб требовать, добром нельзя дождаться. Между прочим, я для того был у Ирин. Иван., чтобы позабыть об этом приглашении к следственному приставу.
16-го [февраля], четв. — Там штраф заплатил 60 коп. сер., чтобы избавить от большого штрафа Максимовича, который собственно был виноват, не записавши в книгу моего билета. И успо[362]коился. Теперь в пятницу — ничего особенного, в субботу тоже — более всего спал, также читал «Современник» 2 и после 1 № — 19-го, в воскресенье и предыдущие дни несколько писал свою повесть, но весьма мало, потому что сомневался, пошлю ли её в журнал — едва ли, поэтому и мало писал. После пришёл Вас. Петр. и просидел до 5 [час]. Мы, наконец, стали говорить о переворотах, которых должно ждать у нас; он воображает, что он будет главным действующим лицом. Когда ушёл, я почти всё время проспал до этого времени, до 8 час. понедельника, просыпаясь только для чая. После завтра снова буду у Иринарха Иван., ныне верно придётся идти к Славинскому за Галаховым для Никитенки.
(Это писано в пятницу у Фрейтага, 24-го числа.) Утром в понедельник взял деньги в почтамте и отдал их после Любиньке все. Из университета сказал Славинскому, что я к нему, чтобы взять Галахова. Мы поехали на его счёт, там обедал; хотел быть у Вас. Петр., однако не был, а вместо того пошёл к Вольфу, у которого до 6 час, после домой, проклиная всё, потому что скверная погода и чрезвычайно сыро.
Во вторник читал «Памятники» Пушкина и Державина[372]. Мне кажется, что Державина лучше. (В воскресенье отдал 6 руб. сер. из 15, которые получил от Ворониных, Вас. Петровичу.) Никитенко поручил разобрать «Медный всадник», в среду я, увидевши у Вольфа Данилевского, выписал у него. Вечером ничего не делал. В среду (22-го) от Ворониных пошёл в университет, оттуда к Вольфу, после зашёл к Ал. Фёд., который попросил завтра принести ему 3 целковых, я обещал; он сказал также, что Михайлов едет сюда; я этому был рад от души. У Ир. Ив. разговор не был занимателен; только для меня было интересно, что были Чистяковы, и он подошёл и поздоровался со мною, между тем как я просто стоял.
В четверг утром пошёл к Фрицу заказать сапоги, после к Вас. Петр., который писал, поэтому я ему мешал и поэтому тотчас ушёл от него к Иванову, где читал снова газеты. Когда пришёл в университет, попался (писано у Фрейтага в понедельник 26-го) Ал. Ив., который сказал, чтоб остриг волосы. Я сказал: «Очень хорошо» — и был чрезвычайно раздосадован этим скотом.
В пятницу рано вышел из дому, чтоб остричься, и пошёл к Petit et Wendt, где мерзко остригли виски, слишком коротко, хоть говорил, чтоб этого не делали. Вечером спал.
В субботу у Ворониных обедал, пришёл домой в 5, потому что нечего было делать, потому что записок не было, и скоро уснул, написавши несколько из «Медного всадника» разбор. Гораздо слабее, чем я думал, это произведение, «Русалка» (на которую указал мне Михайлов) и «Дон-Жуан» гораздо лучше, гораздо лучше. «Галуб» тоже плох. Я разбирал довольно строго, хотя с большим снисхождением — для Никитенки; если б писал [363] для журнала, верно б резче. В пятницу спросил Фишера, когда входил он в аудиторию: «Позвольте посоветоваться с вами — я хотел писать диссертацию для вас». — «Не делайте этого, пожалуйста, не советую, неудобное время» — это я помню слово в слово. В субботу спросил поэтому у Никитенки, который сказал: «Что же, о трёх наших комиках: Фонвизине, Шаховском, Грибоедове,— конечно, с осторожностью». Я сказал, что постараюсь. Но может быть, о трёх не успею, и теперь хочу о Фонвизине одном[373], для этого [надо] подписаться в библиотеку, как получу от Ворониных деньги.
(Писано 13 марта, в понедельник, в университете.) Конец февраля ничего не делал, и ничего особенного не случилось.
Март.
1 [марта]. — Был у Ир. Ив., ничего особенно занимательного там не было, и я играл не слишком блестящую роль. Решился пропустить одну среду и поэтому следующую не был, а буду завтра.
2 [марта], четверг, 3-е пятница, 4-е суббота и т. д. до 7-го, вторник. Читал корректуры для Срезневского, то, что набрано (1–48-й столб, певцов чешских), и переписал потом для печати остальные песни из Краледворской рукописи.
В понедельник, 6-го, болели зубы, поэтому не пошёл в университет, а поставил сапоги в печь по своему обыкновению; они там сгорели, поэтому я пошёл в ужасной досаде к Фрицу, чтоб сделал поскорее. На дороге встретился с Ив. Вас. и зашёл к нему. Во вторник этот и прошлый читал (т. е. 28-го [февраля] и 7-го) у Никитенки «Медного всадника», которого разбор написал, поэтому здесь не буду говорить. Оттуда пошёл к Вольфу. Решил или купить сапоги, или взять у Ал. Фёд. — не застал дома. Поэтому зашёл к сапожнику и купил за 3 [руб.] 50 [коп.] головки и теперь ношу. Не так мерзки, как я думал, конечно, всё-таки гадки, т. е. гадки каблуки, а между тем это было совершенно не нужно, потому что на другой день принёс Фриц утром; я несколько подосадовал на себя. Получил из дому 20 руб. сер., осталось 15 за расходом на сапоги, из них 13 отдавал Любиньке, которая возвратила тихонько, и ночью я снова положил ей в ящик.
Итак, 9-го не был у Ир. Ив. В четверг, 9-го был урок у Ворониных вместо того, что не был в среду. Лекция в этот день и ныне, 13-го, дополнительная у Срезневского. 10-го снова был у Вольфа — красные победили[374], поэтому мне была радость некоторая, что-то теперь там? Ныне, если не будет тетради, от Срезневского зайду.
Суббота, 11 [марта]. — Получил письмо от Сашеньки и стал писать. Вечером был урок у Ворониных. [364]
12 [марта], воскресенье. — Если угодно, этот день несколько опишу подробнее.
Продолжаю дома, в воскресенье, 19-го числа, в 4 часа, кончивши разбор своих университетских тетрадей. При этом у меня, как-то по-старчески, была тоска о прошедшем — итак, боже мой, в последний раз, скоро это будет чуждо!
Итак, в воскресенье, 12-го, был у меня Вас. Петр., пришёл довольно не рано и довольно недолго вечером сидел, всего разве 5 часов. Говорил о том, о сем, кажется, весьма откровенно. Я всё настаивал, чтоб он что-нибудь писал; он говорил, что не имеет таланта; об этом, как обыкновенно, был спор, я сказал: «Что талант, нет этой вещи, а есть только ум», и отвергал специальность направления от природы; «А,— говорю,— уж если так, то я скорее всего мог бы про себя сказать, что нет таланта — ничего не могу придумать». — «Да что придумывать,— сказал он,— вот напишите например» — и рассказал историю «Экзекуторского места». Потом стал было рассказывать в общих выражениях свою историю с Бельцовой, но остановился и не захотел досказывать. Я ему дрожащим голосом рассказывал «Двойника»[375], и он сначала думал, что это я писал.
13, понед. — Устрялова не было, Срезневский кончил весьма трогательными словами, весьма трогательными, они несколько записаны у меня в тетради, и теперь я с сожалением каким-то вспоминаю, что перестал быть его слушателем. Ни о каком другом профессоре этого не осталось, а это должно быть оттого, что он слишком горячо любит свою науку.
14 [марта], вторн. — Никитенки не было, хотя мы его дожидались. Мы пошли из университета вместе с Данилевским и Лыжиным. С Лыжиным долго ходили по улицам и рассуждали; сначала мы говорили о заговорщиках, после о своих товарищах, после о его методе образования себя. Он умнее других и, может быть, не глупее меня. Вечером спал. Ходил также к Срезневскому за тетрадями.
15 [марта], среда. — У Ворониных не был, поэтому воротился домой. После к Ир. Иван., раньше, конечно, к Вольфу на несколько времени, и. у Ал. Фёд. был. У Ворониных урока не было. У Иринарха Ив. пригласил меня к себе Минаев, и несколько слов говорила со мною жена Ир. Ив. Вообще я более и более становлюсь там человеком с голосом некоторым, хотя много уступаю доктору и Минаеву.
16 [марта], четв. — Просидел дома, писал несколько, больше спал.
17 [марта]. — Прочитал Лыткина Тибулла Annotationes; написал 10 листов Срезневского и понёс к Славинскому, чтобы тот передал Лыткину; раньше зашёл к Иванову, у которого читал, когда пришёл Славинский, поэтому передал ему, сам пошёл к Вас. Петр., у которого [пробыл] около часу, после воротился.[365]
18 [марта], суб. — Утром писал, после пошёл к Неволину, оттуда шёл с Корелкиным; к нему почувствовал при этом тёплое расположение. Это была моя последняя лекция, и мы одни с ним были на ней из всего курса. После, когда пришёл домой (да, в университете взял письмо), до чаю проспал, после писал Срезневского.
19 [марта], воскр. — Как встал, до 2 час. всё пинал Срезневского, чтоб кончить на всякий случай, потому что я сказал Славинскому, что кончу в воскресенье вечером, и торопился, потому что ждал Вас. Петр.; но его не было. Когда кончил, свернул и трубки, разобрал свои тетради за 4-й курс, после этого стал обедать. Когда кончил обед, стал разбирать тетради за первые 3 курса и кончил это гораздо скорее, чем думал. — Не так громадно, как я думал. Ложусь несколько почитать. Когда будет 5½, пойду к Срезневскому отнести ему тетради.
(Писано 27 марта в первом часу в понедельник.) 19-го отнёс Срезневскому и ничего, только поговорил о Польше и т. д., но весьма вяло, и я вышел от него недовольный.
20 [марта], понед. — Не помню, что делал.
21 [марта], вторник. — Пошёл к Вас. Петр., посидел у Иванова, заходил к Славинскому и попросил его прислать мне тетради, которые нужно. Взял «Современник» у Вас. Петр., 3 №, и читал его вечером и следующий день.
22 [марта], среда. — У Ворониных было два урока.
23 [марта], четв. — Пошёл утром на толкучку, искал Фонвизина, сочинения о нём Вяземского и т. д. — до этого дня прождал, потому что дожидался денег от Ворониных, они были так милы, что ранее, чем я ждал, отдали. Купил за 80 коп. сер. Фонвизина и в этой же лавке за 50 коп. сер. 9 № Revue Indépendante[376] 1847 г. Сначала не понравилось, когда я пришёл домой, после нашёл довольно много хороших статей. Купил за 40 коп. сер. 8 №, 1847, «Отеч. записок», в котором статья первая о Фонвизине; теперь пойду, когда кончу это, отыскивать 9 №, в котором вторая статья. Этот день и следующий читал всё Фонвизина, которого всего прочитал, и Revue Indépendante, которого половину, я думаю, прочитал.
24 [марта], пятн. — Был у Ворониных, потому что в субботу праздник. Был один урок, там обедал, оттуда к Корелкину, чтобы взять Никитенкину программу, т. е. конспект за 1-й курс. У них просидел до 10¼, рассказывая события Западной Европы и т. д. Его самого не было — и весьма хорошо сделал, что ушёл.
25 [марта], суб. — Утром читал Revue Indépendante [и] Фонвизина. Вечером был Ал. Фёд., принёс 6 номеров «Débats», которые я прочитал вечером и 26, воскр. — утром, чтоб приготовить для Вас. Петр. Он пришёл в 12, просидел до 4½, я пошёл с ним вместе отнести Ал. Фёд. газеты, которые он принёс, и пошёл к Вольфу, у которого положил ноги на диван,— он подошёл и сказал мне об этом. После этого я не хочу бывать у него. Вас. Петр. отдал 10 руб. сер.[366]
27 [марта]. — Ныне утром всё читал Revue Indépendante, до этих самых пор, потому что переписывать нечего в записках Плетнёва и Штейнмана. Теперь иду справиться о 9 № «Отеч. записок»,, достать Фонвизина и отнести записки к Славинскому, может-быть, к Залеману и Корелкину.
Писано 17 апреля.
Март. — Решил вместо того, чтоб покупать Вяземского, прочитать его в Публичной библиотеке, и сделал это. Таким образом выиграл 2 руб. сер. — 9 № «Отеч. записок» читали всё это время, поэтому я решил спросить у Ворониных и был так счастлив, что получил.
Апрель
1–8 [апреля]. — С 1-го или 2-го числа начал серьёзно готовиться к Фишеру. Среди дня куда-нибудь постоянно выходил, чтоб освежиться, обыкновенно на залив. Приготовился довольно хорошо из всего, кроме, как после оказалось, психологии. 8-го пошёл,— экзамен отложили на 10-е, потому что Фишер должен был присутствовать при открытии нового цензурного комитета[377]. Потолковали, как теперь быть с экзаменами, и решили Никитенку перенести на субботу. Я был раздосадован несколько этим, отчасти и нет, потому что через это выигрывал два урока у Ворониных. Так как сидел мало, то не записал в книжку, но сами переправили они, это весьма хорошо.
9 [апреля], воскр. — Был Ал. Фёд. и толковал о поездке за границу. Я сказал, что лучше жениться, это более принесёт пользы. Пришёл Вас. Петр.
10 [апреля], понед. — Экзамен у Фишера для меня кончился довольно хорошо. Мне досталось — «о произвольном воспоминании» и т. д. и «о творческом воображении»,— не знаю хорошенько, до каких пор. А из нравственной философии — «о форме, под которой должно являться требование разума нашему сознанию», и «сравнение действительного человека с человеком, каким, его знают по сущности». Я говорил весьма живо. Плетнёв вызывал, поэтому я вышел четвёртым (первым после господ, получивших медали). Оттуда пошёл к Иакову,— он нездоров, не принял. Оттуда зашёл к Корелкину, оттуда к Нейлисову.
11 [апреля], вторн. — Пошёл отнести письмо и пришёл к Иванову.
12 [апреля], среда. — Был у Ворониных, после готовился.
13 [апреля], четв. — Готовился к Никитенке и Фрейтагу. Для Фрейтага прочитал несколько раз неправильные глаголы. Находила некоторая тоска, потому что [не] надеялся на этого скота и думал поставит 4.
14 [апреля], пятн. — Фрейтаг меня вызвал четвёртым от конца, и дело пошло ничего. Когда я читал, он так сказал, как обыкновенно: [367] «Non est Iugubris elegia, non est ergo tali voce legenda!» — «Est naturae vitium»[378] , отвечал я; и, когда читал стихи (мне достались 19–34-й стихи 1-й элегии 1-й книги Тибулла, я прочитал из них всё, кроме двух последних, которых не дочитал), в 31-м стихе вместо capellae — puellae[379], это насмешило и я сам посмеялся. Фрейтаг поставил 5, это меня порадовало. Оттуда поехали вместе с Славинским к нему, чтобы готовиться вместе из 3-го курса. Читали до 8 почти часов, после я пошёл к Иванову.
15 [апреля]. Экзамен у Никитенки мерзко шёл. Туда я переехал вместе с Казамбеком и несколько говорил с ним. Вышли мы с Корелкиным первыми, потому что Никитенко предложил самим выходить. Корелкин сел обдумывать, я стал отвечать и плохо, вяло, так что мне было совестно. Мне досталось (было так: теории — 2-й, 3-й, половина 1-го курса — смешаны вместе; история литературы снова вместе — 4-й и половина 1-го) «о высоком» из 2-го курса и «об исторических и пр. певцах нашей литературы», и я говорил о Несторе. Это оставило во мне неприятное чувство. Ушёл к Ворониным, когда было 11¼, чтоб не потерять урока.
16 [апреля], воскр. — Несколько читал Срезневского (вечером предыдущего дня и до чаю в этот день прочитал весь 1-й курс, который меня ободрил, потому что всё помню), 3-й курс сначала, и так скверно читал, что нашла тоска. Я, чтоб уйти от неё, ушёл за тетрадями и, между прочим, для Ната, который приходил утром просить достать ему записки [по] истории русской литературы. Пошёл сначала к Вас. Петр. — он готовится и говорит об этом с волнением. Когда вышел от него, пришло в голову разбирать его характер, и яснее, чем когда-либо, сознал, что у него воля весьма решительная, но слишком подчинена минутным волнениям. Напр., ему сказал Лерх, что экзамен гимназический весьма легок,— и вот он тотчас принялся, [а] через две недели остынет. Оттуда пошёл к Иванову, после к Залеману списать программу и сказать, чтоб отправил к Воронину Срезневского листки. После к Славинскому за Плетнёва записками и своими книгами; всё это достал.
17 [апреля]. — Рано встал, сначала читал несколько Фонвизина и хотел приниматься уже писать его, да не хочется, потому что выйдут общие места, уже известные раньше меня. Поэтому сел писать это. Теперь иду в университет за письмом, между прочим, для того, чтоб как будто в церкви был.
(Писано 2 мая, в 9½ час. вечера.) Ничего особенного не было до самого Срезневского экзамена. Тут, придя в университет, я получил письмо, в котором пишут, что ответ решительный на моё предложение дадут, когда я напишу, что хочу делать, а что места пусть я ищу и что это не помешает. После этого я вздумал, что мне должно хлопотать, и оттого всё утро был пасмурен; дожидались, по[368]печителя, поэтому экзаменовались медленно. Когда экзаменовался Корелкин, я сидел на стуле и стал обдумывать и, конечно, не обдумывал, а слушал. Корелкин говорил смешно и плохо, но с жестами; ему досталось о том, болгарское ли наречие церковно-славянское или нет. Попечитель похвалил; Срезневский воспользовался случаем, расхвалил и сказал, что он должен остаться здесь, чтоб продолжать заниматься. Попечитель отвечал: «Нет, пусть едет в Псков — на время нужно выехать отсюда». Когда я отвечал, Срезневский тоже выставил мои заслуги для него; мне это было неприятно, потому что они являлись ничтожными перед Корелкиными. Мне досталось о сербской народной литературе и о фонетике изменений русского языка.
Вечером я пошёл к Срезневскому отнести его тетради и более, чтоб поговорить с ним о том, ехать ли мне. Кладя на стол тетради, я сказал: «Уж это как случится (показывая на 4-й курс), а это я возьму у вас, если останусь здесь (показывая на 2-й, который точно скверно написан), чтоб переделать». — «А останетесь ли вы здесь?» — «Как случится, я сам теперь не знаю, вот так и так». — «Если так, я могу попросить попечителя — Молоствов здесь». — Сам предложил, что за необыкновенно добрый человек! — «Теперь я не знаю, как вам и сказать,— если вы скажете, это, можно сказать, наверное получить это место[380], а это я сам не знаю, хорошо ли будет»,— и ушёл, потому что пришла жена.
Когда вышел оттуда, сообразил, что: когда остаться здесь, буду работать над словарем Ипатьевским,— это займёт полгода, а ведь это всё равно и там делать, даже лучше там, главное это меня заставило решиться. Но тоска была ужасная — с Петербургом расстаться и, может быть, навсегда остаться учителем там, но подумал о том, что буду писать повести и т. д., поэтому получу средства приехать сюда и т. д., и решил, что всё равно. Всё-таки тоска, которая и теперь не совершенно прошла, хотя как-то теперь мало. Вечером сидел с Любинькою и говорил отчасти о том, ехать ли мне, более о пустяках.
2 [мая]. — Утром пошёл к Корелкину показать программу, а главное — спросить Эйнерлинга у Дозе, потому что хочу посмотреть, можно ли писать сличение летописи Лаврентьевской с Ипатьевской. После обеда передумал делать это; теперь снова хочу; нет, не буду, а буду писать Никитенке, потому что это короче и уже чисто для формы, а то какая-то половинчатость: — не то учёная, не то пустая работа. У Воронина оставил программу. После обеда сходил к Срезневскому просить его о том, чтоб просил попечителя, и сказал, что в четверг буду у него сам. После читал Фонвизина для диссертации; теперь, кажется, начну писать, когда кончу это. День этот и предыдущий прошёл скверно от раздумья. Теперь легче как-то, потому что решился.
(Писано 14 мая, воскресенье, 16 м. 12 ч. вечера.) 3, среда. — Был у Ворониных и, кажется, более ничего. Ничего не готовился [369] к Куторгину экзамену, а начал несколько думать писать теперь для Никитенки, а не для Устрялова. потому что это заняло бы много времени.
4 [мая]. — Утром пошёл к попечителю. Слишком рано, потому долго ждал на лестнице, после долго сидел, дожидаясь. Наконец, к 11 часам приехал Грефе. Скоро стал и принимать. Я думал о том, что шутил только, и что если это будет при всех, то нехорошо будет. Напротив, принимал у себя в кабинете, и как я сказал, что «место учителя в Саратове, и Молоствов здесь», он сказал: «Хорошо, я дам вам письмо, что знаю вас как хорошего человека. Да почему вам туда хочется?» — «Потому, что у меня там родители». — «Хорошо, приходите завтра».
Вечером сказал об этом Срезневскому, он сказал: «Всё-таки, когда увижусь, я попрошу».
5 [мая]. — Получил письмо. Когда вошёл, он стал писать, а перед этим несколько времени рассматривал другие бумаги, которые ему подали. Я стоял, вытянувшись в струнку и не шевелясь, так что самому казалось, что хорошо уж — что делать, подлость проклятая. Взяв письмо, тотчас пошёл к Молоствову. Он был дома, тотчас вышел, когда я постучал передать ему письмо. «Какое же вам угодно место?» — Я сказал. — «Да я ещё не получил об этом бумаги» — и вынес книгу, в которой показал, что записан у него в самом деле ещё Волков. — «Он умер»,— сказал я. — «Будьте уверены, что для Мих. Ник. я сделаю всё, что могу. Теперь со мною здесь нет бумаг, поэтому я не могу ничего сказать, но для Мих. Ник. постараюсь найти вам место». — «Итак, я могу надеяться, ваше превосходительство?» — «Я не знаю, это место, может быть, я кому-нибудь уже обещал, но что могу, сделаю. Я увижусь с Мих. Ник. Вы когда поедете в Саратов?» — «Через месяц». — «Так и подадите и мне просьбу».
Я вышел несколько обрадованный: если так, я и не подам, конечно, потому что должен буду искать здесь место и верно найду, думал я, и незачем будет.
Суббота прошла так. Писал несколько и даже начал переписывать для Никитенки. Нет, это в понедельник уже.
7 [мая], воскр. — Был Ал. Фёд. довольно долго. Наскучил до смерти. Несколько читал записки, только весьма мало.
8 мая, понед. — Был Вас. Петр., когда я писал Никитенке.
9 мая. — С этого дня начал готовиться. Нет, с понедельника, как ушёл Вас. Петр. Я отлагал так долго и потому, что Срезневский мне сказал, что Куторга сказал про меня, что я учу наизусть; значит, думал я, должно не так хорошо готовиться, как я делал раньше. Теперь всё зато уже остальное время готовился весьма прилежно, так что до 1 часу просиживал и т. д. Последний день просидел до 3 ч.; велел разбудить себя в 5, потому что не успел дочитать всего. Дорогою хотел дочитать, но шёл дождь, поэтому листов 6 осталось дочитать в университете из греческой 1-го курса (конец финансового управления).[370]
10 [мая], среда. — Хотя решительно некогда, всё-таки был у Ир. Ив. Как бы влекло меня туда предчувствие, что нужно будет быть и что буду благодарен себе после за то, что был. Пришёл. У него сидел Минаев с женою и Билярский. Мы говорили о перевороте у нас. Когда кончили они и я остался один, ко мне подсел Иринарх Иванович и сказал: «Сколько у вас экзаменов прошло, сколько осталось?» — Я сказал. — «Что думаете делать по окончании курса?» — «Просился в Саратовскую гимназию». Он с жаром стал говорить: «Не делайте этого, это значит губить себя — я сам на себе это испытал. Вы так много переменились здесь, что не можете ужиться с теми людьми; для вас здесь это не заметно, потому что постепенно, а я испытал; я ехал, например, туда наслаждаться, а провёл время в мучительнейшем состоянии. Не хотите ли в военно-учебное заведение?» — «Ах, если бы это можно было, это было бы весьма хорошо». — «И весьма вероятно, что будет можно. Я вам скажу по секрету: есть место учителя русской словесности в Дворянском полку. Ростовцев прочит это место Ксенофонту Полевому, но вы подавайте просьбу, напишите, что представите документы к назначенному времени, и всё тут. Назначение в августе, до тех пор можно будет отдохнуть, а перед тем месяц заняться». — «Ах, я был бы чрезвычайно благодарен вам за это». — «Подавайте же». — После говорили о другом. Конечно, я вышел оттуда обрадованный и, конечно, не думал почти хлопотать, если бы даже было нужно, о Саратове. Но с нетерпением ждал экзамена: что-то скажет попечитель? Если ничего,— значит, я совершенно свободен, потому что Молоствов должен уже уехать и стало быть с ним не виделся, и, следовательно, мне не должно иметь твёрдой надежды на это место. Если скажет, что обещал ему дать мне это место, тогда, конечно, уже нечего мне делать,— можно сказать, что уже получил его. Я вышел первый и тотчас стал отвечать, между тем как Куторга обдумывал. Отвечал я без жара, но довольно развязно, так что шутил и заговаривал с профессорами, которых здесь был только ещё Касторский. Но вообще делал довольно промахов, из которых главные: Дитмарсен — город (о Нибуре); первый сомневался в первобытной истории Греции Вольф (а не Винкельман), и позабыл, что плачущий[381] источник была мать, которая плакала о детях. Тотчас после ушёл в почтамт, где получил письмо, в котором говорится, чтоб я оставался здесь. Это меня так растрогало (и обрадовало довольно много), весьма, весьма и растрогало, и развеселило, и я целовал его несколько раз, довольно без порывов, а в спокойном чувстве, когда шёл по дороге оттуда к Дозе за Устрялова историею; оттуда в Штаб узнать форму просьбы; в университет после, где говорили о том, что Славинского нет, и дожидался я попечителя. Из всех (9 чел.) нас получил 4 один Залеман, другие все пятерки, но Залеман был в сильной печали, и я неловко обходился с ним, сказавши на его жалобы, что я не слышал, как [371] он отвечал. Дома за обедом получил письмо от Славинского и, вышедши, сказал мальчику сказать Як. Степ., что он весьма, весьма дурно сделал, что не был в университете. Я думал, судя по тому, как говорил о нём Лыткин, что он не был потому, что думал, что не приготовился, а между тем экзамен был слишком лёгкий. После пожалел о том, что так сказал, потому что мог он подумать, что от этого может быть какая-нибудь неприятность. Когда пришёл к нему, он сказал: «Зачем вы меня ругаете?» Он был, бедный, болен; мне так жалко стало его, так жалко, бедного. Я просидел несколько времени у него, рассказывая историю и весьма плохо, потому что так как предыдущего дня ночь спал плохо, да и в этот день не спал почти, то тяжёлая чрезвычайно была голова. Оттуда к Иванову, у него даже стал засыпать.
15 [мая], воскр. — Утром писал несколько, несколько читал, проснувшись в 10 почти, потом в 12 пошёл к Вас. Петр., который обещал дать свои стихи. Посидел у Иванова. У Вас. Петр. долго и с ненавистью, т. е., лучше сказать, с желчью, говорил о Наполеоне, так что даже в самом деле в душе было чувство враждебное к нему, которое особенно усилилось и определилось, когда сказал я: «Ну, да, поклоняетесь ему, он идол, всё равно, что Молох, которому приносили дочерей своих в жертву, так и вы приносите ему людей в жертву». В 7 ч. ушёл,— конечно, стихов он не дал,— и ушёл серьёзно в возбуждённом состоянии духа, с желчью, т. е. не раздражённый, а так, что пробудились чувства.
Уже идя туда, думал о тайном печатном станке. Когда сел в карету[382], определились больше мысли и вздумал так, что если доживёт теперешнее положение общества до того времени, когда я буду жить в отдельной квартире и будет у меня несколько денег, то едва ли я не буду исполнять своих планов, которые, между прочим, были и такие: если напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян, освобождение от рекрутчины (сбавку в половину налогов, сейчас вздумал) и т. д., и разослать его по всем консисториям и т. д. в пакетах от святейшего синода и велеть тотчас исполнить, не объявляя никому до времени исполнения и не смущаясь противоречием, и объяснить, что в газетах появится, в тех, которые будут напечатаны в день по отправке почты, чтобы дворяне не подняли бунта здесь преждевременно, когда народ ещё не успел узнать, и не задавили государя. Потом придумал, что должно это послать и губернаторам; потом придумал, что должно не посылать его в самые ближайшие губернии к Петербургу, потому что если так, то могут, получивши оттуда донесения, послать курьеров, которые догонят почту в дальних губерниях до приезда их туда, в назначенное место. И когда думал, что тотчас это поведёт за собою ужаснейшее волнение, которое везде может быть подавлено и может быть сделает многих несчастными на время, но разовьет таки и так расколышет народ, что уже нельзя будет и на несколько лет удержать его, и даст широкую опору всем восстаниям,— когда подумал об этом, почувствовал какую-то силу в себе решиться на это и не [372] пожалеть об этом тогда, когда стану погибать за это дело. Когда слез с кареты и пошёл, пробудилась и та мысль, что ложь, во всяком случае, приносит всегда вред в окончательном результате, поэтому не лучше ли написать просто воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим языком описать положение и то, что только сила и только они сами через эту силу могут освободиться от этого. И когда подумал,— да как же ложь здесь принесёт вред, а не пользу,— тотчас подумал, что так, что убьёт доверие народа к воззваниям его приверженцев впоследствии времени.
Да и теперь чувствую себя не просто как за несколько часов перед тем, питающим различные нахватанные из газет мнения, которые делают его расположенным к социализму и врагом застоя и угнетения, а почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в измененном положении, так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренно теперь почувствовал, что я, может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные. Посмотрим, что из меня выйдет при моей трусости и таком характере. Этот ток мыслей и эта перемена вся произошли в 8-м часу вечера, 15 мая 1850 года.
Писано 27 мая, в 9 ч. 52 м. утра, тотчас после чаю.
15 [мая], понедельник. — Ходил к Ворониным; устал и зашёл к Ал. Фёд., с которым был у Орлонда, для того, чтоб поговорить о платье; тот сказал, чтоб пришёл через неделю.
16-го [мая], вторник. — Ходил подавать просьбу в Военно-учебный штаб. Писарь сказал, что должно в августе, а раньше не принимают летом. Хорошо, это всё равно.
17-го [мая], среда. — Ходил к Ир. Ив., главным образом, чтоб сообщить о результате. Ничего особенного не было, только Милюков довольно много говорил о Бурачке, как подлинном фанатике. Я тут несколько вмешивался — слабость характера высказывается тем, что в этом обществе говорят против религии, и меня это заставляет говорить против неё, поддакивая, между тем как я занят не этими вопросами, а политическо-социальными и, собственно, нисколько не враг настоящего порядка в религии, хотя, конечно, веры весьма мало.
18-го [мая], четверг. — Писал для Никитенки, как и в предыдущие дни; был у Ворониных,— это во второй раз на даче, на которую переехали они с 12-го, или это в первый раз, истратил 20 коп. сер., во второй 10.
19-го [мая]. — Кончил для Никитенки. К Устрялову ещё не начинал готовиться.
20-го [мая], суббота. — Ходил в университет; оттуда к Никитенке пошёл отнести «О Бригадире»[383]. На дороге встретил у Полицейского моста Срезневского и пошёл проводить его, разговари[373]вая с ним. Сказал ему, что не должно просить о поездке в Саратов. — «Что же, вы станете держать на магистра?» — «Конечно, но по чему — не знаю, должно быть, придётся по вашему предмету», и поговорил несколько об этом. Наконец, он сказал, чтоб я сделал замечания на его курс. Я сказал, что путного из этого ничего не выйдет, но сделаю. — Никитенки и прислуги его не застал, но это ничего, потому что узнал, что они живут здесь.
22-го [мая], понедельник. — Конечно, у Ворониных, как обыкновенно. С воскресенья начал решительно готовиться к Устрялову, несколько даже и в субботу, и всё читал. В воскресенье Вас. Петр. не был, чему я был несколько рад.
23-го [мая], вторник. — Тоже читал для Устрялова, но ходил отнести к Никитенке. Слуга сказал, что он заедет домой в час; я пошёл к Иванову, дожидался до почти часу, пришёл и сел его дожидаться, читая лекции Устрялова, которые со мной в кармане были. Пришёл Никитенко и взял тотчас.
24-го [мая]. — Снова читал Устрялова, и несколько, как обыкновенно, ругал себя, что так поздно принялся — не успею приготовиться, как должно, но ничего.
25-го [мая], четверг. — Снова был у Ворониных — это в четвёртый раз. В третий вышел поздно, поэтому нанял [извозчика] за 30 к. сер. туда, оттуда пришёл. Теперь туда в карете, оттуда до парка за 10 к., итак всего 80 к. сер. Меня просили быть у Билярского[384].
26-го [мая], пятница. — Не спал до часу по обыкновенной привычке. Велел разбудить в 5 [час] и дочитал, что должно было повторить, т. е. новую историю после Петра, хотя конец только дорогою. Пришёл в университет,— там сказали до часу должно погодить. Я, чтобы не тратить времени, сходил к Билярскому[385], не застал; пошёл заказывать платье. У меня было 33 руб. сер. (30 получил в последний раз у Ворониных, 3 тоже оттуда), зашёл к Орлонду — нет его самого; поэтому к другому, Duflos — там 20 руб. сер. за фрак, после к Moore, «Mop», который в доме Ольденбурга; его не было дома, вышла жена, которая весьма показалась мне хорошенькою, т. е. так в немецком роде это, как будто из сахарной муки, белая, нежная и розовенькая, и я посмотрел на неё с удовольствием и когда сходил, думал: как много порядочных собою женщин, которых можно любить. Оттуда к J. Schmidt в доме, где Buhre живёт, и там нашёл ужасного старика, вроде часовщика, которому не хотел заказывать, потому что уже слишком стар и плохо сделает, но он взял мерку, я не захотел противоречить, и он снял для фрака (8 р.), жилета и брюк (по 2 р.), итак, всего 12 руб., а между тем у Орлонда 16 было бы, так 4 руб. сер. разницы. И когда выходил, почувствовал как бы сознание, что это главным образом отдал ему по двум причинам: [1] что сошьет не [374] модно, а именно так, как мне нужно, т. е. довольно аляповато, и 2) что главное, это демократическое чувство: не хочу, чтобы эти свиньи, которые завалены работою, получили ещё от меня,— должно поддерживать тех, которые не имеют лишней. Ведь это смешно, а серьёзно это чувство было. Пошёл к Калугину, купил материи: сукна 2½ по 5; трико 7 р.; жилет, атлас 3 р. 50 к.; подкладка для фрака 1 р. 50 к.; для жилета 40 к.; итого заплатил 24 р. 90 к. Отдал J. Schmidt'у и дал 5 р. задатку; он не хотел взять, и это окончательно подружило нас, так что теперь мы самые короткие и сочувствующие друг другу люди, и я в жару чувства даже пожал ему руку. Сказал, что будет готово в среду.
У Устрялова снова дожидался и, наконец, вошёл в аудиторию. Там экзаменовался Корелкин, сидел на стуле Славинский, и мне стало досадно, что я не вошёл раньше — это следовало бы мне, может быть, потому что видно, что для министра, который тут был, вызывали лучших. После ориенталистов, наконец, после Залемана — меня. Мне достался 7-й билет — Екатерина I и Пётр и 13-й — междуцарствие. Междуцарствие я говорил довольно ничего, но распространялся невпопад, между тем как Устрялову всегда хотелось прямого и положительного краткого ответа, и говорил об условиях, Татищеве и т. д., чего, может быть, ему не совсем хотелось. Это была неловкость и рассеянность с моей стороны, а между тем, когда при выходе Козловский похвалил за это, как будто я сделал это с намерением, что говорил об избрании с условиями и т. д., то я почувствовал большую приятность. А когда говорил о Екатерине, то не так отвечал на вопрос Касторского, кто был наследником до [17]22 года: я сказал — Пётр II, а был Пётр Петрович, сын Петра I. Так что я был недоволен своим ответом. Когда выходил, попечитель мне в дверях сказал: «Очень хорошо». Поставил всем 5 — это весьма хорошо. А Славинский отвечал превосходно об Иоанне III и после развитие Петра, которое я читал ему, за чем он приходил ко мне в среду вечером; это весьма меня порадовало, что ему пригодилось к делу; отвечал превосходно он, лучше гораздо всех.
Из университета стал читать L. Blanc, 3-ю часть Истории de dix ans, которую читал урывками и перед экзаменом, что много мешало приготовлению, и теперь дочитал всё — здесь говорится о сен-симонистах и их процессе и, признаюсь, сделало на меня впечатление весьма большое и показалось, что чем же Enfantin отличается от Иисуса Христа? Может быть степенью, но не прочим, такой же глубокий и почтительный энтузиазм возбуждает к себе, и в этом спокойствии и хладнокровии, с которым отвечает на отречения от него — тоже много сходного, это смирение, проистекающее от сознания, что неизмеримо выше отрекающихся — тоже. И вообще это чрезвычайно трогательно. Вечером разбирал бумаги до часу.
27-го [мая]. — Встал в 9 час; после чаю стал писать это; те[375]перь иду к Вас. Петр., Славинского за книгою, Залеману за программою. Теперь 35 м. 11-го.
Снова пишу: сколько ещё нужно для платья? Теперь истрачено 34 р. 90 к.
| Пальто | 10–20 |
|---|---|
| Сюртук | 22–28 |
| Другой жилет | 7 |
| Другие брюки | 9–10 |
| Галстук | 5–5 |
| Другой | 5 |
| Манишки | 4–5 |
| Итого | 50–80 |
Из этого можно отложить сюртук, другой жилет и брюки; остаётся пальто, галстук, манишки — 19 р., да шляпа 5 р. сер. и перчатки 1 р., всего 25.
Это писано в четверг, 1-го числа, в половине второго дня. Весьма что-то тоскует сердце, главное — не знаю отчего. Я думаю — от неверности положения, которое предстоит, и оттого, что не знаю, ехать ли к своим, или переходить к Ворониным. А предлогом выбираешь экзамены, т. е. из новых языков, которые я не знаю, как держать, потому что не говорю по-немецки, и вчерашнюю отметку, и что не кончу первым и т. д.
27-го [мая]. — Пошёл к Вас. Петр.; там перестраивали комнаты. Просидел два часа и говорил о Наполеоне и т. д. Он вспомнил, что я сказал в предыдущий раз, что сделался его врагом, и стал говорить об этом, и я говорил с сердцем или, как это сказать, с тяжёлым расположением духа, так что вышел от него довольно расстроенным. Он, когда говорил, совершенно не понимал меня. Сказал, что видел Славинского, говорил с ним о том, кто кончит первым кандидатом, что это его весьма занимает, как видно. Я подумал, что если придётся мне, то шутя я уступлю ему. После к Славинскому, от него к Иванову.
28-го [мая], воскресенье. — Приходил Вас. Петр., я ему был весьма рад; и после весь почти вечер сидел со своими.
29-го [мая], понедельник. — Славинский прислал листки Неволина, но не те, которые мне нужны были, поэтому должен буду пойти к нему завтра. Готовился к Грефе и весьма казалось легко.
30-го [мая]. — Кончивши приготовляться к Грефе, разобравши всё весьма хорошо, отнёс Славинскому книгу, чтобы взять у него листки Неволина. Ему самому были нужны, поэтому решился после. Долго не мог уснуть, потому что слишком кусали клопы, рано лёг и всё пролежал часа два так.
31-го [мая], среда. — К Грефе. Вызвал меня, так что я отвечал первым. Мне достались 1–21-й стихи, у Штейнмана 13-й билет о философии и Демосфене. Я, как кончил, пошёл в библиотеку, там получил билет, отдавши книги, и к счастью нашёл там этого[376] несчастного Гундулича, с которым не знал, как разделаться; как он туда попал, не могу придумать. После всё в дежурной комнате говорили о различных предметах, главным образом о правительстве и т. д., и я говорил весьма охотно и с большим жаром. Также говорил и Дмитриев об их странах, это также любопытно. Вдруг говорят, что мне поставлено 4. Не знаю, как, это на меня как-то дурно весьма подействовало, так что, я думаю, я выказал несвязность или ошеломленность в своих словах, да и в самом деле этого нельзя было ожидать, потому что, конечно, я отвечал не хуже других. Конечно, это потому, что не ходил круглый год ни разу к Грефе, и не знаю — мне как-то отчасти и несколько приятно было, что не получу права первого и как-то более определяется положение: служить нельзя, поэтому, конечно, должен быть учителем и держать на магистра; а за Славинского я был серьёзно доволен, потому что понимаю, как много ему этого хотелось и какую радость, должно быть, это ему доставит, что теперь он кончает первым. Серьёзно, это было причиною некоторого довольства для меня, и теперь я чист как-то перед Грефе — уж и ценил же я его,— ведь говорил так, что если б он знал моё мнение о нём и о пользе греческого языка, то и не мог бы поставить более. Оттуда к Славинскому, где стал списывать листки Неволина; так прошло почти до 8 (это списано там, что карандашом). Когда [шел] оттуда, ужасный дождь промочил до самых костей и вымочил его книгу, которую взял я у него готовиться к немецкому экзамену; это нехорошо. Спал как нельзя лучше, но и теперь что-то голова тяжела.
[Июнь]
1 июня, четверг. — Как встал, после чаю стал читать историю немецкой литературы. Довольно плохо шло это дело, весьма глупо писана она, так что это много содействовало тоске. После обеда, т. е. почти теперь же, иду к Вас. Петр. и Иванову.
2 июня, пятница. — Был у Ворониных, там сказал, что если не оставят времени мне, то я теперь же скажу, что приму их предложение, а если можно, то пусть оставят до следующего раза, когда получу письмо[386]. Хорошо. — Я думал: смотря по деньгам — если будет довольно для одежи, поеду; нет — нет.
3 июня, суббота. — Получил 150 р. сер., себе 100, Любиньке 50. После этого, конечно, должен ехать. Зашёл сказать об этом Вас. Петр. С ним пошёл, посидел в Пассаже. Начал несколько читать Неволина.
4 июня. — Был Вас. Петр., особенного не говорил ничего. Вечером читал Неволина.
5 июня. — У Неволина вышел отвечать первым, и как в прежние разы, когда первым (у Никитенки, Грефе) вышел, отвечал весьма хорошо, но глупость делал, что всё останавливался, когда он писал в списках (достался 9-й билет о формах права [377] при татарах); думал, что 5,— поставил 3. Корелкин, который [экзаменовался] после меня, сказал это. Я подошёл к нему и сказал, он сказал: «Возьмите билет, вы более не стоили». Взял 15-й. Когда сидел, сжало грудь, как прошлого весною. Отвечал о Своде законов. Поставил 5, чего я не ожидал. Я тут собирался поблагодарить его дома и предложить свои услуги для поездки в Москву. Дома читал Историю немецкой литературы.
6 июня. — Утром пошёл к Эльснеру экзаменоваться. Стал писать сочинение, поправил Лерх, вышел к нему. «Не могу принять его». — «Почему?» — Сказал, чтоб я переводил и т. д.; ausübt, говорит, должно, не übt. Наконец, говорит: «Более 3 не поставлю». — «Более не хочу я». Так глуп ужасно. Теперь смешно — что за дурак я, и поблагодарил ещё его, а он глупый педант, хуже Фрейтага только. — «Не хочу мешать» — так глуп. Литературы не нужно было. После домой; был у Доминика. В газетах ничего нового. После взял платье, купил фуражку. Пришёл домой, посидел с Любинькою, после стал переписывать статью для Никитенки. Пришёл Ал. Фёд., ничего особенного. Теперь ложусь. Еду 12–13-го этого месяца.
Писано 15-го в 6 ч. утра. — 7 июня, среда. — Был у Ворониных в мундире. Идя оттуда, купил в доме Жукова:
| Пальто | 14 р. сер. |
| Галстук | 3 р. 75 к. |
| Манишку и перчатки | 2 р. сер. |
| Итого | 19 р. 75 к. |
| Раньше платье | 24 р. 90 к. |
| 12 р. | |
| Всего платье стоит | 56 р. 65 к. |
да фуражка 1 р. 50 к. Теперь нужно: сюртук 25, жилет 7, брюки 9 = 41 р. сер., шляпа около 5.
В этой одеже был я вечером у Ир. Ив., где снова говорил он мне о месте в Дворянском полку, поэтому, я должен приехать в первых числах августа, чтоб успеть захватить его. Не сказывал об этом из своекорыстия Вас. Петр. до вчерашнего дня (14 числа). Когда надел штатское платье, был весьма рад.
8 [июня], четверг. — Снова писал Никитенке.
9 [июня], пятница. — Снова писал Никитенке.
10 [июня], суббота. — Отнёс утром Никитенке. После, конечно, к Ворониным, где сказали, чтоб я привёл вместо себя учителя. Я не посмел предложить Вас. Петр. (о котором раньше намекал только), а предложил einen Studenten, Благосветлова, которого в этот день не мог найти адреса, 11-го поэтому был в университете, оттуда к нему, чтоб отыскать его. Вечером был Вас. Петр. В понедельник утром с ним на дачу. Заплатил туда и оттуда 60 к., да 15 к. должен был употребить на апельсины, чтобы разменять, а урока не было, как я надеялся, поэтому оттуда к Срезневскому с [378] машиною, которая в час отходит. Там обедал. Довольно нехорошо прошло это время у него,— ему, конечно, было скучно; сказал, что пришлет письмо к матери.
13 [июня], вторник. — Да, в воскресенье взял место на 15-е в первом заднее[387] за 21 р. сер., во вторник подал просьбу о билете и пошёл к попечителю просить о Сашеньке; велел подать записку. Вечерам читал L. Blanc, чтоб дочитать.
14 [июня], среда. — Отнёс книги к Славинскому и поцеловался с ним. Был у Ворониных, но поздно, поэтому не было урока, а дали за 14 уроков 20 р. сер. Перед этим был у попечителя, который сказал, что спросит о нём у Молоствова[388],— если хорошего поведения, то хорошо. Зашёл к Вас. Петр., которого просил к себе, сам пошёл к Иванову,— нового ничего.
Вечером пришёл Вас. Петр. и был до 9. Перед прощанием я говорил несколько от души и несколько растроганный, особенно оттого, что ведь бог знает, застану ли его здесь по приезде. Вечером уснул, сам не помня хорошо.
Так кончается моя университетская жизнь.
В Саратове буду делать словарь к Ипатьевской [летописи] — думаю сделать страниц на 60–70, может быть, 90 (едва ли); приехавши сюда в первых числах августа — хлопотать о месте в Дворянском полку и приготовиться на магистра.
Что-то будет впереди? До сих пор время шло довольно дурно от слабости характера — должно быть то же будет и впереди, но не хотелось бы кончить это худым предвещанием, лучше дай бог быть утешением для моих папеньки и маменьки.
13 минут 7-го часа 18 VI/15 50.
Запечатавши это и напившись чаю, иду к Ал. Фёд. отнести эти бумаги, которые должно будет прочитать, и к Ив. Вас. взять его письмо и свои перчатки.
(Писано в церкви 29 июня 1850 г. у ранней обедни[389].)
15-го утром отправился хлопотать по билету и т. д., купил с Ив. Гр. маменьке на платье персидской материи за 20 р. сер. Когда шёл туда, мне показалось нехорошо, что Любинька заставляет Ив. Гр. посылать только её сёстрам и ничего не оставляет для его сестры. Я сказал ему об этом и сказал, что скажу Любиньке, чтоб одну шляпку вместо её сестры Поленьки отдала сестре Ив. Гр. Воротился домой и сказал ей. Она так и уперлась. В два часа вышел, взял извозчика, поехал. ещё было время, поэтому сходил в Сенат, где не застал Ив. Гр., и в университет, где просил Савельича отправлять Терсинским письма. Когда был в конторе, служил переводчиком одному, который не говорил по-русски, а только по-немецки.
Сели, поехали. Со мною сидели трое: старик-немец из Либавы, должно быть, учитель, дочь купца, весьма нехорошая собою, и немка лет 28–30, которая сидела против меня. Собою была она [379] как-то завялая и с немецкою формою лица, но иногда казалась хороша, особенно когда засыпала,— тогда нижняя часть лица, которая обыкновенно казалась слишком длинною, принимала почти красивый округленный вид и тогда можно б списать с неё портрет. Сначала я сел с такими мыслями, что можно будет, когда она заснет, сделать, что бывало делаю я — пощупать. Так продолжалось до вечера. Но верстах в 120 от Петербурга я был вовлечен в разговор их с немцем (это было уже 16-го утром) и нашёл, что она весьма образованна и т. д. и бросил игривые мысли, но и почувствовал симпатию к ней. Наконец, вдруг подала она мне свой билет на проезд, в котором сказано, что девица Haman едет в Россию для вступления в брак с доктором богословия Carl Crüger; так все мысли о стремлениях несообразных уничтожила, и я стал её величайшим доброжелателем, и до Новгорода мы решительно подружились. В Новгороде вышла девица, чему я был рад, потому что весьма нехороша. К нам сел купец Доброхотов, который тотчас же с купеческою развязностью стал обращаться со всеми и разговаривать через меня с другими; наконец, под вечер, выпив 2–3 рюмки, стал петь песни. Я устроил для Гаман так, чтобы можно было ей спать как на постели, положил между её и своим местом подушки и её мешок внизу, так что выходило вровень с нашими местами, потом уговорил её положить ноги на моё место, а сам приютился на краю. Было довольно неловко, но я счёл своею обязанностью так сделать и был рад, что успокоил её несколько, она была весьма благодарна.
17-го [июня], субб. — Купец пересел от нас в другое место, которое опустело, к другому купцу; я пересел на его место и мне стало покойно, как раньше, а Гаман могла спать покойно, как предыдущую ночь.
18 [июня], воскр. — Приехали в 6 ч. её встретил у заставы жених. Когда прощались, она мне крепко пожала руку, так что в самом деле считала меня оказавшим ей услуги, просила быть у них, когда я стану ворочаться. Я переехал с Доброхотовым на Шуйское подворье по 40 к. сер. в день. Пошёл узнавать по подворьям о попутчиках и пошёл в гостиницу Шевалдышева — Срезневского мать там, но уехала к Троице, а попутчиков нет. Оттуда идя, зашёл в кондитерскую посмотреть, какие там есть газеты — столько же, сколько в Петербурге.
19, понед. Утром пошёл к Кириллу Михайловичу, обрившись на дороге в первый раз в жизни. Они приняли весьма ласково, требовали, чтобы я переехал к ним, я не согласился,— ну, по крайней мере, чтоб пришёл обедать — хорошо. Ушёл к Срезневской и вместе с тем отыскивать Григ. Степановича Клиентова, имя которого позабыл. Срезневской не было ещё. Пошёл искать Гр. Степ., но искал Воскресенья без присоединения «Словущего» и вместо него приходил два раза к «На Арбате», или «На овражках», так что хотел уже бросить, но к счастью не бросил, продолжал искать, наконец, нашёл. Подхожу, постучался — выходит [380] Александра Григорьевна. — «Ах, это вы, Николай Гаврилович». Я с чувством поцеловал её руку. Она была весьма рада, я также; сели. — «А у нас какое несчастье, Ник. Гавр.,— сказала она,— у нас теперь осталась только Настенька, все другие умерли — Антонина, Серафима, Марфа». — Признаюсь, на меня это подействовало как-то довольно даже хорошо: «Ну, теперь осталась ты почти одна и отец должен будет обращать на тебя больше внимания и любви»,— так велик эгоизм. Стала говорить о своих делах с полчаса. — «Вы нисколько не переменились»,— сказала она мне. Она похорошела, так что показалась мне красавицей, и пополнела, что меня весьма порадовало.
Продолжаю в то время, когда наши у ранней обедни, 8-го числа в 7¼ утра (должно переменить чернила).
Итак, я пришёл к Клиентову. Она стала расспрашивать меня о Петербурге, я отвечал весьма мало и нехорошо, потому что не знал хорошенько ничего из того, о чём она спрашивала, и так прошло с полчаса. Тогда пришёл Гр. Степ, и через несколько времени, видя, что я от нечего делать перебираю в руках «Кто виноват?», лежавшую на столе перед диваном, сказал: «Вот как Сашенька была рада, что нашла эту книгу, которая пропадала 2–3 года,— ей она была подарена её приятельницей, женой Искандера». — «Так вы её знали?» — спросил я её. — «Как же»,— и теперь она сказала, что воспитывалась вместе с нею, что он и она дети двух братьев, генералов Яковлевых; она была самым лучшим другом ей; он увез её и женился на ней. «Так вы его знаете»,— сказала она. — «Как же не знать,— сказал я с своим обычным энтузиазмом,— я его так уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него». — «Так расскажите что-нибудь о нем». — Я стал говорить о его сочинениях, что знал, и когда кончил, пошёл к Колумбовым обедать, обещавшись прийти к ним напиться чаю в 5 час.
У Колумбовых за обедом всё говорили, чтоб я перешёл к ним и, наконец, после обеда заставили меня перейти к ним. В перевозке прошло время до 6 час, а после этого я тотчас побежал к Ал. Григорьевне, которая восхитила и пленила меня.
Я просидел у них часа два. Она вынула для меня письма к ней от жены Искандера с его приписками. — «Я хотела показать вам, что она достойна его». — «Помилуйте, Алекс. Григорьевна, для того, чтобы быть в этом уверену, довольно было знать, что она ваш друг». Она не умела отразить это, как хотелось ей, и только сказала: «Ах, вот вы говорите комплименты». — «Нет, Ал. Гр., не комплименты». И я тогда говорил в самом деле от души и даже навертывались слёзы.
Он пришёл и повёл меня показывать мне свой дом,— это меня порадовало, что теперь у Ал. Гр. есть хотя до некоторой степени верный кусок — его дом приносит 650 р. ассигн. Я хотел списать план его дома, но он отнял. — Мы снова говорили с ней об Искан[381]дере, русской литературе, о том, что делается с её братом, который во Владимире учителем, и т. д. — Я говорил постоянно с энтузиазмом к ней. Что возбуждало этот энтузиазм? Конечно, главным образом, её несчастная участь, которую хочу теперь описать в повести. «Ты не должна любить другого, нет, не должна; ты мертвецу святыней слова обручена»,— вот что,— это доходило до того, что я, пожалуй, готов был жениться сам на ней, лишь бы избавить её от этого положения.
В 8 час. зашёл к Срезневского матери — застал её, наконец; с полчаса посидел у неё. Вечером ничего порядочного не было.
20-го утром завёл меня Кир. Мих. в канцелярию генерал-губернатора, где я взял подорожную до Пензы по совету Анны Дмитр., да и самому это приходило в голову, потому что когда рассчитал, денег было мало (недоставало до 5 р. сер. по моему тогдашнему мнению, после оказалось, что несколько больше, и без Шпанова я должен был бы истратить деньги Введенского и ещё взять у Ивана Фотича), что потом стало для меня источником беспокойства: что, как станут брать на тройку без подорожной? Так что когда увидел, что денег у меня несколько останется, ругал себя, что не взял до Саратова.
От генерал-губернатора зашёл к Александре Григ. и снова говорил с нею от души. Особенно о её брате говорила она. — «Но что ж, Ал. Гр., говорите вы только о других, а ничего не говорите о себе». — «Ах, Ник. Гавр., это слишком щекотливо». Я вышел от них в восторге, снова, как прежние разы, и перед прощанием сказал ей: «Конечно, я, может быть, никогда не буду иметь случая доказать на деле то, что я говорю вам, Ал. Гр., но вы всегда можете требовать от меня всего — я всё готов для вас сделать; я не знаю, почему это, но ни к кому никогда не чувствовал я такого сильного расположения, как к вам». Но должно сказать тут же, что когда я взглянул и увидел, что у неё зубы не белые и не хороши, это подействовало на меня неприятно; значит, основание всегда материальное, и не будь она хороша собою, несчастная участь её не подействовала бы на меня — я в самом деле чувствовал к ней тогда весьма сильную привязанность. Конечно, это было большею частью фальшиво развито силою воображения, для драпировки своей жизни сильными ощущениями, но основание было истинное, и это истинное было уже довольно сильно; довольно привести одно, что после, когда я ехал вторую или третью станцию (да, третью станцию, первую на следующее утро, в четверг) и думал особенно о ней и о повести, которую я напишу из её жизни и посвящу ей, и придумал, как начать — посвящением в котором скажу о том, как я её спрашивал, почему она ничего не говорит о себе и т. д. — так вот же вам доказательство, что главное известно мне, то мне так сильно хотелось бы видеться с нею чаще, что я жалел, зачем мне нельзя жить в Москве, а этого чувства никогда не рождалось во мне для Вас. Петр., когда я думал о том, что мне придётся переехать в Саратов: разлука с ним и не[382] входила в число мотивов, которые делали на меня прискорбное впечатление.
Итак, я вышел от них, занёс подорожную Кир. Михайловичу в Прокурорскую. Лошадей не было, поэтому после обеда я взял вольных за 1 руб. 50 к. сер., выехал в 6 час; на первой станции не было лошадей (приключение с собачкою), поэтому за 1 р. сер. ещё станцию, после всегда лошади были до самого Владимира.
21 [июня], среда. — Во Владимире сказали, что лошади будут только в 7 часов, а я приехал в 3, поэтому пошёл к Петру Гр., которому дали письмо и просфору, оставил их у него в квартире (которая довольно плоха), зашёл в семинарию сказать ему о себе и когда можно его видеть. Вышел он вялый, глаза оловянные, язык «гугнивый» — что это за брат Ал. Гр.! Нет, женщины несравненно выше мужчин. Тут нашёлся попутчик Шпанов. (NB: когда я увидел эту фамилию на подорожной, вспомнил о петербургском столкновении с ним через Михайлова.) Сначала счёл я его знатнее, чем он на самом деле.
Ехал с ним до субботы вечера до Саранска и переносил его наглость и надменность, хотя это возмущало меня, потому что необходимо было, для того, чтоб остались деньги, а то для меня было весьма неприятно: останавливался, не спрашивая меня, даже не сказавши мне предварительно, и, ехавши с ним, я потерял более суток, но предчувствовал, что возьмётся с него на одну лошадь, и необходимо было это, чтоб достало денег. Выгоды от этого были, такие: 415 верст и около 25 станций, таким образом —
| прогоны на лошадь | 6 р. 23 к. |
| за телегу около | 3 « |
| ямщикам около | 1 « |
Конечно, рубль я отдал его Ефиму, но 9 р. сер. остались в кармане. Когда расстался с ним, ехал без малейшей остановки, приплатив за телегу почти до Пензы; после должен был давать на чай смотрителям, но везли на паре, и привёз домой 5 р. 40 к. сер.
В Кондале был у Ив. Фотича более трёх часов; [он] напоил чаем и сказал, что папеньки нет дома, поэтому я не стал так торопиться, чтоб приехать домой в 7 час. утра, как хотел раньше, чтобы застать папеньку дома. В Кондале был от 12 до 4 в воскресенье, 25-го, и плакал вместе с Ив. Фот. о его участи[390]; впечатление, однако, не совсем — пахло, как мне показалось (пришли наши и только докончу несколько строк), вином (теперь только вздумалось, что это была брага). Но было приятно весьма то, что говорил он более о папеньке и неприятностях, которые через него получил он, чем о себе. Теперь кончаю. Да, почти во всю дорогу до Пензы думал об Алекс. Гр. с энтузиазмом, и раньше, чем встретился со Шпановым, о недостатке денег, после встречи вместо того и о том, что глупо не взял подорожной. При взгляде на Пензу перекрестился, потому что был в умилении, потому что это [383] родной папеньке город; после ничего и домой подъезжал без особого волнения.
(Писано 9-го, снова когда маменька была у обедни.) Итак, я подъехал к дому. Вхожу — меня встречает Варенька. Она весьма переменилась и не так хороша, как я думал.
(Писано 10-го, когда пьёт чай Варенька, а маменька как обыкновенно ходит всё и прибирает.)
26-го [июня], понед., в 8 час. въехал в дом… Варенька разбудила Сашеньку,— этот вырос так, как я никогда не мог ожидать, и голос его весьма погрубел, так что он говорит ужасным басом. Через несколько времени входит маменька, которая была на базаре. На меня произвели они весьма неблагоприятное впечатление, потолстели и взошли в комнату так, как ходит Райковский,— и тотчас же началось целование, но не так много, как я думал. Однако в первый день маменька были слишком рады, так что как будто были несколько в восторженном состоянии. Я смотрел на них по их полноте с неприятностью, которая теперь, однако, почти совершенно прошла и остаётся только тогда, когда они идут по улице.
Продолжаю 12-го, день своего рождения, в 12 часу.
Буду вообще описывать свою жизнь здесь не по дням, что перезабыл уже.
У Фёд. Степ, был два раза, он также у нас 3. Перемен нет, только Ал. Як., которую видел в другой только раз, когда был у них, хорошенько, весьма нехороша собою.
У Алексея Тимофеевича[391] был, и он у нас — странно узкий образ мыслей у него,— видно, один из последователей Бурачка.
После этого, около 1-го числа, приехал папенька. Как-то странно снова мне показалось, зачем так полнеет и т. д. (зубы, что должен повторять, что иногда не так говорит).
С Варенькою иногда говорил, рассказывал ей различные вещи, напр., и ныне о Славинском, Залемане, Полетике.
Фёд. Устиновича видел довольно часто и сначала по общему правилу с благоговением преклонялся перед его умом и познаниями, теперь менее и менее, особенно, когда вчера увидел Гусева, которого он весьма хвалил и который довольно пуст = ограниченный человек.
Раз был у меня племянник Иринарха Ивановича.
Распространяю здесь довольно много свои мысли.
Виделся несколько раз на этих днях с Мих. Вас. Альбокринским — это славный человек, совершенно не переменился, должен быть у него.
Раз купался, когда не застал Фёд. Устиновича, и потерял очки в воде; дома не сказал и купил тотчас [другие], однако, гораздо хуже тех. [384]
Время проходит довольно скучно, потому что нечего читать и нельзя почти писать — всё сидим вместе с маменькою.
Всё собираюсь писать повесть об Ал. Гр. и начну в самом деле.
Саша, должно быть, едет со мною.
Меня отпускают в самом деле в Петербург.
Папенька ни о чём не заговаривает, что мне весьма, весьма нравится, весьма, весьма.
Начинают накрывать на стол.
Нынче дочитал «de l'Esprit»[392],— весьма много мыслей, до которых я дошёл «своим умом». Человек весьма умный, но для нашего времени слишком много поверхностного и одностороннего, и многие из основных мыслей принадлежат к этому числу, т. е. особенно те, которые противоречат социалистическим идеям о естественной привязанности человека к человеку, т. е. одна сторона эгоизма только выставлена — своё счастье, а то, что для этого счастья необходимо обыкновенно человеку, чтоб и окружающие его не страдали, это выпущено из виду.
(Писано в Петербурге 12 августа 1850 г. в 9¾ ч. вечера.) (Первое, что я пишу в Петербург, если исключить адрес Ив. Гр., записанный в сенате.)
Итак, буду описывать своё житье в Саратове.
Происшествий замечательных было не так много, поэтому больше буду писать общих очерков.
Папенька сначала, когда приехали, сделали на меня некоторого рода неприятное впечатление тем, что мне показались пополневшими до неловкости, и тем, что говорят уже не чисто, потому что повыпадали зубы; после решительно ничего, так что стали смотреть лучше прежнего. Их иногда не совершенно приличные в данном положении (грубоватые-циничные) объяснения тоже почти ничего. Но как добры! до невозможности. Напр., сколько я противоречил, чтоб не делали мне в Саратове платья, наконец, согласились на это, но всё-таки накупили мне всего, чтобы я тут сшил, и даже хотели купить гораздо более, чем было нужно. Я, когда ехал, опасался за разговоры о деликатных предметах (религии, правительстве и т. д.), но, во-первых, они ничего не говорили первыми об этом, так что когда говорили, то начинал я, а расспросов не было, которых именно я и боялся; во-вторых, мог высказать довольно много, и по неопытности в этих мыслях не производили они на них такого впечатления, как бы можно было ждать.
О маменьке писал. Только когда стал прощаться, ещё больше прежнего понравились мне и сделали глубокое впечатление.
Около 20-го числа, когда я уже боялся, что не приедут, приехала тётенька с Сашею, Полинькою, Сережею, Петею.
Полинька выросла и походит на ту сестру Над. Ег., которая нравилась Вас. Петр. Я всё сажал её на колена, разговаривал и целовал в личико и несколько раз, когда заметил сладостность, большую сладостность этого, в плечо и шейку и при этом последнем [385] на губах чувствовал несколько чисто физического сопротивления. Часто целовал и ручки.
Сережа весьма боек, не так как мы с Сашею, и рассуждает с маменькою, тётенькою и сёстрами, не уступая ни слова, и подцепляет их, где промахнутся.
Мне было жаль, что маменька заставляют скучать Вареньку, не вывозя её никуда, и сами от этого предаются ещё более горести и тоске. И поэтому я всё уговаривал их выезжать и всё тоскливо говорил им о том, что не следует столько тосковать, что это нехорошо. После, когда я расстался с ними, я слишком жалел о том, что придал такой мрачно-тоскливый колорит своему пребыванию у них и вообще всё делал им выговоры, весьма жалел о том и теперь жалею.
В последние дни был у меня Промптов, которого уволили из Академии за болезнью,— такие мерзавцы, но мне вообще было скучновато его общество. Был за два дня до моего отъезда и Голубинский, который рассказывал о своей женитьбе и службе и тоже довольно наскучил, особенно потому, что хотелось посидеть это время со своими вместе.
На другой день были Палимпсестовы. — Тоже.
Теперь об отъезде. Мы[393] хотели ехать на пароходе и тогда бы, может быть, взяли одну из сестер.
(Продолжаю 13-го, в 7 ч. утра, дожидаясь чаю и воды для бритья.)
На одном пароходе не могли мы ехать, потому что он не останавливался почти в Саратове — пришёл поздно вечером и ушёл ночью, а на другом потому, что там свободных мест одна только каюта, которая стоит 50 руб. сер. Папенька сам туда ездил, чтобы узнать это. Наконец, положили выехать 25-го числа поутру (вторник).
25 июля встали рано, стали убираться. Мы с маменькою довольно плакали, т. е. они много, я более, чем думал, что буду.
(Писано 16 авг., в 11 ч. утра.)
Так мы сбирались и плакали, наконец, в 8 час. поехали. Нам надавали на дорогу съестных припасов (варенья, грецких орехов), которых я не хотел брать, а которые, между тем, доставили нам развлечение в дороге; однако в дороге я, чтобы поддержать свой характер, сначала не хотел есть их, после, конечно, ел и с большим удовольствием, однако, думаю о том, что всегда эти и другие (в более важных вещах) противоречия с моей стороны желанию моих родителей были неосновательны и только клонились к моей же невыгоде и огорчению их.
Наконец, поехали из дому в 8 час. Маменька сели с нами на телегу. — «Вот как прекрасно,— сказала она,— так бы и поехала с вами до Москвы, ничего, решительно ничего, прекрасно и спокойно» — и вообще в ней было так много грусти, сожаления, что [386] мне стало жалко, и я сам сидел в каком-то онемении, так что почти ничего и не чувствовал, и мало думал от избытка чувства,— и тут мне, дураку, не пришло в голову сказать решительно, что я остаюсь в Саратове!
Наконец, расстались со слезами на глазах. Едва отъехали мы от того места, где расстались, на две версты (это было за мужским монастырем), и мне стало более не видно наших, на которых я постоянно смотрел, пока было видно, как я понял свою подлость, бесчувственность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что как негодяй покидаю маменьку в жертву тоске,— и я раскаялся, и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад. Я думал, думал об этом две первые станции и в моей голове созрела мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в Саратовскую гимназию, как это я сделал раньше в Петербурге, и это меня успокоило, как будто я получил уже это место; но пока я дошёл, до этого решения, я был грустен, сердце моё сжималось, теперь я успокоился: «Что можно будет сделать,— сказал я,— я сделаю, и если не ворочусь в Саратов, это будет уж не моя вина, а вина невозможности». — И чтоб ещё более утвердиться в этой мысли, я на другой день рассказал её Сашеньке, который сказал, что это дурно, что этим я не успокою маменьки, которая беспокоится, главным образом, не обо мне, а о Любиньке, и которая станет мучиться тем, что отняла у меня карьеру (я это и сам так думал, и это меня утешило на тот случай, если я не ворочусь в Саратов, как я теперь думал). Всё-таки я для очищения своей совести решил хлопотать в Казани об этом,— между тем, из этого прекрасного решения ничего не вышло, как и из многого другого, что я хотел сделать хорошего — подлец я, подлец[394].
Так мы в этих мыслях доехали до самой Казани. Угрызения совести мучили меня, и я, чтобы развлечься, всё болтал с Сашенькою, читал ему различные стихи, так что перечитал все, какие знал наизусть, разговаривал в известном силлогистически-софистическом роде о различных предметах и т. д., всё только чтоб развлечь себя, однако сердце моё было тяжело.
Так приехали мы в Казань в пятницу рано (в 9 ч.) поутру, пробывши в дороге ровно 3 дня. Лошадей получали везде без всякой остановки; в Сызрани дали нам бешеных. — Теперь иду снова хлопотать по своим делам, раньше этого хочу завтракать.
(Писано 19-го числа, в 8¾ утра.)
Стали мы в гостинице Мельникова и тотчас отправились в университет — никого нет, ни Молоствова (это меня привело в большую печаль — следовательно, мои хлопоты о месте моём не имеют уже и места), ни Лобачевского, никого. Стали разузнавать, что, как. Нам велели отправиться к Цепелеву, управляющему канцеляриею, который был болен. Он сказал, что о Саше был запрос,— это меня весьма обрадовало, весьма, весьма, потому что, значит, дело уж решено, но занято ли место учителя русской сло[387]весности в Саратове — он не знал. Я решился узнать об этом у Сосфенова. Он приехал, но никто не знает ещё его адреса; стал искать, а между тем, стал искать место в конторе дилижансов; был у Полянского и когда шёл оттуда, подошёл к двум купцам в доме Жарова спросить из любопытства о пароходах. Мне попался на счастье Бороздин из конторы Коровина: к счастью, потому что Полянского не возят без денег по его несостоятельности; вечером хотел зайти ко мне и зашёл. Я был в мрачно-тоскливом расположении духа, оттого, что видел, что места мне, конечно, не получить, потому что попечителя нет, а дожидаться я не смел. На другой день Саша пошёл брать свои акты и пробыл там с 10 до 2½, так что под конец я начал беспокоиться. В это время всё у меня сидел Бороздин; наконец, Саша пришёл, я побежал к Сосфенову, у которого был уже (встретил студента, который живёт с ним и указал мне его квартиру) спрашивать о месте. — «Если угодно, проситесь — я не в претензии». — «Очень хорошо, подайте же за меня мою просьбу». — «Да этого нельзя, должно вам самому», и рассказал, что должно ждать 2–3 недели. Я не мог, ушёл и уехал из Казани. У меня в голове была сумятица, а в сердце печаль оттого, что не получил места и не буду жить со своими, и уже родились различные снова мысли: не удалось учителем, так буду хлопотать инспектором или своих переведу в Петербург, или, наконец, эта машина, которая даст мне возможность жить как и где угодно[395]
(С нами ехала Лизавета Ивановна Левенталь, глупая старуха; её рассказы о том, как муж её разрушил два закона и что кому же угождать она должна — унтер-офицерше!)
Так мы доехали до Нижнего, тотчас пустились отыскивать Михайлова. Как искали Максимова вместо Григорьева и проч. Наконец, нашли, остановивши служащего в Соляном отделении. Стали у него и прожили двое суток,— он в самом деле порядочный человек.
Оттуда в бричке. В Москве у Кирилла Михайловича. — Замечательно только мои отношения к Алекс. Гр. Лавровой. Повести я не успел написать; был у них несколько раз — раз в первый день вечером несколько времени. Не мог почти говорить свободно, потому что вместе с Сашею и сидели все вместе. На другой день, снова вечером, был один, и мы пошли на Тверскую гулять. Здесь я старался ходить подле неё, и часто мы оставались вдвоем, так что могли говорить, но я как-то не мог говорить о том, о чём хотелось, т. е. о ней, не мог завязать и разговора с её братом в том духе, чтоб обратить его в веру Жорж Занда и Гейне («мы дадим тебе рай на земле») и Фейербаха. Здесь гуляли довольно долго, и это время останется у меня в памяти. Наконец, в третий раз мы были вместе с Сашею, пошли гулять, т. е. они пошли проводить нас. Мы ходили довольно долго по Никитскому и Арбатскому бульвару (последний к Пречистенке, который имеет два небольших перелома), и мало-по-малу, со слов [388] Ал. Гр.: «Мне бы любопытно было, изменяются ли ваши взгляды на жизнь!» — я, как объяснение в глубокой симпатии к ней, пошёл толковать о том, что я чувствую себя непризнающим провидение, потому что так несчастны многие на земле, и говорил в общих выражениях, так что она могла понять, и поняла, что я говорю о ней,— кажется, что поняла, потому что ответы её были в таком духе, что видно, что она говорит тоже о себе. Брат несколько возражал мне, она тоже. Я говорил, что не хочу верить, чтоб был бог, когда мы видим, что так несчастны самые лучшие между нами. Я просил стихов её сестры — «увидит отец», и брат не согласился: я таки украл одно, списал и когда на другой день утром пришёл проститься, возвратил,— они этому подивились. Да, оба раза, когда в первый раз я один, в другой с Сашею сидел у них, они с сестрою пели («Чёрный цвет» и «Ты душа ль моя, красна девица»). Вообще должно сказать, что это пребывание в Москве было неудачно, потому что мне не удалось поговорить с Ал. Гр. так, как я говорил, когда ехал в Саратов, не удалось говорить и с её братом. Но общий результат тот, что он мне понравился вообще довольно, потому что славный малый, и она — как раньше, даже, может быть, несколько более; особенно произвели на меня впечатление её слова в последнюю прогулку, когда на мои отрицания провидения, потому что «если оно есть, зачем ниспосылает такие несчастья на лучших из нас»,— она сказала: «Затем, чтоб они, не имея собственных радостей, жили радостями других». — «Хорошо,— сказал я,— плохое дело быть сыту оттого, что видишь, как едят другие». — «И для того,— сказала она,— чтоб они в борьбе и страдании лучше узнавали цену себе, сознавали своё достоинство и наслаждались этим чувством». — «Хорошо, если так»,— сказал я, потому что не нашёлся что сказать против этого. Однако я успел сказать ей, что посвящу ей первое, что напечатаю.
Так мы выехали из Москвы в почтовой бричке. Как ехали, ничего особенного не было, не то, что бывает иногда и как, напр., было, когда я ехал до Москвы из Петербурга (у Crüger не был, потому что не хотелось мямлить по-немецки так скверно, как я мямлю).
Так доехали до Петербурга. Всю дорогу я читал и напевал стихи Ант. Григорьевны, лучшие,— «Там, где вишня моя» и т. д., которые, мне кажется, в самом деле замечательны, и я плакал почти каждый раз, как читал их. В самом деле, страшное дело для молодого существа, желающего жизни и любви, чувствовать, что умираешь, присужденная к смерти, не испытавши ни жизни, ни любви,— и эту песню всё напевал я про себя, когда мы подъезжали к Петербургу (наложил обещание с Ижор петь, пока увидим Петербург, и исполнил его, хотя приходило в голову: не пою ли я это погребальную песню себе?).
Так приехали в Петербург 11-го числа, в пятницу утром. Тотчас отыскали Ив. Гр.; квартира хороша; Любинька сделала страш[389]ное впечатление. Вечером пошёл к Ал. Фёд., Славинскому (чтоб узнать о своей диссертации — ничего не узнал), Василию Петровичу, которого (к удовольствию своему) не застал.
Утром (12-го, в субботу) зашёл к Благосветлову относительно Ворониных, как явился Введенский, отыскивая меня. Как меня это тронуло — всё хлопочет обо мне, чтобы я получил место; велел идти к Павловскому, инспектору Дворянского полка. Был,— сказал, что будет меня иметь в виду, когда я выдержу пробную лекцию, теперь не может оставить часов для меня. Зашёл оттуда к Ир. Ив., который велел поскорее держать, поэтому в понедельник подал просьбу, написанную у Корелкина в пустой квартире импровизированными чернилами. Кавелин обещался назначить около 25-го лекцию. На всякий случай накануне (воскресенье, 13-го) был я у Срезневского, чтобы попросил о том же (чтоб 25-го) Кавелина,— обещался в среду быть. Там видел Коссовича, с которым дожидался машины, и тут он мне рассказывал о Белинском, Бакунине, Станкевиче.
Продолжать буду, вероятно, уж в другой раз, а теперь, должно быть, пойду в университет готовиться к лекциям этим.
(Итак, я не писал около месяца; теперь пишу 15 сентября, в 9 почти часов утра.)
Ход дела такой был. Срезневский просил Кавелина, тот обещал, но когда после я справился, он сказал, что нельзя, как мне и говорил Павловский, когда я в первый раз был у него. Я всё ждал с недели на неделю и, наконец, назначено было 13 сентября. Мне повестку принесли в воскресенье, 10 ч., утром, когда Любинька и Ив. Гр. ходили гулять. Я всё большею частью читал книги, братые у Крашенинникова (Ж. Занд, журналы, Гофмана), и мало приготовлялся. Прежде всего я позаботился о языке Кави и взял под подпись Срезневского[396]; там нашёл мало собственно касающегося, потом читал Biese (что меня и выручило главным образом на лекции) и делал выписки из него в библиотеке. А о Biese узнал из «Журнала министерства внутр. дел»[397], который купил по совету Ив. Вас. и думал, что понапрасну истратил деньги. Наконец, когда я сидел и занимался выписками из Бернгарди синтаксиса греческого, где есть история синтаксиса, на которую ссылается Гумбольдт, Лерх сказал мне, что Беккер есть у них, и Саша взял его для меня. Так составились мои лекции из Бизе[398], Беккера и отчасти Буало + Гораций. Я, разумеется, как всегда, более делал то, чего не нужно, т. е. читал посторонние вещи и подвёл дело так, что не успел переписать черновых, из которых одна (о параллельном способе сочетания) была составлена без Беккера. Вот как шло это дело. Теперь отношу эти книги.
Что касается до моих личных отношений, [то] время большею частью проводил я, читая книги Крашенинниковы, довольно много времени тратил и на разговоры с Сашею. Около 27-го по[390]дал Никитенке вновь переписанную диссертацию на 4 листах[399] (прежний экземпляр у него затерян лакеем, которому я передал его, и поэтому мне диплома ещё нельзя было получить,— как это было для меня неприятно!). Однако, я утешался философски, что ведь ни одно дело не может кончиться без некоторых неприятных обстоятельств, и уж лучше это, чем чтобы заболеть во время экзамена, как Лыткин.
У Ворониных, кажется, я не буду более и не буду жалеть об этом, если получу другие уроки, потому что дети так мало успевают, что мне теперь, совестно,— может быть, я виноват в том и боюсь за последствия. Благосветлов написал мне записку, на которую отвечал ему, чтобы он, если ему не в тягость, оставил уроки за собою.
Отношения к Вас. Петр.: видимся весьма редко, он был всего два раза, потому что ходил к Залеманам на дачу, что, конечно, утомляет его до невозможности. Я у него был несколько раз на полчаса, час. Наконец, заходил и вчера (14 числа), чтобы сказать ему о том, что легко выдержать лекцию.
Отношения мои к Терсинским самые миролюбивые; Ив. Гр. перешёл служить в министерство государственных имуществ незадолго перед моим приездом.
Сашино дело не знаю, чем кончилось, до сих пор, несмотря на то, что по согласию Плетнёва просьба подана ещё около 20 августа — это мне неприятно. Конечно, на лекции ходит.
Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти совершенно от души предан учению Фейербаха, а всё-таки, напр., посовестился перед маменькою не зайти 13 числа в церковь, когда шёл на пробную лекцию, потому что было ещё рано (нужно в 7 ч.), а уже благовестили в той церкви (Конногвардейской), мимо которой я шёл.
По делу бывал несколько раз у Ир. Ив., который каждый раз принимал с большею заботливостью и толковал о том, что и как пишут. Он утвердил меня в мысли сделать ответ исторический, что и весьма удается. Он предложил мне и книги, какие мне будет нужно (риторику Ломоносова, Буало, Квинтилиана, даже свои выписки из Цицерона).
Итак, по приезде моём в Петербург я ото всех ничего не встретил, кроме расположения и желания быть полезными для меня, сколько можно.
Как мне расплатиться с Ир. Ив. за его хлопоты, потому что ему обязан я и тем, что держал, и тем, что выдержал хорошо? Он подал мне мысль и сказал, что найдется место, он и помог мне, сколько можно.
Я думаю так, что выучусь по-английски и вдруг принесу ему перевод для следующей книжки «Отеч. записок» — куплю, как получу деньги (завтра в воскресенье), Робертсона и какую-нибудь английскую книжку.
Да, мои хозяйственные распоряжения: [391]
Мы привезли сюда около 55 р. сер. Из этого прежде всего купил я:
| пару бритв | 2 р. сер. |
| зеркало для бритья | — „ 75 к. |
| ремень для бритвы | 1 „ — „ |
| Щетку для бритья | — „ 20 „ |
| —————– | |
| 3 р. 95 к. | |
| ---------------------------------------------------- | ---------: |
| для Сашеньки шляпу | 3 „ — к. |
| чашечку к шпаге, вместо прежней, которая не годилась | — „ 15 „. |
| Потом сапоги (головки к прежним голенищам) | 3 „ 50 „ |
| —————– | |
| 6 р. 65 к. |
В библиотеку для чтения на 3 месяца 4 р. заплатил, да 7 р. залогу.
| За грамматику Востокова | — р. 75 к. |
| ещё: себе за поправку сапог | 1 „ 80 „ |
| за шитьё платья своего 12 р. и Ив. Гр. 3 р. | 15 „ 00 „ |
| Наконец, накануне лекции купил шляпу у Циммермана | 6 „ 00 „ |
| Итого | 45 р. 15 к. |
Куда же ещё девались 10 р. сер.?
| Бумаги 3 д. (почтовой) по 40 к. | 1 р. 20 к. |
| перьев, конвертов | — „ 80 „ |
| —————– | |
| 2 р. — к. | |
| Ездил в Царское | 1 р. |
Более теперь не могу вспомнить, но неужели я целых 7 р. или 6 р. 50 коп. истратил на мелкие расходы?
Положим, что 75 к. пошли на письма и т. д.; положим, что 75 к. на табак,— всё-таки остаётся 5 р. 50 коп. Неужели столько вышло на езду в каретах и на кондитерские? Да ещё, положим, 50 к. на хлеб; итак, остаётся 5 р. сер. Действительно, я думаю, более 2 р. сер. я проел в кондитерских и не удивительно, что более 2 руб. и проездил. Да, 30 к. сер. в баню сходили с Сашею.
Итак, остаётся 4 р. 50 к. — Помада 15 к., поэтому 4 [р.] 35 [к.]. С нынешнего дня буду вести строгую запись своему доходу и расходу. Теперь у меня 30 к. сер. и ломбардская монета, которую должно разменять. На-днях пришлют мне деньги из дому.
Итак, описываю лекцию (все это пишу утром 15 числа).
Утро всё я писал лекции. Если б знал, что должно читать не по тетради, а изустно, конечно, не стал бы этого делать. Дописал, вставши в 6 час, лекцию из словесности и прочитал то, что не переписывал (о недостатках новой теории), и потом с некоторого рода судорожною нетерпеливостью дописал, обыкновенно выписывая из Перевлесского учение о сочетании подчинения. Это кончил в 3 часа. После сели обедать, и я читал «Лукрецию Флориани», [392] потом почитал несколько [вслух], чтоб не запинаться, когда буду читать наконец, в 5 ч. 50 м. пошёл. На дороге зашёл в Конногвардейскую [церковь], чтоб быть чисту по совести перед маменькою, давая там слово себе дождаться начала всенощной, и дождался; певчие понравились. Хорошо, пошёл, пришёл в 6 ч. 40 м. Там уже был Кулагин, который раскланялся со мною, считая меня, вероятно, экзаминатором; потом, конечно, я ему сказал; он показался мне весьма ограниченным человеком, вроде Залемана или хуже. Он учитель чистописания где-то подле Петербурга. В 7 ч. 5 м. пришёл Кавелин, и мы вышли из этой комнаты в предыдущую; потом начали сходиться другие экзаминаторы, и в 7 ч. 15 м. Кавелин пригласил (по старшинству времени, когда дана тема) Кулагина, сказавши, что читать должно наизусть. Там поднялся скоро сильный спор, и через 25 м. Кулагин вышел, и Кавелин пригласил Иванова, человечка весьма похожего на Алекс. Герас., который у Славинских. Этот читал ровно час до 8 ч. 40 м., и тут-то я узнал, что Кулагин отказался и поэтому так недолго было это.
Я сидел весьма покойно. Стали разносить чай, и когда подавали во второй раз чашки, подали и мне, что мне не то понравилось, не то, что нет. Я сидел всё и читал то дела о приеме кадет, лежащие на столе, то правила о приеме в корпуса, то так ничего не делал и не думал. Наконец, Иванов вышел и принялись составлять протокол, жарко споря, наконец, кончили в 8 ч. 55 м.
И я вошёл. Сначала я сделал несколько нерешительных движений, потому что не знал, так ли я сделаю, когда сяду за стол, но, конечно, сел и, смотря на военного в серебряных эполетах, который сидел главный, начал читать. Сказал, что грамматика не обработана и учение о сочетании предложений нигде не обработано как должно, и два, три раза повторил мысль, что поэтому ничего полного и я не могу сказать. Тут господин, который сидел подле Чистякова вторым в переднем углу слева от меня, сказал, что, напротив, например, у немцев учение о сочетании предложений разобрано. «А, вы говорите о Беккере», сказал я, и начал [развивать] своё мнение, что у него перенесена Гегелева система, и это делает его учение иногда неполным и натянутым. Потом продолжал о трёх периодах разговорного языка в отношении союзов. Чистяков заспорил о том, что народ не мыслит никогда бессвязно, о том, что нельзя заключать от китайского и потом еврейского, о том, что еврейский был раньше, как китайский, а потом, что греческий был раньше как еврейский. Я спорил против этого довольно нескладно и, когда меня попросили привести пример, как сочетание предложений выражается этимологическими формами в других языках и как у нас, я привёл в пример: напр. cum dicam, tu audis. Тот, который сидел подле Чистякова, сказал, что это не так; и действительно я вспомнил, что это не так, и сказал, что причастие. Потом он спорил о том, что в русском языке любовь к бессоюзию не проявлялась сильнее, чем в других европей[393]ских, что всегда, когда мы можем говорить без союзов, и они могут. Я спорил и тут, говорил несколько мыслей, которые сам не знал хорошенько, верны ли они были, напр., предлагал ему сосчитать союзы на русском и немецком страницы одного объёма, в переводе главы из евангелия.
Вообще тут я говорил не слишком связно, отчасти потому, что меня развлекали, отчасти оттого, что я ещё не вошёл в пафос. Мне сказал «довольно» человек, который сидел подле этого военного, седенький и довольно высокий, и сказал, чтобы я перешёл к следующей теме.
Только и успел поговорить об этих трёх периодах и периодической речи. Когда говорил о ней, как у меня написано, со мною уже никто не спорил.
Под конец со мною не стал так горячо спорить Чистяков и этот человек, и я начал о теории. Исторический взгляд нужно, сказал я, если хотите и об одном современном.
Этот старик сказал, что скорее о теории вообще, как я раньше сказал. «И я думаю,— сказал я,— и тем более необходим обзор», и начал говорить об Аристотеле, совершенно как у меня было [написано], живо и с жестами и не смешивался более того, чем обыкновенно смешиваюсь в разговоре. Не успел я кончить его реторики, как мне этот старичок сказал, чтоб я перешёл к теории XVIII века. Я сказал, как у меня там было, и, против моего ожидания, он поддакивал мне.
Вообще, когда я читал из словесности, мне не делали никаких замечаний, и тут я уже был уверен, что довольны, да и когда читал ту лекцию, то тут являлись на сцену и арабский, и китайский, и т. д. Одним словом, по совету Ир. Ив., я пускал пыль в глаза, что, однако, сделал бы, вероятно, и сам по себе, по своей склонности к историческим выводам о развитии. Наконец, когда я в главных очерках почти сказал своё мнение о теории XVIII века, мне сказали «довольно». Когда кончил, кто-то сказал: «прекрасно». Я раскланялся и вышел.
Когда выходил, Кавелин подошёл и сказал, чтоб я завтра был у него, потому что Ржевский из 2-го корпуса хочет, чтоб я был представлен ему. Итак, я был уверен, что принят, и поэтому шёл домой весело. Я кончил ровно в 10 час, читал ровно час.
Пришёл домой тоже довольно весело, только проклятое «cum dicam, audis» не выходило у меня из головы; я всё думал, что ошибся, теперь вздумал, что в самом деле не ошибся, да тогда не догадался сказать,— ведь это действительно так, потому что обыкновенно они мыслят это отношение как причинное. На другой день пошёл к Кавелину, но об этом напишу после, теперь иду к Крашенинникову и в университет, чтоб отнести книги и справиться о своём деле и о Саше. Теперь 10 ч.
(Писано 19-го числа, в 8 час. утра, перед тем как идти к попечителю.) [394]
С лекции я шёл и пел — чувствовал, что хорошо, и вечером был весел; только вертелось проклятое «cum dicam, audis». На другой день в весёлом расположении духа пошёл к Кавелину. Там сказали, что Ржевский жалеет, что теперь нет места учителя, а репетитора предлагает. Я сказал, что посоветуюсь, что это такое, с учителями и буду у него во вторник, т. е. ныне, в 6 час. Оттуда зашёл к Корелкину, тот едет в этот день (писал мне письмо об этом, только оно пришло без меня уже). Я его погнал к Срезневскому, сам хотел прийти к нему в 4½ ч. проводить его.
Из дому пошёл тотчас к Вас. Петр., чтобы сказать ему о своей лекции и о том, что мне предлагают место, чтобы поэтому и он держал. Оттуда к Иванову, чтоб дождаться времени к Корелкину. У него было довольно много людей, между прочим Родионов, который был навеселе. Ничего особенного, время шло довольно скучно. Корелкин расплакался, когда перед отъездом сел писать к матери, и это меня тронуло. Вечером читал что-то.
15 [сентября], пятница. — Пошёл в университет, там неприятно поразило Сашино дело — от попечителя сказали: «принять, если есть вакансия», а есть она или нет,— ещё не знают и говорят, что должно быть нет. Это говорил Ярославцев. Это меня поразило неприятно — ну что, как пройдёт так полгода — пошёл домой, ещё более, что свидетельство просрочено,— это, конечно, устроил без всяких хлопот пока, сказавши, что через неделю будет. Вечером пошёл к Ир. Ив., где был почти героем вечера; приняли меня радушно, говорили обо мне,— этого, конечно, я не люблю, но ничего. Место у Ржевского не велели принимать, а Ир. Ив. снова говорил Тихонову[400], и кроме того советовал сходить к Ортенбергу. Оттуда я воротился в весьма хорошем расположении духа; у Ир. Ив. было много народу, одних мужчин 13 или 14 чел. да 3–4 дамы, и время прошло довольно хорошо (с начала вечера Минаев рассказывал о жестокости и грубости царя и т. д. и говорил, как бы хорошо было бы, если бы выискался какой-нибудь смельчак, который решился бы пожертвовать своей жизнью, чтоб прекратить его). Под конец читали Искандера.
16 [сентября], суббота. — Утром в 10½ час. пошёл в Артиллерийское училище отыскивать Тихонова — уехал уже — и, взяв адрес, пошёл искать его домой; конечно, измучился довольно порядочно. Тихонов, весьма важничающий человек, довольно грубоватый, сказал, что пришлет мне, распорядившись часами, расписание, но у меня осталась не совершенно верная надежда получить это место, потому что он слишком как-то, кажется, почел меня молодым для этого. Однако, думаю, что не захочет неприятности с Ир. Ив., которого просил об учителе: как же не принять того, кого тот рекомендовал?
В 2½ часа пошёл с Сашею покупать Робертсона и вместо того, что я думал — 2 руб. 50 коп., он стоит 3 руб. 75 коп.,— это дурно. Оттуда на беду зашёл к Ал. Фёд., который спросил 4 руб. сер. денег, между тем как у меня самого только 10 руб. и нужно взять [395] диплом, потому что, нужно переменить вид. Нечего делать — обещался дать; взял «Emile» J. J. Rousseau на несколько времени (так до вторника), но не читал почти ничего, потому что читаю Робертсона, которого спешу для того, чтоб через месяц мог предложить свои услуги Ир. Ив.
17 [сентября], воскр. — Любинькины именины. Ал. Фёд. пришёл в 2, просидел до 7; после него я несколько времени читал, там вышел ужинать и просидел с Мих. Павл. до 11½, что было, конечно, очень скучно. Утром ходил к Ортенбергу, не застал его; сказали, чтобы в 6 час. вечера завтра или лучше в половине шестого, чтобы не пропустить. Любинькины именины хотели-таки торжествовать, но не приехали Горизонтов и Топильский, которых просил Ив. Гр.
18-го [сентября] — утром ходил в университет взять через Никитенку Biese, о котором просил Ир. Ив., там взял эти книги, но когда дожидался, инспектор сказал: «Где ваш адрес? Приходите в канцелярию попечителя завтра». Я думал, что о Саше, вместо того он сказал: «Вы просите себе места в Саратове, там пришла бумага, что есть там место». Я был ошеломлен этим, и до сих пор всё остальное поглощено этою мыслью — что там написано? Можно будет принять или нет? А приму, если a) старшего учителя, b) не должно будет рисковать ехать туда хлопотать, а нужно только отсюда послать просьбу и здесь ждать определения. Это меня заняло как нельзя более. Оттуда сходил справиться об адресе Ир. Ив., чтоб написать домой; после к Ортенбергу — должен был ждать до 6 час, пришедши в 5½. Просидел это время на лавке в Гостином дворе; в 6 час. в швейцарской его ждал, пропустил, догнал на дворе. Когда подходил к нему, он сказал: «Я вас узнаю, места нет, но буду весьма рад познакомиться, если вы зайдёте когда-нибудь в это же время, потому что теперь на пробную лекцию должен». Это мне даже понравилось, что места нет, потому что не стесняет в приеме в Саратове места, если можно будет принять. Теперь ¾ 9-го, иду к попечителю.
Теперь 7 декабря, — итак, не писал 2½ месяца. Что же было в эти 2½ месяца? А, дело о месте в Саратове.
Итак, пошёл к попечителю и сказал ему, что для этого мне должно подумать. На другой день отвечал ему, что принял бы место с большою радостью, но у меня нет денег ехать и потом не должен подвергаться экзамену. Как на это отвечал попечитель, смотри в переписке моей с нашими[401]. Я думал, что дело этим и покончится, потому что не думал, чтобы Молоствов согласился на эти условия, а между тем вышло наоборот. Во вторник, который был последний в ноябре (28-го, что ли), я, наконец, долго сбиравшись, пошёл в университет, чтобы узнать от инспектора, нет ли чего, не мог дождаться и ушёл, а вечером принесли в самом деле повестку. Как это странно, что, сбиравшись понапрасну два месяца, наконец, пошёл именно в тот день, когда пришёл ответ. [396]
Пошёл к попечителю с некоторым волнением, но не весьма большим. Чего мне собственно хотелось: того ли, чтобы отказал Молоствов, или чтобы согласился на мои условия — не знаю. Решительно не мог я решить, что для меня лучше. Главным образом содействовало тому, что я без особой неохоты готов был ехать в Саратов, то, что здесь решительно нет и не будет никогда свободного времени, потому что всё одно за другим наполняются чужие дела, от которых ввек не освободишься (сначала Срезневский, после этот Мерк, после вот Ир. Ив., после снова придётся у Срезневского[402], и т. д., и т. д. до бесконечности), так что, когда придешь домой, то чувствуешь себя усталым и большую часть того времени, как бываешь дома, только спишь. Это первое. А второе — это мерзкость того места, которое я получил во 2-м кадетском корпусе,— ужасно скверно, главным образом тем, что весьма дурно сидят мальчики. Третье — я приеду из Саратова через год, через два уже степенным человеком, между тем как теперь в глазах слишком многих имею ещё слишком многие следы слишком ранней молодости. В пример хоть Тихонов, который сказал Ир. Ивановичу: «Как же можно такого молодого человека, который сам не старше своих учеников», или Ортенберг, который отказал, конечно, тоже поэтому. Четвёртое — наконец, мне было совестно обманывать своих, которым я расписал, что приму с радостью, если будут приняты [мои] условия. Конечно, я писал это более потому, что думал, что условия будут не приняты, потому что странное имеет влияние петербургская жизнь и ужасную силу имеет правило: с глаз долой — и из памяти вон. Когда был в Саратове, жалко было расстаться со своими, а как приехал в Петербург да обжился в нём несколько, так жаль стало расстаться с ним, потому что, как бы то ни было, все надежды в нём, всякое исполнение желаний от него и в нём. — Да, страшное дело эта мерзкая централизация, которая делает, что Петербург решительно втягивает в себя, как водоворот, всю жизнь нашу! Вне его нет надежд, вне его нет движения ни в чинах, ни в местах, ни в умственном и политическом мире.
Итак, когда попечитель сказал, что Молоствов согласился, я сказал, что и я согласен и что завтра принесу бумаги.
(Писано декабря 9 в четверг.) Сказал об этом Ржевскому, который сказал, что не советует, а когда я сказал, что дело уже не зависит от меня, вдруг охладел и не захотел говорить со мною, как и раньше. Утром в пятницу отнёс это к попечителю, вечером сказал это у Иринарха Ивановича; он принял с изумлением, но теперь, когда свыкся с этою мыслью и понял настоящее значение и цель, привык. Итак, теперь жду.
Другое дело — определение во 2-й корпус. Другого места (в Пажеский корпус к Тихонову) не удалось получить, слишком молод. Итак, через месяц сидел я в почтамте на скамье, читал письмо из Саратова, в котором прислано 50 руб. сер.,— подходит [397] человек и говорит: «Здравствуйте, узнали вы меня?» — Это был Колеров. Он посоветовал принять, и я обрадовался случаю взять это место, потому что другого места не было, так чтобы угодить Ржевскому, который мог после пригодиться. Попросил его узнать у Ржевского, согласится ли тот. Когда узнал, что согласится (для этого приходил к нему вечером), пошёл к Ржевскому, подал просьбу и на другой день, когда пришёл, представился генералу, который мне сказал, что место есть, т. е. Геслерово. Хорошо, сказал об этом в пятницу и Иринарху Ивановичу, потому что это было в пятницу, и с субботы я явился в класс. Ржевский ввёл меня и только всего; кадеты весьма шумели и теперь довольно шумят; но свои учебные отношения опишу другой раз.
Третье, отношение к Изм. Ив. Срезневскому, для которого я постоянно ходил до половины ноября в Публичную библиотеку. Успел найти там один список толкования на Исайю о…[403] ещё не известный, нашёл несколько любопытное место о русалках в жизнеописании Нифонта, списал для Срезневского поучение Мономаха и т. д., так что до половины октября большую часть дней утро проводил в Публичной библиотеке, что, конечно, весьма меня расстраивало, потому что, пришедши оттуда, чувствовал себя утомлённым. Читал довольно много до самого поступления на должность.
Четвёртое, отношение к Мерку. Раз вечером, именно 12 или 13 октября входят два человека (в пятницу, перед началом моей повести[404]) — мы пили чай,— один старик, отец, другой — сын, и говорят, что их прислал ко мне Срезневский, чтобы я приготовил сына. Я сказал, что очень рад, но… Отец чрезвычайно просил. Условился два часа в день — по 2 часа урок. Я обыкновенно просиживал более, так что доходило до 3 часов; и это было каждый день. Мерк готовился к экзамену на домашнего учителя из русской словесности и поэтому мне достался. Для меня вообще эти уроки были не очень тягостны, потому что заставили меня самого готовиться, а для меня, конечно, этот предмет нужен. Я начал для этого Шевырева, потом стал проходить по Гречу и Аскоченскому. Только теперь, когда дело подошло к экзамену, вижу, что принёс мало пользы для экзамена, потому что ограничивался чтением лекций в роде университетских, а я должен бы был говорить гораздо менее, чем я говорил, и постоянно спрашивать у него отчета и заставлять его мало-по-малу приготовляться; а то и скопилось ему так, что должен он в последние полторы недели повторить всю историю литературы. Наконец, написал он о Несторе, его поправил, отнёс к Срезневскому, тот сказал — хорошо. В четверг начал он держать экзамен. Посмотрю, чем кончится. — Верно выдержит, потому что Срезневский уже говорил в этом духе — это род косвенной взятки, в мою выгоду, если [398] угодно. Я теперь дал у него 50 уроков и получил 100 руб. сер. Деньги эти пошли так.
| 20 р. | — Любиньке |
| 23 „ | — на покупку пальто |
| 8 „ | — 70 к. — сапожнику |
| 3 „ | — тоже |
| 10 „ | — на возобновление билета в библиотеке для чтения |
| 5 „ | — Любиньке |
6 руб. за серебряные очки, которые купил главным образом для того, чтобы в классе видеть хорошенько своих учеников, потому что те, которые купили в Саратове, слабы, итак — 75 р. 70 к.
| 2 р. сер. | на бумагу |
| 1 „ 50 к. | доплатил за шитьё шубы из своих |
| 10 р. сер. | Василию Петровичу |
| ————– | |
| 13 р. 50 к. |
остальное на извозчиков и в кондитерскую (Доминика, главным образом; а я думаю, целковых 3).
Итак, я к экзамену приготовил Мерка плохо, потому что мало и не так, как следовало, заботился об этом, а старался об его развитии, о внушении ему настоящих понятий о вещах, а к чему это послужит на экзамене?
Пятое,— отношения к Вас. Петр. Редко и ненадолго видимся, но в самом деле это единственный человек, на которого я смотрю как на равного себе по уму, только должен опять сказать, тягостное впечатление сделало на меня его письмо: «дайте 10 руб.»,— я рассчитывал на эти деньги купить себе пальто, которое в самом деле было нужно, потому что в шинели тяжело в оттепель и мараются брюки, а теперь должен буду отложить это до следующего получения денег от Мерка; это первое; а второе — что мне должно было спрашивать деньги у Любиньки, которой только что отдал я эти деньги, полученные из дому. Отнёс к Залеману и не знаю, дошло ли письмо мое, в которое я вложил эти деньги, до Вас. Петр.
Шестое — отношение к Иринарху Ивановичу. Хотел чем-нибудь отблагодарить его за хлопоты из-за меня, т. е. собственно за расположение ко мне, потому что хлопотать ему приходилось не много, и думал за это перевести ему несколько листов с английского. Но вышло, что пришлось ему обратиться ко мне за услугою важнее этой — экзамен на магистра для занятия кафедры в университете: прежде всего должен был я справиться у Срезневского о том, в каком положении это дело, и когда он решился держать, к чему я старался склонить его, мы с ним вместе готовились. И вот уже третий раз вчера я был у него. В первый раз об индо-германском племени, во второй раз из Остромирова [евангелия], вчера тоже и из Краледворской рукописи. Это меня тоже не очень много тяготило, потому что нужно и для меня самого. [399] Конечно, это услуга важная, так что я был с ним более чем квит и теперь я стал у них вообще значительным лицом; напр., Александра Ивановна меня потчует, и т. д.
Седьмое. — Отношения к Срезневскому: с ним я более сблизился, потому что выказал мою преданность, готовность делать для него всё, что ему нужно. Теперь когда буду у него, снова предложу свои услуги.
Восьмое. — Был у Милюкова, о котором, содействовал перемене моего мнения Городков; в самом деле порядочный человек; но главным образом я стал его уважать, прочитав его «Историю поэзии» — в самом деле дельная книжка. Был у него ещё и впоследствии времени несколько раз. Жена его, кажется, горбата, но славная женщина, мне весьма понравилась.
Девятое. — Был у Минаева, и вечер прошёл довольно занимательно, потому что он рассказывал различные вещи. Обещался достать ему «Кто виноват?» и теперь взял из библиотеки и отнесу ему.
Десятое. — Узнал Яковлева (который теперь в библиотеке), Классовского; молодого человека горбуна у Милюкова; собираюсь быть у Рюмина; жаль, что этот порядочный человек осужден на смерть.
Одиннадцатое. — Тем охотнее принимаю предложение Молоствова, что остаётся время для того, чтоб поместить статью или две в «Отечеств. записки», и теперь я пишу «Отрезанный ломоть»,— одна треть уже готова, и когда понесу, скажу Краевскому, что он хочет: Аристотеля, о новой теории словесности или о Geschichte der deutschen Sprache Grimm'a.
(Писано 11 декабря.)
Двенадцатое. — Нужно написать, какое впечатление произвела на меня шуба: чрезвычайно льстила моему самолюбию и моей гордости,— как же, теперь явлюсь я по одеже как равный этим господам всем. Одним словом, что-то вроде Акакия Акакиевича; и теперь я надеваю её при малейшей возможности.
Итак, теперь опишу своё времяпровождение в эти дни.
Среда, 6-го [декабря], был Вас. Петр., которого я не мог заставить досидеть до обеда. Пришёл Ал. Фёд., который ушёл в 4 часа, с ним вместе и я к Ир. Ив. Введенскому, у которого пробыл до 8½. Оттуда к Мерку, с которым повторил историю литературы: знал то, чего не знал раньше, весьма плохо; так что меня это раздосадовало отчасти — что же, глупец, не предвидел этого раньше? Совершенно не так должно было вести дело. Воротился домой в 11.
Четверг, 7 [декабря]. — Из корпуса пошёл узнать о Мерке и попросить записки. Мерк ничего себе, пишет о Карамзине, о котором знает. Записки хотели принести; но когда я шёл мимо Ир. Ив. Введенского, то поговорил с ним. Он, пришедши домой, вспомнил, что мне ныне снова нужно в корпус в 3 часа, и меня [400] догнал его мальчик. Я воротился; там была мать и старшая сестра его жены. Эта сестра мне довольно понравилась, правда, довольно понравилась, она имеет сходство с Залеман по устройству своих костей и своим манерам.
Пятница [8 декабря]. — Зашёл в университет, взял Biese у Сашеньки, взял записки у Голубева церковно-славянской грамматики — никуда не годится; взял карту Шафарика, отнёс всё к Ир. Ив., с которым и сели заниматься. Время тянулось весьма медленно, так что я пришёл в 3½ часа. Два раза принимались и бросали заниматься и, наконец, с час мы провели в разговорах, пока ещё никого не было. Наконец, явился Рюмин с братом, после Городков, Краузольд и только. Городков принёс письмо одного из декабристов к царю и отчасти прочитал его, но большую половину прочитал я, потому что он пил чай. Писано так, ни то ни се, воззрения у человека самые неопределённые; показывает, что само правительство довело дело до этого, возбудивши везде неудовольствие и т. д.
9 [декабря], суббота. — Из корпуса к Доминику подкрепиться. Просидел там до часу, после к Мерку, где более двух часов; писал для него сочинения, спрашивал также из истории литературы. Пришёл домой утомлённый, так что всё почти спал.
10 [декабря], воскресенье. — К И. И. Срезневскому с своею программою для Ир. Ив. Оттуда к Бахметеву в дом Турчанинова — его тут нет; пошёл зараз к Палимпсестову в надежде не застать дома,— так и есть. Оттуда к Мерку, зашедши в пассаж; оттуда домой и хотел приняться за «Отрезанный ломоть», как вдруг, когда я ещё обедал, шасть Благосветлов — как громом поразил — и просидел до 11 часов; сказал, что Пелопидов при смерти, так что едва ли выздоровеет; что первая причина его расстройства венерическая, которую схватил год назад и повторил в прошлую зиму. Жаль! Славный был человек! И со мною приехал! А без этого был бы жив! Я привёз на смерть! Вот необходимость радикального преобразования отношений полов между собою, т. е. и всего порядка общества. После ухода Благосветлова написал две страницы «Отрезанного ломтя» набело. Принялся этот раз переписывать в лист, чего ещё никогда не делал, это удобнее. В этот раз уже верно пойдёт.
(Это писано 12 февраля перед отправлением в оперу.)[405]
1, 31 дек. — Gabrielle, la Bossue.
2, 29 янв. — Guelfes et Gibellines.
1 февраля — Davis Deux ménages.
3 февраля — Douairière André, Pont cassé.
4 февраля — Наяда.
6, вторник. — Был ещё раз во французском театре без афиши, это должно быть было 6 февраля.
8 февраля — Quitte pour la peur, Héloise et Abelard, Supplice de Tantale.[401]
10 февр. — Les contes de la reine de Navarre, l'hôtel garni.
11 февр. Наяда.
13 февр. Карл Смелый.
14 февр. Акт из Лукреции Борджиа; акт из Пирата; 3-й акт из Гвельфы и Гибеллины.
[Дневник. Конец марта 1851 г.]
(Писано в Симбирске у Николая Ефимовича Андреева.)
Итак, мы выехали из Петербурга с Д. И. Минаевым и Николаем Александровичем Гончаровым в повозке Гончарова. Вышло у нас на дорогу до Симбирска по 41 или 42 р. с человека. Дорогою всё рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии (я в духе Штрауса и Фейербаха). Д. И. Минаев показался мне человеком ещё лучше того, чем раньше — человеком с светлым умом и благородною душою; я имел на него, как мне кажется, довольно большое влияние своими толками о Штраусе и коммунизме,— он теперь причисляет себя к коммунистам, хотя, может быть, и не понимает хорошо, куда они хотят идти и какими путями.
Расскажу теперь замечательные случаи нашего путешествия. В Москве я виделся с Александрой Григорьевной. Они отдали сестру свою замуж за одного господина, который раз думал уже свататься и, заставши меня у них в августе, счёл меня также кандидатом в женихи и усомнился в своём намерении. Ал. Григ. снова мне по прежнему понравилась. Я пришёл к ним перед часами и мог остаться у них только ¾ часа,— жаль, потому что пришёл домой слишком рано, мы уехали вместо часа или 12 в 4 часа. Скоро отец ушёл в церковь, и мы остались с Алекс. Гр. Разговор начался обо мне и о брате её, который огорчает их своими странностями и тем, что полгода не писал им ничего; она поручила мне видеться с ним в проезд через Владимир; потом стала жаловаться на скуку своей жизни после замужества сестры; я уговаривал её приехать в Саратов. От этого посещения осталось у меня чувство такое же, как оставалось раньше; я глубоко расположен к ней. Она стала полнеть в лице, что, конечно, производит на меня некоторого рода неприятное ощущение. Жаль, что я мог провести с нею только менее часу.
Зашёл во Владимире к брату — он показался мне удивительно странным и был в самом деле с похмелья; мало-по-малу стал несколько походить на человека, а то сидел решительно как сонный. Я посидел с ним полтора часа и осыпал хулами бога и провидение, отрицая будущую жизнь. Он защищался от меня обыкновенными богословскими местами. Под конец стал довольно походить на самого себя в обыкновенном положении. — Эти полгода, сказал он, провёл он в пьянстве. Две фразы от него остались у меня в сердце,— это то, что разговор мой (на Арбатском бульваре в августе [402] при прощании) произвёл на некоторое время влияние на Алекс. Гр. (я тут хулил бога из-за неё). — «Ведь вы возбудили было в сестре сомнения» и «Ну что, рада ли была вам сестра? ведь она вас весьма любит». — «И я её также весьма люблю, чрезвычайно люблю». Каким образом сделать бы, чтобы этот человек стал человеком как следует? Мне кажется, не иначе как разрушением его аскетических и ведущих к пьянству из отчаяния убеждений, т. е. академических лекций.
В Нижнем останавливались мы на полтора часа, и, к моему несчастью, Михайлова не было дома. Оттуда до Казани дорога была большею частью по Волге, на которой были уже провалы под конец, да и на первой станции от Нижнего, где дорога идёт через талы, затоплено водою. Здесь, однако, проехали мы, ничего не опасаясь, потому что не знали опасности, между тем как она, кажется, была в самом деле. Но на второй станции ямщик напугал нас чрезвычайно рассказами о том, как опасно ездить, особенно по «Кудыме — тёплой речке», которая проела лед, так что мы сами велели ему ехать шагом, а этого ему только и хотелось, кажется. Ник. Алекс. кричал, мы говорили между собою и кощунствовали над смертью, хотя в самом деле я сидел не без некоторых опасений, однако, весьма слабых, от моего постоянного неверия в действительность опасности.
В Казани я был у Гордея Семёновича [Саблукова], подал прошение Лобачевскому с удостоверением от 2-го кадетского корпуса о причинах моей просрочки. — Более ничего. Через Волгу в Казани едва могли проехать — вечером нас не пустили, а сначала вместо трёх принудили нас взять 4 лошади. Итак, мы были должны ночевать на почтовом дворе, куда приходил Гавриленко, студент с голосом, похожим на мой. До Казани ехали порядочно, после до Симбирска дурно. В Буинске сломалась в раскате оглобля, и Ник. Ал-ча едва не задушил Дмитрий Иванович, упавши ему задницею на лицо.
В Симбирске теперь что? Остановились у Николая Ефим. Андреева, человека маленького, худого, истощённого, с петербургским цветом лица, напоминающего всем в себе — и цветом лица, и профилью, и голосом, и манерами — весьма благочестивого, человека. Он говел, мы приехали в пятницу в 3 часа и расстроили его говение. Вечер провели в разговорах, большею частью в известном демократическо-социалистическом духе. На другой день обед у Ник. Ал. Гончарова. Его жена, Лизавета Карловна, славная женщина, хороша собою, только весьма худа и зелена, должно быть, от скуки, тоски, может быть, и от болезни, может быть, и оттого, что лишала себя общения с Ник. Ал. (над ним смеются, что она не пускает его спать с собою); женщина своею молодостью, по понятиям и поступкам напоминающая Алекс. Ив. Введенскую, только то, что там не грациозно, у неё грациозно, так что к ней довольно идут эпитеты, которые придаёт ей Дмитрий Иванович: «воздушная», «Ундина Карловна» и т. п. Она вый[403]дет, если соединить Анну Дмитриевну, которую напоминает она своим голосом, с Серафимою Григорьевною, которую напоминает типом своей натуры — своими чертами лица в их общем выражении и своими манерами в их духе, несмотря на то, что в частностях они походят на манеры Анны Дмитриевны. С первого раза меня поразило сходство её дикции, в некоторых местах чрезвычайное, с голосом и игрою Арну Плесси,— это особенно там, где Лизавета Карловна начинает говорить (Плесси вытягивает голос), эта форма,— она решительно Арну Плесси, так что могла бы быть чрезвычайно любимою у нас актрисою. А сложение? Чьё сложение — долго я не мог вспомнить, но я с первых слов её вспомнил, что сложение, её манеры говорить совершенно одинаковы с манерою говорить какой-то знакомой мне дамы. Наконец, вспомнил, что это — Анна Дмитриевна. Итак, Лизавета Карловна выйдет, если к чертам лица и доброте Серафимы Григ. присоединить манеру говорить Анны Дмитр. и Арну Плесси и наивность, младенчество в понятиях и поступках Александры Ивановны, с придачею грации и лёгкости движений и порывов, которые есть у многих хороших актрис, так что целое выходит в самом деле милое. Как тут у них после обеда забавничал Дмитр. Ив., как он вырезывал у них себе ордена из карт, покуда спал муж, и заставлял Лизавету Карловну хохотать так, как «я не хохотала пять лет», т. е. со дня отъезда Дм. Ив. Гостеприимство, радушие, напоминающее Лариссу Фёдоровну, также и своею резкою отрывчатостью (par sa brusquerie).
Дмитр. Ив. и Ник. Ал. Гончарова описывать я не буду, потому что типы их, я думаю, навсегда запечатлелись в моей памяти после десятидневного пути вместе с ними.
Вот уж сколько людей привлекали меня к себе грустностью, томительностью своего положения. Василий Петрович, Александра Григорьевна — два человека, к которым я чувствовал истинную привязанность,— конечно, эта привязанность много обусловливалась их положением, а не одними их личными достоинствами. Вот если бы дольше с Лизаветою Карловною — и к ней мог бы я привязаться до некоторой степени именно оттого же. Вечером долго сидели, слушая рассказы Николая Ефимовича о Симбирске.
Обедали на другой день у Николая Ивановича[406], этого бесстыдного пьяницы, которого часто выводят под руки с вечеров и из собрания (рассказ Ник. Ефим. о том, как Воейков сын уезжал из Симбирска в Варшаву и как при этом отец Воейкова и Ник. Ив. прощались друг с другом, обнимались и благословляли, потому что Воейков принял Николая Ив. за своего сына, а Ник. Ив. счёл себя Воейковым сыном); гадкое, грязное семейство. С виду добродушный пьяница, на самом деле и по душе низкий человек,— обделил сестёр и отжилил по суду полученные от татарина 3 000 рублей из 8 000 за просрочку двух дней.[404]
Ник. Мих. Овсянников — это старый Силён, лысый совершенно, с гадко пришлепывающим языком между редкими зубами, из которых один, самый передний, выпал.
Шишков (рассказ его самого об обеде в 25 коп., данном в Сибири Попову, не одному из саратовских, а совершенно другому); (рассказ о том, как он, начитавшись Чичикова, захотел, как он, объездить несколько губернских городов в надежде где-нибудь найти выгодное место и как тут пропил свой домик, свою корову и козу; как умилительно говорит о том, как в то время, когда они жили вместе с этим Поповым, всем слугам велено было слушаться его Александры, которая была высокого ума и души женщина, и как сам Попов глубоко уважал ее); человек, весьма много напоминающий собою (ein archifrommer Mann[407]) Матвея Ивановича, весьма много, весьма много, даже лицо обделалось на один лад, не говоря об одинаковости манер и обращения с людьми, так что это внушает мысль о том, как много сходства, доходящего почти до тождества и в физической внешности, развивает между двумя людьми внутреннее сходство направления.
Дневник в Саратове
25 ноября 1852 г., 8¼ час. после чаю, перед ужином. — Голова показалось мне, что тяжела, поэтому от нечего делать стал перебирать бумаги, нашёл дневник перед отъездом из Петербурга и вздумал продолжать.
И продолжать начинаю в обстоятельствах, совершенно подобных тем, при каких начал: тогда молоденькая дамочка и теперь Катерина Николаевна.
Итак, начинаю со вчерашнего дня, чтоб не дать изгладиться свежим впечатлениям, потом переберу и другие стороны своей саратовской жизни.
С августа или сентября прошлого года, давая уроки у Кобылина его сыну, я не бывал в его семействе и не поздравлял его на именины оттого, что не хотел ещё бывать в саратовском обществе. Наконец, вскоре после пасхи (нет, не оттого собственно я не бывал, а оттого, что не смел показаться, не зная, как меня примут; но вместе и нежелание являться в обществе было тут) было у них какое-то торжество,— должно быть день рождения Николая Михайловича, и меня пригласили. У меня не совсем прошёл флюс, всё-таки я собрался, с большими хлопотами. Когда взошёл в залу, там сидели…[408], и Млн[409] стоял у рояли, на которой играл Ми[405]хайловский. Я по обыкновению не знал, что делать, но подошла сама Анжелика Алексеевна и сказала, чтоб я шёл в залу, и там я сидел неподвижно; однако, Николай Михайлович удостоил меня чести, что сел вместе со мною и рассказывал свои анекдоты, обращаясь ко мне, что я, конечно, весьма ценил, но был по обыкновению скромен, как баран. Обедал — это всё ещё ничего; после обеда, благодаря Сер. Гаврил., которая была тут одна из молодых[410], я вступил в разговор: не знаю, про что-то спросили меня, и я должен был отвечать и удостоился таким образом чести в первый раз сказать несколько слов с Катериною Николаевною. Это было в зале у второго окна от рояли. Потом сели играть в вист — она, Сер. Гавр., я и Михайловский, и я помню, как дорого мне было это удовольствие, потому что она с первого раза мне понравилась, да и то, что они первые лица в Саратове по своему положению в обществе, имело тут своё действие. Так это продолжалось до 10 часов, и помню, что первый разговор был о Святогорце и Муравьеве, о котором я сказал, что он может в 3 минуты положить 97 земных поклонов и что на этот фокус собираются смотреть по билетам. Я помню, как я считал себя тогда обязанным Сер. Гавр. за то, что через неё получил я честь сидеть подле Катерины Николаевны и играть с нею в карты. Я помню, как мне хотелось, чтобы Катерина Николаевна всегда выигрывала, и как я старался выиграть, когда играл с нею, и проиграть, когда играл против неё. И я помню, что она всегда выигрывала и мне, может быть, сказала несколько слов, может быть как-нибудь иначе, но оказала (как и всем, конечно) внимание, и в какой я был радости от этого. И после этого я дня три только и видел её перед глазами.
Но это была пока глупость, более ничего, потому что тогда я ещё не знал её; это было просто действие того, что ещё в первый раз я был в обществе миленьких…[411] (потом что Серафима Гавриловна, конечно, не очень хороша собою). Когда собрались ехать, Михайловский попросил меня взять его и поехать по Соборной площади, чтоб искать извозчиков, потому что была страшная грязь в полном разгаре, и, не найдя, я отвёз его на Московскую улицу, где ему попался извозчик.
Итак, после этого я был под сильным (тогда, впрочем, ещё глупым) влиянием Катерины Николаевны.
И я несколько времени бредил ею (только не придавайте этому слову уж слишком важного значения). И я с нетерпением ждал 9 мая, думая, что снова будет то же.
И я надел мундир ехать поздравлять Николая Михайловича и взял долгушу. Но увы! Меня не пригласили к обеду, как я надеялся,— потому, должно быть, что никого не приглашали. Это ме[406]ня огорчило. Разрушило мои надежды на то, что увижу снова вблизи её.
И после этого месяца 2–3 я не видел её.
И помню, какую радость доставил мне следующий случай:
Я брал для Николая Ивановича «Revue des deux Mondes». Hans Jacob (это было, должно быть, скоро после пасхи, потому что была страшная грязь), встретясь со мною на улице, просил меня доставить ему ныне же одну из взятых мною книжек. И вот я сам явлюсь с ней, и вот я посижу у них вечер, и вот, может быть, я буду бывать у них! И я потащился за нею к Николаю Ивановичу и с биением сердца подъезжал к их дому. Но увы! Они мне встретились на крыльце — они выходили, чтобы ехать гулять, и вслед за ним шёл Александр. И я помню, она мне сказала: «Вы к Саше? Он идёт за нами». И потащился я с разрушенными мечтами снова домой.
Но когда же это было? Не знаю. Только после первого раза, как я у них был, и была ещё грязь.
Но вот начинается и моё знакомство с ними.
Да, помню ещё, как я был раз обрадован, когда, идя от них, встретился с Николаем Михайловичем между бульваром и их домом,— радовался случаю поклониться её отцу.
Но вот начинается и моё знакомство.
И помню, с каким нетерпением я ждал, чтоб они переехали на дачу, надеясь, что буду ездить туда давать уроки и что, следовательно, нельзя, чтобы меня не оставляли там.
Анжелика Алексеевна уже раньше раз говорила мне, что я у них никогда не обедаю; этот раз она вышла к нам вниз, чтобы взять Александра с собою, и попросила меня кончить урок.
Но увы! Александр приезжал брать уроки в город!
Снова разрушились надежды.
Но, наконец, когда раз они поехали в город, в то время, когда у нас был урок, Анжелика Алексеевна вошла в кабинет, где мы сидели, и сказала мне, чтобы я приехал к ним на дачу, сказала определённо. Что у них фейерверки и чтоб я приезжал в воскресенье.
И, наконец, я решился.
И вот — господи, сколько сборов! — И, наконец, я умыт, одет и т. д., и т. д. — В этих сборах прошёл час,— как часто после проходил,— и теперь проходит ½ часа.
Голова прошла совершенно, и я принимаюсь за свою работу. Теперь 9 часов.
1853 года, января 9, в 10 ½ час. утра. Продолжаю. Не пошёл в гимназию, чтобы обдумать и начертить устройство клапана, который заказывать должен я был ехать с Николаем Ивановичем в половине второго. Но, соображая, убедился окончательно, что машина не пойдёт при таком устройстве (колесо с чечевицеобразными массами), потому что давление воды на входящую массу будет больше, чем вся сила колеса. Это меня так озадачило, что я [407] решился бросить всё это (пока; может быть, после снова примусь, когда будут средства); если делать опыт, то в самом только простом виде — простое колесо, которому во всяком случае не будет мешать давление воды, и решился уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию Наук, ту рукопись, которую некогда представлял Ленцу и которая всё хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчёты, относящиеся к моим последним похождениям у Николая Ивановича, и теперь сажусь продолжать.
Прежде всего описываю два последних случая.
Первый. 6 генваря, что было на её день рождения. Я решился в этот день высказать ей свою любовь и какие тут мысли вертелись у меня в голове! Она весьма хороша, но не образована. Я предложу ей давать уроки; конечно, без платы. И я буду иметь потом удовольствие думать, что она обязана мне кое-чем всё-таки. Я скажу ей: «Вам приходит время любить; может быть, вы в опасности выбрать недостойного; выберите же меня, потому что я люблю вас искренно, и эта любовь во всяком случае не будет для вас опасна». Я долго обдумывал, как говорить. Всё было обдумано. Хорошо. Конечно, меня оставили обедать. Подали закуску. Она отошла и села у окна, которое у дверей из маленькой комнаты. Я подошёл с намерением просить её на кадриль, но не решился бы, может быть; она сама сказала: «Николай Гаврилович, скажите что-нибудь». — «Я собирался просить вас на кадриль». — «Так рано?» — «После не успеешь». — «Извольте, четвёртую, потому что три первые я обещала». — «Еще?» — «Может быть, и четвёртую не будут танцевать». — После обеда я оставался там, была и Сераф. Шапошникова, и было весьма скучно, потому что я ничего не мог придумать, чтобы сказать, и, наконец, она стала учить танцевать маленькую девочку, которая иногда бывает у них. Наконец, явились и гости; наконец, вот и гости (двое Юрасовых, Свечина, Стефани). Иван Иванович хотел ехать в театр, я главным образом его удерживал. Первую кадриль я танцевал с Олинькою, которая продолжала сердиться и не говорить ни слова, вторую я играл, третью танцевал с Шапошниковою и защищал Юрасову, которая поругалась с Иваном Ивановичем. Наконец, вот и четвёртая кадриль. Я подхожу, она говорит: «Я думала, что вы забудете» (кокетство это было или нет?). Я старался сесть вдоль, чтобы сидеть одним и чтобы некому было подслушивать. И вот во время первой фигуры я начал: «Катерина Николаевна, прежде всего, я должен сказать, что я говорю серьёзно и совершенно искренно. Для меня чрезвычайно трудно сказать то, что я решился, наконец, сказать. Но я всё-таки скажу… Никогда я не позабуду того расстояния, какое есть между вами и мною…» — «С кем вы танцуете следующую кадриль? Танцуйте с Софьею Юрасовой. Полюбезничайте с нею» (это было сказано таким голосом, каким обыкновенно отклоняется разговор, который не хотят продолжать). — «Я не люблю говорить того, что не думаю». — «Только [408] смотрите, не задевайте её, она вам наговорит дерзостей», и т. д. — откуда взялись слова, так что во всё время 2 и 3 фигур она мне не дала сказать ни слова, всё говорила сама. Во время 4 фигуры вошёл свинья Шомполов и подошёл к её стулу, у которого стоял и во время 5 фигуры, подошёл Алекс. Никол. к Шомполову, и у них продолжался разговор, во время которого я не мог поймать ни минуты, чтобы сказать ей, что я буду продолжать. По окончании 6 фигуры она сказала: «Благодарю; шена мы не будем танцевать», и отошла налево к каким-то дамам, которые тут сидели. Но шен был, и мы, конечно, сделали его с нею. После этого она в продолжение вечера нисколько не изменила своего обращения со мною,— так же сажала меня за кадриль, так же говорила, не сумею ли я сыграть польки.
Что это такое значит? Поняла она, что я хотел сказать, или нет? Конечно, поняла, иначе не прекратила бы разговора, не отошла бы после шестой фигуры в сторону, хотя всегда танцуют у них шен. Итак, поняла. Прекратила — значит, не хотела дослушать. Так же нецеремонна в своём обращении — значит, не конфузится. Что же, наконец, это такое?
Ныне или в воскресенье буду у них и буду искать случая переговорить с ней об этом.
Второй. Вчера, в четверг, в Собрании. Был назначен концерт любителей. Играли увертюру из «Фрейшица» и «Вильгельма Телля»[412]. Для последней решился я быть там. Отправился вместе с Николаем Ивановичем, которого я уговорил. Итак, мне нельзя было оставаться на бале, который был после концерта. И вот ждал их и дождался. Она и мать сидели на первой стороне в 1 ряду, и я взобрался на подмостки для оркестра, чтобы видеть их. Она несколько раз, кажется мне, взглядывала на меня. Я более всего смотрел на неё и любовался по обыкновению (хотелось прибавить для очищения себя от насмешек за неудачный выбор — и старался критически рассмотреть вопрос, хороша ли она или нет; вчера показалась хороша и в профиль). Когда она взглядывала, я переводил глаза, не торопясь, впрочем, на других. И у меня было чувство: останутся ли они на бале? И если останутся?? Со мною, верно, она не будет танцевать, да и я не посмею просить её на кадриль. И у меня было что-то вроде полузависти, полуревности, что я не буду с ней, а другой будет.
«Вильгельм Телль» приводит меня в восторженное состояние, и когда мы после поехали к Николаю Ивановичу и говорили за шахматами о нём, у меня выступали слёзы от волнения. И я чувствовал и во время музыки, и после, что в случае и я оставлю свою вялость, нерешительность.
Иду покурю и снова писать.
Итак, продолжаю прежнее.
Вот я, наконец, на даче (хлопоты с билетом и как мне не хотелось терять денег). Они сидели уже в 1 ряду на правой скамье. Я не посмел подойти к ним… [409]
Нет, приняться сочинить повесть, чтоб рассказать ей. Вероятно, вечером буду у них. Нет, ничего не могу делать, потому что расстроен разговором о том, что следует ещё дать денег А. И. М[алышеву] для Николая Дмитриевича, чтоб получил он место. Маменька не хочет[413].
Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье
«Марья Евдокимовна[414] будет именинница завтра, поезжай, поздравь её»,— сказали мне наши. Она именинница 26 января, понедельник.
И я поехал. Меня пригласили на вечер. Этого мне и хотелось, потому что я было начал любить волочиться после первого опыта, на вечере у Шапошниковых.
И вот там Палимпсестов (2)[415], и вот приехали Катерина Матвеевна Патрикеева и Ольга Сократовна Васильева. Невеста их встретила, и они стали среди залы. Я ангажировал их. Невеста танцевать со мною не хотела. Катерина Матвеевна сказала, что танцует со мною 4 кадриль, Ольга Сократовна — третью. Я слышал о ней от Пескова на вечере у Шапошниковых (где он был переодетый старым приказным), что она раз, поднимая бокал, сказала ему: «за демократию». Я был так простосердечен, что принял это не совсем на шутку. (Да и вижу, что, может быть, не совсем шутка, хотя, может быть, не в моём смысле,— 7 марта.) о чём было говорить? До третьей кадрили я увидел, что она девушка бойкая и что с ней можно любезничать. Две первые кадрили я не танцевал, сидел с Ростиславом.
«О чём нам говорить? Начну откровенно и прямо: я пылаю к вам страстною любовью, но только с условием, если то, что я предполагаю в вас, действительно есть в вас».
Мы сидели в это время на диване, который стоит налево от дверей из передней, она на стуле, я на красном диване (рояль была вынесена куда-то, играли музыканты) почти в углу, так что должно было проходить почти подле стульев. Тут сидела Катерина Матвеевна. Проходя во второй фигуре, Ольга Сократовна подошла к ней. — «Что вы сказали ей?» — «Вы хотите знать?» — «Непременно». — «Я сказала, что Чернышевский очень мил». — И разговор продолжался в этом роде. Пылкие объяснения и уверения в их искренности с моей стороны, шутливые ответы на это с её стороны — что и она влюблена в меня, если так (8). [410]
Через несколько времени Палимпсестов сказал мне: «Она демократка». — Они проходили по зале. Я подошёл к ней и сказал: «Мое предположение верно, и теперь я обожаю вас безусловно». — Виноват, в этой кадрили, именно в этой кадрили я несколько раз уж говорил ей: «Вы не верите искренности моих слов — дайте мне возможность доказать, что я говорю искренно. Требуйте от меня доказательств моей любви». (3) — «Да какого же?» — «Какого угодно». — «Так поставьте моему брату 5 в первый же (5) ваш класс». — «Это сделаю, это я делаю и без того. Требуйте чего-нибудь более важного». — Но она была так умна и осторожна при всей своей бойкости, что не сделала никаких других требований. Тут же (доказательство моей неловкости) я сказал, что она поверит моим словам, когда более узнает меня. — «Да где же я буду иметь случай?» (Приписано после: — «Где-нибудь, напр., у Акимовых, у Шапошниковых, где-нибудь»,— и я не сказал, что буду бывать у них, если она это позволит — так я робок и ненаходчив.)
Это писано 19 февраля, в 11½ ч. ночи, после ужина.
Половина седьмого, 20 февраля. — Прерываю на время рассказ, чтобы записать свои вчерашние ощущения после решения.
Сказавши такие страшные и странные вещи, давши обязательство такой важности, я чувствовал себя решительно спокойным. Мне даже не казалось это странным. Я ожидал несколько дней, что наши отношения или должны кончиться, или должны привести меня к подобному разговору, конец которого я предугадывал. Итак, я был спокоен, решительно спокоен по окончании разговора.
Так же спокойно посидел я у Чеснокова (4), так же спокойно посидел я вечер дома, спокойно играл в шашки с Николаем Димитриевичем, дурачился внизу и потом говорил наверху с маменькою о делах Николая Димитриевича и о том, что А. И. Мал[ышеву] должно отвезти ещё денег. Решительно спокойно заснул, с большим, чем раньше, спокойствием читал «Fall und Untergang». И теперь я решительно спокоен. Я доволен собою, я поступил так, как должен был поступить, хотя лежит у меня на совести одно сомнение — об аневризме: я знал, что должно будет вести подобный разговор, и раньше должно было дать послушать свою грудь Стефани. Однако аневризму я не верю, и это меня мало беспокоит.
Да, поступил почти как должно было поступить.
Теперь продолжаю свой рассказ.
Я просил О. С. танцевать со мною ещё. Она сказала, что может танцевать девятую кадриль.
В промежутке я любезничал в двух кадрилях с Катериною Матвеевною и делал довольно много дурачеств.
Между прочим Палимпсестов мне сказал, что и ему О. С. назвала себя демократкою. И я, проходя мимо неё, сказал, что моё [411] предположение оказывается верно, что условие осуществилось, и теперь моя любовь к ней безусловна.
Потом, когда она сидела в углу, где стоит образ, я сказал ей, что ей следовало бы жить не в Саратове, а в Париже. Она приняла это за дерзость (и ушла, не давши мне объясниться), потому что поняла [так], что я хотел этим сказать, что она слишком легкомысленна.
Несколько раз я говорил ей, что она кокетка.
Наконец закуска. (Сначала я сидел подле Катерины Матвеевны, потом сел подле неё) (6). Она кормила со своей руки Палимпсестова; я шалил, отнимал у него тарелку, которую держал он на её коленах и которую после отдала она ему, дурачился страшно, наконец, взял её салфетку и приложил к сердцу. Воронов хотел у меня её вырвать, я не давал; у нас началась настоящая борьба — я вырвал-таки эту салфетку. Она по прежнему продолжала шалить с Палимпсестовым, и наконец я сказал ей: «Бросаю вас, гордая красавица». Она обиделась этим и сказала, что не будет со мною танцевать. Я умаливал, упрашивал её — она ушла в задние комнаты и по возвращении оттуда всё не шла танцевать со мною. Я просил брата, который весь вечер был мой визави. Она не шла. Конечно, всё это было с моей стороны шутка. Она в самом деле хотела подразнить меня и в самом деле приняла (9) мои слова за оскорбление. — Наконец, я взял вилку и сказал, что проткну себе грудь, если она не простит меня. — «Пусть, пусть,— сказал Палимпсестов,— он этого не сделает». — «Конечно этого я не сделаю, но вот что сделаю,— и я приставил вилку к левой руке,— руку я проткну». — Она, кажется, поверила этому — да и в самом деле я сделал бы это из дурачества. — «Хорошо, хорошо, я танцую с вами», сказала она, закрывая лицо руками. И мы сели у окна на улицу, которое ближе к бабушкиной комнате и к часам. — Я начал говорить любезности несколько серьёзным тоном (10) и гораздо умереннее, так что эти фразы заключали уже в себе мало романического (11). — «Вы мне нравитесь, потому что я не говорю о том, хороши ли вы собою, об этом нечего говорить,— но я теперь могу видеть ваш ум. Я много о вас слышу такого, что заставляет меня смотреть на вас особыми глазами (12), и кроме того в вас есть то, чего нет почти ни у кого из наших девиц — такой образ мыслей, за который я не могу не любить». — «Неужели вы считаете меня настолько глупой, что я поверю вашим словам?» — «Почему же? Я не говорю вам ничего романического». — «А ваше выражение о том, что я парижанка?» — «Вот его смысл: в вас столько ума, что вы должны бы играть такую роль, какой ещё не играли женщины в нашем обществе, но какая отчасти уже принадлежит им в Европе, особенно в Париже, где женщина, правда, не равна ещё мужчине, но гораздо более, чем у нас, имеет прав, значения и влияния».
(За закускою, когда она протянула руку Палимпсестову, чтобы положить ему в рот какое-то пирожное или сухарь, я поцеловал эту руку — общий смех и крик.) [412]
Итак, мы расстались. Я провожал её до саней.
Продолжаю 20 февраля, в половине третьего, после обеда. Когда же мы увиделись в следующий раз? Должно быть не раньше катания в следующее за этим воскресенье. Итак:
В следующее воскресенье я был с визитом у Ростислава. Его не застал дома. Всё это было пока только обыкновенное желание полюбезничать с кем-нибудь, для того, чтобы иметь случай узнать общество и женщин.
Но буду продолжать после, теперь опишу прямо вчерашние события, пока не спутались они в памяти.
События 19-го февраля, четверг.
Я после обеда в 3¾ часа сидел в гостиной с Николаем Димитриевичем, играл в шашки. Через несколько времени я должен был отправиться к Николаю Ивановичу, но я колебался,— не побывать ли мне по дороге у Васильевых. Вероятно, я был бы, потому что после событий вчерашнего дня, когда она показала вид оскорбленной, и когда между тем в разговоре мне показалось, будто она сказала, что у них будет в четверг Палимпсестов, мне не хотелось, чтобы она увиделась с ним, сказала ему что-нибудь нехорошее про меня, потому что этот человек был так доверчив ко мне в отношениях с ней. Но я предполагал зайти только на минуту и попросить у неё прощения во всяком случае, будет ли мне время оправдаться или нет; если удастся, то объяснить ей те из своих поступков, которыми могла она оскорбиться. В пятницу она сказала мне, чтобы я был у них, когда я в среду сказал, что желал бы переговорить с нею серьёзно. Что я хотел говорить? Я хотел сказать почти то же, что сказал, и действительно, в четверг план у меня был такой:
«Ольга Сократовна! Вы, вероятно, шутите со мною, но, может быть, и не шутите. Во всяком случае я скажу вам, что вы почти решительно увлекли меня и что я был бы счастлив, если бы мог назвать вас своею супругою, но я не могу этого сделать; причин на это много, некоторые из них я не могу высказать теперь. Вот некоторые из тех, которые можно высказать:
Живучи здесь, я не буду никогда иметь средств к жизни, потому что теперь я получаю всего 2 000 [р.] ассигнациями в год и более получить не могу. Карьеры здесь передо мной нет никакой; уроков я здесь иметь не могу, потому что никто не захочет иметь такого учителя, у которого нельзя ничему выучиться.
Итак, я должен ехать в Петербург. Там жить дорого, и не знаю, скоро ли могу я иметь там средства для жизни. Кроме того, явиться туда женатым было бы для меня плохою рекомендацией в глазах моих петербургских доброжелателей, которые не позволяют молодым людям жениться раньше, чем они окончательно устроят свои дела. А я уеду непременно в Петербург; итак, я должен ехать туда один и связывать себя семейством не могу. [413]
Здесь мы не можем оставаться по моим семейным отношениям и по моим понятиям о том, как должен муж жить с женой,— понятиям, которые никак не могут быть осуществлены здесь.
Мой образ мыслей таков, что раньше или позже я непременно попадусь[416] — поэтому я не могу связывать ничьей судьбы со своей. Довольно и того уже, что с моей жизнью связана жизнь маменьки.
- Я не уверен, что у меня нет аневризма или чахотки (последней, однако, я боюсь менее)».
(А причины, которые не хотел высказать, были: мой характер угрюмый, почти неуживчивый в семейном кругу, наконец, такой, что я никак не могу быть главою семейства, а вечно остаюсь каким-то мальчиком.) (Об аневризме я хочу посоветоваться с Стефани в начале марта, после того, как получу жалованье и буду в состоянии сделать ему какой-нибудь подарок — так это и сделаю теперь.)
«Итак, вы видите, что я не могу быть вашим мужем: я не имею права связывать вас. Но если наше знакомство будет продолжаться, я увлекусь вами до того, что не буду в состоянии удержаться от глупости и подлости просить вас о том, чтоб быть моей женою. После того мне кажется, что наши отношения с вами должны быть прекращены, потому что для меня игра перестаёт быть игрою».
Вот что я хотел сказать ей в пятницу.
Мало этого однако. Я хотел идти дальше.
Я чувствовал, что если я пропущу этот случай жениться, то с моим характером может быть весьма не скоро представится другой случай, и пройдёт моя молодость в сухом одиночестве.
Я был убеждён, что с подобною женою я был бы счастлив, и что она именно так держала бы себя в отношении ко мне, как должна держать по моему характеру, и что её характер таков, какой нужен для того, чтобы мой характер не сделался окончательно серьёзно-угрюмым. Я чувствовал, что мне нужно жену с твёрдым характером, которая могла бы управлять мною. И у неё был именно такой характер. Поэтому я должен сказать, что я почел бы высоким счастьем жениться на ней. Поэтому, чтобы оставить себе возможность не отказаться от надежды на это счастье, я хотел прибавить:
«Как бы то ни было, но я люблю вас; поэтому я позволяю себе сказать вам вот что:
Вы держите себя довольно неосторожно. Если когда-нибудь молва запятнает ваше имя, так что вы не будете надеяться иметь другого мужа, и что вам всё-таки будет хотеться получить защиту мужа, то я в таком случае — когда я буду единственным мужем возможным для вас — всегда буду по одному вашему слову готов стать вашим мужем».
Чего я ожидал от этого? Разрыва наших отношений. Но было у меня какое-то предчувствие, что они не разорвутся. Этого я [не] желал. А желал, если выразиться определённее, я вот чего: [414]
«Вы мне нравитесь, я вам нравлюсь — почему же нам не полюбезничать?» — «Вы боитесь за моё имя?» — «Я за него боюсь. Когда будет нам время разойтись,— мы ещё увидим».
Итак, я главным образом хотел начать этот разговор для очищения своей совести от тех упрёков, которые она уже начинала делать мне и которые мне высказал, как неминуемое следствие продолжения наших отношений, Палимпсестов. Жалкое средство! Жалкое успокоение!
К счастью моему, вышло иначе. Кончилось тем, что я высказал то, о чём бродили у [меня] только тёмные мысли, однако, бродили.
Итак, мы сидели за шашками с Николаем Димитриевичем. Мы сидели в гостиной у дивана. Вдруг вошёл Василий Димитриевич. — «Я имею передать новость,— сказал он, взяв меня к окну (Николай Димитриевич остался у дивана). — Вот вам высочайший приказ отправляться со мною» — и он показал мне на ладони маленькую записочку (руку я узнал по тем вопросам и ответам, которые мы с нею писали друг другу у Шапошниковых):
«Василий Димитриевич! Приходите к нам в 3½ часа и приводите с собою Чернышевского. Мне весьма нужно его видеть». Кажется, почти так была написана записка. Постараюсь взять подлинник, если будет можно (если он ещё цел).
Я думал, что она хочет помириться со мною, думая, что я рассержен её вчерашним обращением со мною.
Я пошёл одеваться к себе наверх. Там спала маменька. Я боялся разбудить её, чтобы она не стала спрашивать — куда. Удалось. И мы вышли.
(Оставляю писать, чтобы сходить к Василию Димитриевичу, главным образом затем, чтобы взять записку, если она ещё цела у него.)
Итак, мы пошли. Входим по обыкновению с заднего крыльца. Дверь в комнату Ростислава заперта. Он болен. Мы стоим в недоумении в комнате, которая перед её комнатою. Из-за ширм тогда раздается голос О. С. — что сказала она, я не помню. Она выходит, здоровается, подает руку. Мы садимся у стола столовой. О. С. выносит билетики, которых два остались у меня. Из-за ширм раздается голос Катерины Матвеевны Патрикеевой: «Я больна». Наконец, выходит, я сажусь vis à vis. Катерина Матвеевна на высоком стуле подле О. С., которая у окна. Потом стул начинает шататься, мы меняемся стульями. Продолжаем сидеть. Василий Димитриевич говорит: «Садитесь подле них». — Я говорю: «Зачем?» — Мне велят они садиться. Наконец, я сажусь. А перед этим ещё, когда я сидел vis à vis, О. С. заворачивает рукав немного выше локтя: «Смотрите, какая прелестная рука!» — «Это обязывает меня поцеловать её»,— говорю я ей обыкновенным своим вялым тоном. А только что взошедши, я говорю О. С.: «Плохая вы кокетка. Я хотел быть у вас ныне и так, вот почему». — «Да с чего вы взяли, что Палимпсестов будет ныне? Он [415] всего только раз и был у нас, да и то с визитом». — «Всё равно, я ныне был бы у вас».
Разговор почти не идёт, оттого что я не хочу говорить не серьёзно, а серьёзно говорить нельзя, потому что подле Катерина Матвеевна. — Они беспрестанно встают и выходят то та, то другая; наконец, когда раз вышла О. С., Катерина Матвеевна села на её место. О. С., воротившись, села с другой стороны подле меня. Стул мой был оборочен спинкою к ней, и она положила на спинку свою руку, которую рукав закрывал только до локтя. «Это затем, чтобы я целовал ее?» — «Конечно». — И я начал целовать её руку у локтя. Не помню, о чём мы говорили. Но это были обыкновенные разговоры в том тоне, что говорил, что она кокетничает со мной и что вызывает меня на любезности и комплименты. Наконец она встала и, сходивши в комнаты матери, прибежала, говоря, что мать хочет меня видеть. И они повели меня за руки, говорили обе: «Только смотрите, не слишком долго сидите, потому что это скучно». — «Это зависеть будет не от меня». — И вот входим. Лицо матери весьма умное. Но видно, что не совсем добрая женщина. Сажусь, и Василий Димитриевич тоже. Разговор ведёт мать, так что видно её уменье. После, если будет нужно, опишу подробнее впечатление. (Описание их шалостей в это время.) Наконец я вижу, что пора уйти, и Василий Димитриевич встает и я вслед за ним. Входим в столовую. Несколько времени говорю не помню что, но в обыкновенном роде, среднее между любезничанием и серьёзным разговором. Наконец, я говорю, потому что я приготовлялся говорить ещё с воскресенья: «О. С., я имею сказать вам несколько слов серьёзно». — «Говорите». — «Здесь нельзя. Пойдёмте со мной»,— и я беру её под руку, и мы выходим в другую комнату, которая перед комнатою Ростислава. Не помню, как я начал разговор; кажется, я начал с того, что прошу её выслушать; так, так, с этого. Мы сели на кровать, которая от двери из столовой налево; она села налево, я направо. «Я буду говорить решительно серьёзно и прямо. Но только прошу вас выслушать меня и говорить со мною тоже искренно и прямо, как говорю я… Не знаю, как мне начать… Не умею приискать выражения». И я несколько времени придумывал фразы, потому что в самом деле не знал, как сказать те щекотливые вещи, которые решился сказать. Я не мог видеть, конечно, в каком она положении, потому что смотрел прямо вперёд, усиливаясь найти выражения как можно деликатнее. «Не знаю, как сказать, не умею выбрать выражения такие, чтобы они не оскорбили вас». — «Не ищите, говорите, что хотите сказать». — «Это будет не совсем то, чего должно ожидать в наших отношениях». — Я не чувствовал, чтобы моя кровь кипела, но я был в напряженном состоянии, хотя нисколько не терял головы.
«Вот что я скажу вам. Вы держите себя довольно неосторожно. Если когда-нибудь вам случится иметь надобность во мне, вы если когда-нибудь… (я снова не знал, как сказать) вы получите такое оскорбление, после которого вам понадобился бы я, вы можете [416] требовать от меня всего». — «Да этого никогда не случится». — «Я знаю, что этого почти не может быть, но если бы… вы можете требовать от меня всего». — «Так вы хотите быть моим другом? Благодарю вас». (Конечно, это сказала она тоном: «вы отказываетесь, как теперь быть?») — Прибежала Катерина Матвеевна, соскучившись, что мы долго сидим одни, пришёл Василий Димитриевич, подали чай. Катерина Матвеевна мешала продолжать разговор. «Вы всё любезничаете». — «Вовсе нет,— сказали мы (в первый раз я говорю о нас вместе),— вы мешаете» (об участи, детей и ее). — И выпивши чай (стакан шоколадный), мы сказали друг другу: «Пойдёмте в другую комнату, оставим их» — и вышли снова в столовую, сели,— она у окна, я по другую сторону стола с длинного бока, так что между нами был угол. Это было в 5½ часов. Я посмотрел 2–3 секунды на неё, она не сводила с меня глаз. — «Я не имею права сказать того, что скажу; вы можете посмеяться надо мною, но всё-таки я скажу:

«Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы».
«Да, это правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжела. И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая весёлость».
«Я не могу, не имею возможности отвечать вам на это тем, чем должен был бы отвечать».
(Продолжаю в 11 часов вечера. А завтра к Стефани, чтоб осмотрел грудь.)
«Скажите, у вас есть женихи?»
«Есть, два».
«Но они дурны? Линдгрен?» (Это имя я произнес так, что: конечно, уже в числе этих двух вы не считаете его.)
«Нет». (Таким тоном, что: как же это может быть?)
«Яковлев? Он не дурной человек?»
«Поэтому-то я не могу выйти за него. Другой мой жених старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков (к дяде или другому родственнику, как она сказала — не помню я). Там меня сватал один помещик, довольно богатый — 150 душ, но он старик, и я отвечала ему, что без папеньки я не могу согласиться, да не согласилась бы, если б и было согласие папеньки — как же решиться сгубить свою молодость?»
«Выслушайте искренние мои слова. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить, потому что никогда не буду получать столько денег, сколько нужно. Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это ещё ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить свою семейную жизнь так, как [417] бы мне хотелось. Правда, маменька чрезвычайно любит меня и ещё более полюбит мою жену».
(Продолжаю 21: февраля в 7 часов утра перед отправлением к Стефани.)
«Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым бы я мог ужиться; поэтому я теперь чужой дома — я не вхожу ни в какие семейные дела, всё моё житье дома ограничивается тем, что я дурачусь с маменькою, и только. Я даже решительно не знаю, что у нас делается дома. Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь ничего по приезде туда: как же я могу явиться туда женатым?»
«С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью ещё чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободою. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою — я такие вещи говорю в классе»[417].
«Да, я слышала это».
«И я не могу отказаться от этого образа мыслей — может быть с летами я несколько поохладею, но едва ли».
«Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?»
«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моём характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. И я не знаю, охладею ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне всё более и более только усиливается, делается резче, холоднее, всё более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый христианин каждую минуту ждёт трубы страшного суда. Кроме того у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».
Она почти засмеялась — ей показалось это странно и невероятно.
«Каким же это образом?»
«Вы об этом мало думали или вовсе не думали?»
«Вовсе не думала».
«Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков всё растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь всё это. Вместе с тем растёти число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, [418] я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие».
«Вместе с Костомаровым?»
«Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».
«Не испугает и меня». (О, боже мой! Если б эти слова были сказаны с сознанием их значения!)
«А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей».
(На её лице, были видны следы того, что ей скучно слушать эти рассказы.)
«Довольно и того уже, что с моей судьбой связана судьба маменьки, которая не переживёт подобных событий».
«Вот видите — вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чём, кроме этого, я не могу говорить. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?»
«Помню».
«Он был весьма богатый человек. Женился по любви на девушке, с которою вместе воспитывался. Через несколько времени являются жандармы, берут его, и он сидит год в крепости. Жена его (извините, что я говорю такие подробности) была беременна. От испуга у неё родится сын глухонемой. Здоровье её расстраивается на всю жизнь. Наконец, его выпускают. Наконец, ему позволяют уехать из России. Предлогом для него была болезнь жены (ей в самом деле были нужны воды) и лечение сына. Он там продолжает писать против больше[418] и о России. Живёт где-то в сардинских владениях. Вдруг Людовик Наполеон, теперь император Наполеон, думая оказать услугу Николаю Павловичу, схватывает его и отправляет в Россию. Жена, которая жила где-то в Остенде или в Диэппе, услышав об этом, падает мёртвая. Вот участь тех, которые связывают свою жизнь с жизнью подобных людей. Я не равняю себя, например, с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю им и что я должен ожидать подобной участи».
Теперь воротился из класса и принимаюсь писать о посещении Стефани.
Пошёл к нему в 8¼. Пошёл по Немецкой улице, гораздо дальше, чем дом Полякова, и искал его не на той стороне, наконец нашёл. Вхожу — никого, выходит сам Стефани. Идём в залу. Он слушает во всех местах грудь и говорит, что дыхание реши[419]тельно чистое, что биение сердца весьма правильное и что он ручается, что опасности нет никакой. Что до того, что колет грудь против соска, то это было у него самого и прошло вот только с полгода. Но что биение сердца в самом деле сильное,— конечно, от того, что я взволнован, как бы то ни было, весь: жизнь и смерть — не всё равно, и оттого, что я шёл пешком. (А я нарочно шёл пешком, чтобы биение сердца было самое сильное, какое только бывает у меня.) И что таким образом не должно опасаться ни чахотки, ни аневризма. Я ему сказал, зачем мне это нужно, что поэтому мне нужен ответ самый строго истинный, чтобы не погубить других. Он сказал, что уверяет меня честным словом. Я пожал ему руку и пошёл назад.
Это теперь сняло всякое сомнение с меня. Теперь я готов попросить её о том, чтобы она не выбирала себе другого жениха. Но нет, этого я не скажу ей, потому что это значило бы стеснять её. Однако я и ожидал, что мои опасения вздор, что они происходят единственно от моей мнительности.
(Садятся обедать, после обеда буду продолжать.)
Продолжаю после ужина, три четверти двенадцатого.
Итак, я дописал до того, что говорил об образе мыслей. Это всё говорилось, сидя в столовой у стола, стоящего у окон. Катерина Матвеевна снова начала приставать, скоро ли мы кончим, и мешать и звать в залу. — «Ну, пойдёмте», и пошли. Мы сели у окна на двор, которое ближе к улице. Она села к столу спиною вполоборота, облокотясь на окно, я обернул стул и сел боком к окну, переложивши руку локтем за спинку стула.
«Вот видите, наши отношения не должны кончиться тем, чем следовало бы им кончиться,— нам следовало бы их прекратить».
«Правда».
Мы посидели несколько секунд в молчании. Мне стало жаль её и себя.
«Вы недовольны окончанием моего разговора. Хорошо, если вам угодно, я скажу то, что не должен бы говорить, что не имею права говорить: вы всегда можете обратиться ко мне».
(Здесь вставка о том, что не она завлекает меня, а я сам хотел вести этот разговор и готовился к нему в пятницу.)
«Да вы уедете».
«Известите меня в Петербурге, всё равно, и я по первому вашему слову скажу всё, что вы от меня потребуете».
Она молчала.
«Вы недовольны этим? Хорошо, я скажу больше: я поеду весною в Петербург, к рождеству я устрою там свои дела и приеду в Саратов. Если у вас не будет другого жениха лучше, я буду просить вас быть моей женою. Но только с тем условием говорю я это, чтобы вы считали себя решительно не связанной никакими обязанностями в отношении ко мне, только с этим условием, не иначе. Хорошо? Так? Итак, я говорю вам: считайте меня своим [420] женихом, не давая мне права считать вас своею невестой. Довольны ли вы?»
«Довольна».
«Дайте же мне вашу руку в знак согласия».
И я взял её руку.
«Дайте же мне ещё что-нибудь на память этого вечера».
«Что же?»
«Какую-нибудь безделицу, вроде тех, которые вы давали».
И я вынул папиросницу, вынул папиросы, чтобы закурить,— она сказала:
«Дайте одну мне. Вы сами их делали? Она останется у меня на память».
«Нет, не берите — они гадкие, я лучше дам что-нибудь другое».
«Да с вами нет ничего, что бы вы могли дать».
Я ощупал карманы своего жилета.
«Возьмите этот ключ».
«Это, говорят, дурная примета».
«О, всё равно».
«Так вы не верите приметам? хорошо. Да чем же вы отопрете ящик?»
«У меня есть другой».
И она вынула связку ключей, чтобы тотчас ввязать его между них. Но встала и ушла ввязывать в другую комнату. Вышедши оттуда, она подала мне тоже очень маленький ключик.
«Я хотела б дать вам этот перстенек, но он нехорош, лучше что-нибудь другое. Я беру ключ от вашего сердца, вот вам ключ от моего».
«Я не требую непременно вполне один владеть им, я прошу только, чтобы в нём было место для памяти о том, что я искренно привязан и предан вам, что я люблю вас».
Когда она снова вошла в комнату с ключиком, я стоял; она села на то место, где раньше сидел я, а меня посадила на то, где сидела сама, так что теперь она сидела у окна, я у стола.
Но ныне же расскажу, как я был у них.
Нарочно дожидался по выходе из класса Венедикта (на дворе) и спросил о здоровьи Ростислава — тот засмеялся: «нездоров». Я вчера же, бывши у Николая Ивановича, раскаивался, что не был у них — почему? Это было в нашем разговоре с нею. Итак, отправляясь за покупкою перчаток для завтрашнего маскарада, я зашёл к ним. Ростислав лежал в столовой. Она сидела за своими ширмами. Я посидел у постели Ростислава и видя, что ему тяжело, пошёл. Но уже я слышал из другой комнаты её разговор с кузиною и хотел попросить её выйти ко мне. Но они сидели у окна. Она подрубала платок.
«Ольга Сократовна, мне нужно сказать вам два слова».
«Говорите». [421]
«Нет, одной».
«Ну, говорите» — и кузина встала со стула, но стала у шкапа, так что должна была слышать.
«Нет, Ольга Сократовна, выйдите сюда»,— и я взял её за руку. Мы вышли на середину комнаты.
«Мне должно, я думаю, быть завтра с визитом у Анны Кирилловны?»
«Зачем?»
«Я думаю, что визит должно сделать».
«Нет, не к чему — у нас знакомства ведутся не так».
«Вчера,— она всё держалась довольно далеко от меня, так что мне нельзя было говорить шопотом, и я положил ей руку на талию, чтобы стала ближе,— ещё я говорил с вами не таким языком, каким должен был бы говорить, каким должен говорить жених. Меня мучит это. Завтра я буду говорить другим языком. Тогда было препятствие, которое теперь уничтожилось».
«Хорошо, мы переговорим завтра,— сказала она. — Вы будете?»
«Буду непременно. Прощайте же, Ольга Сократовна».
Я пожал ей руку и пошёл. Вышел было уже в ту комнату, которая перед переднею, как встретилась мне [старуха] с чаем. Я не хотел брать, но служанка старуха сказала: «кушайте» — и я воротился и сел на другом конце стола.
Она сказала, что получила от Палимпсестова стихи, но уже у неё были присланы, что поручает кланяться Палимпсестову и сказать ему, чтобы он был в маскараде, что она танцует с ним четвёртую кадриль, что я буду его визави. «Когда был Линдгрен?» — спросил я. — «Вчера. Вы были вчера у Чесноковых в шоколадного цвета пальто и вчера говорили о вас весьма много». — «Как я счастлив, что есть такие добрые люди, которые говорят не о себе, а обо мне». Я, допивши чай, сказал: «Не думайте, чтобы я пил так долго потому, чтобы мне было приятно оставаться подольше в вашем обществе, а потому, что я не могу пить горячего чаю. Прощайте». — «Так вы будете непременно?» — «Буду».
Теперь ¾ первого, ложусь.
(Продолжаю. 10 часов утра 22 февраля, воскресенье. Вечером буду в маскараде.)
…«прошу только о том, чтобы вы помнили о том, что я искренно и глубоко привязан к вам».
И я замолчал на несколько секунд. А между тем маленькая сестрица её играла, и Катерина Матвеевна, не знаю с кем, должно быть с Василием Димитриевичем, танцевала, не знаю что.
«Теперь мы с вами почти жених и невеста. Теперь я прошу вас поцеловать меня — это будет залогом наших отношений».
«Нет, я поцелую вас только тогда, когда меня принудят. Нет, это будет меня мучить». [422]
«Я никогда не целовал ни одной женщины».
«И я никогда никого не целовала».
(Конечно, я должен бы сказать, что об этом-то нечего и спрашивать. Это целомудрие при видимом завлекании — например, обнажение руки — сильно подействовало на меня. И я не знаю, что меня более связывало бы: то, если бы она меня поцеловала, или то, что она не согласилась поцеловать меня,— это целомудрие и эти слова, искренние слова: «это будет меня мучить».)
Я говорю, повидимому, спокойно. Но я весь дрожу от волнения (NB. В продолжение всего разговора весьма часто повторял, что я уверен, что жить с нею было бы для меня счастьем).
«Конечно, всё это должно остаться тайною. Вы пока никому не будете этого говорить?»
«Конечно».
«И теперь мы должны видеться реже?»
«Конечно».
«Это я буду делать, как мне покажется нужным».
«Если хотите, я не буду выходить к вам, когда вы будете бывать».
Катерина Матвеевна, как уже было несколько раз, снова подошла и приставала, чтоб танцевали. Я встал и сказал, что если она не отойдет, то поцелую её, и поцеловал ей руку, что ей приятно, но что она боится.
«Как? При мне! Какой бессовестный!»
Катерина Матвеевна ушла, боясь, чтобы я в самом деле не поцеловал её. Но я едва ли бы это сделал, потому что это было [б] нарушение верности, хотя бы в шутку.
«Так вы в самом деле ревнивы, Ольга Сократовна?»
«В самом деле ревнива».
«Ревновать вам не будет повода»..
«Любили ли вы кого-нибудь уже?»
«Нет, никогда, никого. Только раз в жизни интересовался я одной девицею, чего теперь сам стыжусь. Правда, она хороша, добра, умна, но интересоваться ею было решительно глупо».
«Кто же это?»
«Нет, теперь не назову её имени, потому что мне стыдно будет перед вами за своё увлечение. Скажу только, что никогда не говорил я с нею ни одной любезности, кроме того, что когда раз одна дама при разговоре о том, кто здесь красавицы, назвала её, я через несколько дней сказал этой девице, что вот такая-то дама назвала вас красавицею. А потом, недели через две или три (когда, конечно, она уже и позабыла эти слова) я при случае сказал, что люблю всех, кто любит тех, кого я люблю, и поэтому люблю эту даму (NB: это была Прасковья Ивановна Залетаева). Кроме, никогда ни к кому я не чувствовал влечения. Это та девица, с которой, помните, я хотел объясниться предложением её учить мудрости человеческой. Да, я никого ещё не любил. Люблю ли я вас, этого я не знаю, потому что не испытывал никогда любви. [423] Я не знаю, то ли это чувство, которое я имею к вам. Но я могу сказать, и это будет правда, что с тех пор, как увидел я вас, единственною моею мыслью были вы. Составляет ли это любовь, или для того, чтобы была любовь, нужно ещё что-нибудь, не знаю; но что с тех пор, как увидел вас, я думаю только о вас, это правда».
Несколько секунд я промолчал.
Пришли Николай Димитриевич и Сережа. Мешают. Собираюсь с визитами к Бауэру, может быть Залетаевым. После буду продолжать. Жаль, что не знаю, будет ли она у Акимовых. Однако лучше не быть там. — 25 минут одиннадцатого.
(Продолжаю. 4 часа.)
Я промолчал несколько секунд. Дело решено. Кончилось моё любезничанье. Начинаются серьёзные обязанности. Не буду уже более сближаться я ни с одною девицею, я не молодой человек, я семьянин.
«Скоро же прошла моя молодость!» — сказал я, и слёзы навернулись у меня на глазах. «Она кончилась нынешний день, а началась с того дня, в который я увидел вас» (т. е., должен я добавить, у Акимовых) … (Что однако? Это решительно не в моём характере, это был опасный путь, и хорошо, что он скоро довёл меня до конца и конца прекрасного.)
«Да, я всегда позабываю во-время сказать то, что должно сказать: религиозны ли вы?»
«Нет».
«Я должен сказать вам, что я не верю всем этим вещам».
«Я и сама почти не верю».
«Я это сказал потому, что это могло бы в противном случае быть источником огорчений для вас… Но я должен сказать вам, что я делаю вам предложение только потому, что думаю, что этим оказываю вам… (я приискивал слова) оказываю вам услугу. Так ли?»
«Почти так».
«Я говорю вам такие вещи, что вы можете быть искренни. Зачем это почти? Говорите прямо».
«Если хотите, «почти» могу опустить».
«Я человек прямой и искренно привязан к вам. Не думаю, чтобы когда-нибудь я вздумал воспользоваться вашею откровенностью и сказать, что я делал вам одолжение, женясь на вас. Нет, вы доставляете мне, вероятно, счастье на всю жизнь. Этого ответа я выспрашивал у вас для того, чтобы мне самому быть спокойным, что я не лишил вас лучшей будущности. Я, повторяю вам, принимаю на себя обязанность быть вашим женихом, не возлагая на вас никаких обязанностей. Так ли? Вашу руку, что вы не будете стесняться в выборе, если бы представился кто-нибудь лучше меня». [424]
Она подала руку.
«Да, относительно приданого. Само собою, что чем менее, тем лучше; лишь бы можно было сделать свадьбу».
(Как просто и благородно сказала она!) «Я приношу вам саму себя. Вот настоящее приданое. Но что мне назначено, то будет мне дано. Не думайте, чтобы я любила наряды. Если теперь для меня папенька что-нибудь делает, то это потому, что он меня любит. И я постоянно отказываюсь от того, что он мне хочет сделать. Я не привыкла к роскоши».
«У нас будет в Петербурге может быть 2 000 р. серебром в год, но едва ли; тысячи полторы, конечно, будет. На эти деньги можно кое-как жить в Петербурге без больших лишений»[419].
«Конечно; разве мы будем давать балы, жить открыто? Я не привязана к удовольствиям».
(Продолжаю в 8 часов вечера перед отправлением в маскарад.)
И снова стали подходить к нам и снова стали мешать, главным образом Катерина Матвеевна.
«Итак, вы выходите за меня потому, что вам тяжело жить дома. Но не позабудете ли вы это, не будете ли раскаиваться?»
«Нет, я слишком много перенесла, чтобы забыть».
«Итак, я ваш жених, если у вас не будет жениха лучше меня. Я вас не стесняю. Но сам обязываюсь. Конечно, я понимаю, что наш разговор не в таком тоне, в каком он должен бы быть,— не так должен говорить жених, предлагающий свою руку. Но я должен был говорить так. Вы недовольны моим тоном?»
«Нет, вы говорили так, как должно».
«Итак, повторяю вам, что я думаю, что жить с вами будет для меня источником весьма, весьма большого счастья. Я буду привязан к вам, предан вам решительно. За это я прошу только, чтобы вы не забывали, что я люблю вас. Теперь вы может быть считаете меня простачком. Но вы увидите, что я не увлекался, не ослеплялся, не обманывался, что я понимаю, что делаю; что я увлёкся вами, потому что вы достойны того, чтобы увлечься вами».
К нам снова подошли.
«Наш разговор кажется кончен?» — сказал я.
«Кажется».
«Вы поменялись местами?» — сказал Василий Димитриевич.
«Да, в самом деле здесь роли были наоборот против обыкновенного»,— сказал я.
В самом деле — мне делали предложение, я принимал его.
И мы встали и начали прощаться.
«Вы будете в маскараде в воскресенье?»
«Теперь зачем же?» — сказал я.
«Будьте». [425]
«Непременно буду, если вам так угодно. Я танцую с вами первую и пятую кадриль (с Катериной Матвеевной вторую и четвёртую). Когда быть мне в маскараде?»
«В 9 часов, мы будем в десятом».
И мы простились.
Да, ещё вставка. — Скоро после того, как мы переменялись ключами, она встала и пошла вместе со мною в комнату Ростислава, и Катерина Матвеевна приставала ко мне, много ли я любезничал с О. С. и кого я более люблю. «Вы ребёнок»,— сказал я. — «А меня вы как можете назвать? — сказала О. С.: — тоже ребёнком?» — «Нет, вас я назову не ребёнком, а…» — я должен был докончить и мысленно докончил — «моею невестою, которая знает жизнь и испытала её».
Весь этот разговор был веден спокойным голосом. Но я дрожал от волнения.
После я зашёл к Чеснокову, и как тяжело было мне не высказаться и вести такой разговор, чтобы не высказаться!
Теперь, кажется, описан почти весь разговор. Начинаю сбираться.
На другой день я чувствовал себя решительно довольным и счастливым, что это произошло так, что я стал её женихом, во всяком случае в случае недостатка лучшего. Но теперь я готов просить её быть моею невестою непременно, хотя не должен говорить этого, чтобы не стеснять её выбора и не отнимать у неё возможности лучшей будущности, если ей покажется, что с другим её будущность будет счастливее, чем со мною.
Маскарад. (Писано 23 февраля в 7 часов утра.)
С каким нетерпением я ждал маскарада, чтоб говорить с О. С. так, как должно любящему человеку! Это не удалось, но всё-таки я доволен, что был, потому что этот маскарад был её торжество.
Днем я сделал много дел. Не делал только своего. Был у Корелина и у Николая Ивановича, т. е. для того, чтоб говорить с Прудентовым по его делу. Раньше был у Бауэра; был у Залетаевых. Воротившись, играл до обеда в шашки и писал дневник. После обеда снова в шашки, снова писал. Ходил к Чеснокову; после пришёл Василий Димитриевич и просидел до 8 ч.; как ушёл, я тотчас [стал] одеваться с неимоверным парадом; наконец, оделся, надел даже белый жилет — «теперь я одет почти как жених». Приехал ровно в 9 часов. Никого в зале ещё, решительно никого. Я вышел на улицу, простоял с ⅓ часа. Вошёл. Там уже Дружинин между прочим. Я прошёл по зале с ним. Гляжу вверх — О. С. на хорах. Я туда. Сел к ней, сказал несколько слов общего разговора. — «Вас зовет Катерина Матвеевна»,— сказала она. Я пересел к ней — раньше я не видел её. «Как вам не стыдно!» — «Я так близорук — сколько раз я раскланивался [426] с вами, когда это были не вы!» и т. д. — Подсела О. С. Когда Катерина Матвеевна встала, я начал было разговор с О. С.:
«Ольга Сократовна. Мы говорили в четверг серьёзно?»
«Конечно».
«Меня мучит, что я говорил не тем языком, которым должно было, которым хотел бы говорить. моё счастие так велико, что я не смею верить ему, пока оно [не] исполнится».
Но тут начала играть музыка и мы сошли вниз.
В первой кадрили рядом сидел Линдгрен, и она более говорила с ним, чем со мною.
Я было начал в первой фигуре что-то о своём счастье.
«Здесь могут подслушать,— и она начала другой разговор,— посмотрите, как танцует Неклюдов» — и ещё про кого-то.
«Так вы смотрите на него? Смотрите на кого угодно, делайте, что угодно, но только, прошу вас, помните, что вы не найдете человека, который бы любил вас больше, чем я. Помните, что вас я люблю так много, что ваше счастье предпочитаю даже своей любви».
Она отвечала снова чем-то другим — здесь могут подслушать.
«Верно мне придётся молчать всё время, потому что ни о чём другом я не могу говорить».
«Зачем же? Скажут, что этот кавалер и дама сердиты друг на друга, что не говорят».
Но более я ничего не говорил, кроме самых недлинных замечаний о чём-нибудь. После кадрили ушла она и я ушёл куда-то. С Катериною Матвеевной во второй кадрили не говорил почти ничего.
И так время прошло до промежутка 4 кадрили и 5. Я был в биллиардной с Шеве. Вдруг подходит Фёдор Устинович и говорит: «Твоя дама отказывается от тебя на эту кадриль, однако она хочет сама говорить с тобою». — На три первые кадрили был у меня визави Городецкий, четвёртую я не танцевал (третью с Афанасиею Яковлевною), на пятую и шестую едва нашёл визави с дамою без маски (Абутькова). Я сказал, что визави мой, для того, чтобы найти по моей просьбе даму без маски, весьма хлопотал, и неловко было бы теперь мне отказаться. — «Однако, знаете, с кем вы хотите танцевать? — с Веденяпиным». — «Если у него нет визави, я могу уступить ему эту кадриль». — «Ну, хорошо, спросите его». Долго отыскивал я его, наконец нашёл. Он не мог отказаться от своего визави. Я воротился — «нечего делать». — «Ну, хорошо, я танцую с вами». Эту кадриль я говорил довольно свободно, сказал и о том, что начал вести свой дневник снова. Она много говорила с Долинским, который сидел подле. Между 5 и 6 кадрилью она не танцевала, так же как и между 4 и 5; я более сидел подле неё; говорил о посторонних предметах. (Да, Куприянова она хотела звать на 6 кадриль, но когда я сказал: «Пожалуйста, нет, это низкий, гадкий [427] человек» — она тотчас сказала: «Хорошо, позовите Пригаровского».)
(Продолжаю 23-го, понедельник вечером, 11 часов.)
Но из этого я увидел, что можно было говорить с нею серьёзно, т. е. что кавалеры могут говорить с девицами и без масок. И я весьма досадовал на себя за свою неопытность. (Просьба Катерины Матвеевны, чтобы скорее 6 кадриль моя, походя с А. Ф. Пластуновым, который с лукавою улыбкою смотрел, как я танцевал,— я наконец в этой кадрили любезничал.) Наконец, после 6 кадрили они собрались уезжать. Мне показалось, что они в уборной, и я их дожидался, а между тем они уехали. Я хотел просить О. С. сказать, когда я могу быть у них, чтобы говорить с нею тем тоном, которым следует говорить жениху.
Итак, мне маскарад был неудачен. Но зато мне Максимов сказал (это перед началом первой кадрили), что Васильева лучше всех девиц. Потом Шапошников сказал то же. Наконец, в другие танцы она была приглашаема более всех, так что, наконец, устала решительно и дышала весьма тяжело и танцевала со мною только первые 4 танца, а потом уж отказывалась почти постоянно и танцевать могла весьма немного. Как она разгорячилась! Как шёл ей этот румянец! Да, она была истинно хороша! И я гордился тем, что она моя невеста! Да, гордился и радовался!
Так что вообще я доволен, что был в этом маскараде. Но чувство некоторой ревности было во мне, что она танцует и говорит с другими, а я этого всего не умею и не могу.
Ныне я решился быть у неё, чтоб говорить надлежащим тоном. Или лучше, чтоб спросить, когда могу говорить с нею. И вместо этого говорил. И вместо того, чтобы провести несколько минут у них, просидел более двух часов, в том числе с полчаса с Анною Кирилловною, остальное с нею, и никто нам не мешал.
Но ложусь; завтра опишу этот разговор и впечатление.
(Продолжаю 24 февраля в 7½ час. утра, вторник.)
Вследствие разговора вчера (в понедельник) мне кажется, что я не так влюблён, как раньше, но, как бы то ни было, я вчера весь вечер думал о ней, и эти мысли не давали мне уснуть весьма долго — я беспрестанно просыпался, и как проснусь — она в мыслях. Меня огорчают две вещи в её разговоре: 1) «получите ли вы место в университете?» 2) «разве все мужья любят своих жен, а жены мужей? довольно привязанности». — Это меня огорчает: теперь я вижу, что мне нужно любви. В следующий раз я должен говорить ей об этом. А вопрос о месте в университете как-то огорчил меня тем, что в нём виден какой-то расчёт. Но это последнее пустяки. Как бы то ни было, я всё люблю её, может быть более, чем вчера. Ну, описываю наш разговор.
Я должен был обедать у Кобылиных и потом играл в карты ради Катерины Николаевны, которая, бедная, весьма похудела [428] и которую мне было весьма жаль, так что я в самом деле с участием смотрел на неё. Наконец, около 6 часов пришёл Ал. Ник. и можно было обойтись без меня. Я тотчас отправился к О. С. — под тем предлогом, чтобы узнать о здоровьи Ростислава, но в самом деле, чтобы увидеть её и спросить, когда можно будет говорить с нею. Ростислав спал, я вышел в её комнату,— снова её голос послышался из-за ширмы.
«Можно взойти?»
«Нет нельзя»,— и она вышла.
«Ольга Сократовна, я пришёл попросить вас сказать мне, когда можно будет мне поговорить с вами».
«Если хотите, говорите и теперь. Сядемте».
И мы сели. Она к дверям их кухни с короткого бока стола, я с длинного.
«Я в четверг говорил весьма глупо, так что мне совестно; но что же делать? Я не мог говорить так, как бы мне хотелось тогда, потому что у меня было сомнение относительно моего здоровья».
«А теперь вы поздоровели?»
«Да, я был у одного доктора».
«Конечно, у Стефани, потому что он модный».
«Нет, потому что с ним я несколько знаком, видя его у Кобылина. Итак, я был у Стефани с просьбою посмотреть мою грудь — она весьма низкая и иногда болит; особенно я не могу писать — я думал, что это может быть начало болезни».
Она смеялась — и вообще наш разговор был очень испещрен моими просьбами не смеяться.
«Ну, что ж он вам сказал? Что у вас нет чахотки?»
«Не только сказал, а [и] сказал так, что я уверен в том, что он меня не обманывал».
(О, как сильно начинает мне хотеться снова видеться с ней, чтоб переговорить хорошенько! Я должен сказать ей между прочим, что мне нужна любовь, что без любви её я буду несчастен; я должен сказать ей, что я сам должно быть в самом деле люблю её, потому что, несмотря на то, что ревность решительно не в моём характере, я чувствую, что ревную её, хотя без всякой причины конечно, т. е. не то, что ревную, а мне завидно, мне жаль, если она хоть частичку своей мысли обратит с любовью на другого.)
(Продолжаю в 9½ часов.)
«… Так что я уверен в том, что он меня не обманывал, мало того: посмеялся над моею грустью [перед] Кобылиным, который сказал мне об этом за обедом».
«Ну, итак, теперь вы спокойны?»
«Не смейтесь, пожалуйста. Да, теперь я во всяком случае уверен, что во мне нет никакой болезни, которая вела бы к скорой смерти. Итак, я теперь спокоен за себя и теперь прошу вас быть моей невестой. Согласны ли вы?»
«Да это будет ещё на следующую зиму в генваре». [429]
«Я надеюсь воротиться раньше. Мне нужно только выдержать магистерский экзамен, это я кончу в 2 месяца. (Сейчас только я вспомнил, что тут рождественский пост, и что если это не будет в начале ноября, то должно быть отложено до генваря.) Итак: если не явится человек лучше меня, вы будете моею женою?»
«Папенька дал мне полную свободу выбирать, но всё-таки это зависит не от одного моего согласия. Вы должны переговорить с папенькою».
«И это зависит от вас. Я сделаю это, когда вам будет угодно. Но вы согласны? Даёте мне своё слово?»
«Даю».
«Когда я должен переговорить с Сократом Евгеньевичем, зависит от вас: перед отъездом моим или по возвращении. Если вам так кажется нужным,— даже теперь, хотя, по моему мнению, это не годится — это значило бы слишком рано связывать вас».
«Конечно, теперь рано ещё. Но пойдёмте к маменьке. Она хочет вас видеть».
Мы встали.
«Так я могу надеяться на вас?» — и я взял её руку и свою.
«Можете».
В коридоре попался Сократ Евгеньич в рваном халате и поступил почти как Венедикт — чуть не убежал и едва поклонился, когда она сказала: «Папенька, рекомендую вам М-r Чернышевского».
Мы взошли в зал.
«Долго мне сидеть? Недолго?»
«Конечно, недолго».
Анна Кирилловна сидела в зале. Она умная женщина. Я не знал, как кончить разговор, и просидел более получаса. Наконец (она через 10 минут ушла), она выручила меня, введя Тыщенку. Я раскланялся. Теперь мы вышли в зал и сели снова на прежнем месте, где сидели тогда, только с тою разницею, что я сел к столу, она налево от меня.
Да, при самом начале разговора я сказал:
«Вот вы видели вчера, как я неловок: я даже не сумел поговорить с вами. Не будете ли вы стыдиться такого мужа?»
«Да, что вы неловок, нельзя не сказать; но разве мне нужно франта? Я не буду ни выезжать, ни танцевать».
«Скажите же, будете вы завтра на бале? Если будете, буду и я, чтоб полюбоваться вами».
«В самом деле? Хороша я была на вчерашнем бале! В своих голубых шу (choux), которые, как сказали мне, вовсе не идут ко мне».
«Я не знаю, идут ли они к вам или нет, но вы вчера были царицею бала». [430]
«Ну, долго вы засиделись. Уж я привела Тыщенку, чтоб выручить вас. А уж маменька вас полюбила, и я думаю согласилась бы, если бы вы даже теперь сделали предложение».
«Это так, это я сам вижу. Да, я знал, что ей понравлюсь своею скромностью. Да, она очень любит скромных и поэтому-то так не любит вас. Ваша матушка женщина умная; говорят про неё, что она женщина тяжёлого характера; она не любит вас, думаете вы; но если она недовольна вами, это может быть потому, что она опасается за вас».
«Да, от слишком сильной любви».
«Позвольте же мне продолжать наш разговор. Я может быть, кажется вам, поступил безрассудно, неосмотрительно, прося вашей руки, между тем как так мало ещё времени знал вас. Но поверьте — и впоследствии для вас, когда вы меня более узнаете, это будет понятно, что я поступаю рассчитанно и совершенно благоразумно».
«Конечно, не могли же вы сделать это только потому, что 3–4 раза видели меня».
«Видите, я человек весьма мнительный, но вместе с тем и самонадеянный в некоторых случаях. Во всяком случае я уверен, что могу полагаться, [что] впечатление, которое производит на меня человек, бывает верно. Что вы добры, это я знаю — конечно из мелочей, из пустяков, но эти пустые случаи совершенно достаточны, чтобы быть уверену в том, что у вас доброе сердце. Что вы умны, и это уже я решительно знаю. Одним словом, я весьма хорошо знаю, почему я поступаю так».
«Да ведь вы женитесь на мне из сострадания».
«Боже мой, к чему говорить такие вещи?»
«Ведь вы сами же это сказали».
«Разве таков был смысл моих слов? Видите, я настолько умён, что не мог бы никогда полюбить такой девушки, которая на мою привязанность к ней могла бы смотреть с сожалением и насмешкою. А разве вы пошли бы за меня, если бы ваше положение не было тяжело?»
«Что же особенного в моём положении? Я уже так привыкла к нему, что для меня оно не тяжело (она сказала это тоном, в котором не было заметно насмешки, но который высказывал: «да, моё положение тяжело»). — Ведь говорили же, что хотели жениться на какой-то девушке из сожаления к её положению?»
«Вот видите, в самом деле, как скоро я узнавал, что положение человека, к которому я чувствовал расположение, тяжело, моя привязанность к нему тотчас усиливалась. Скажите ж, почему вы согласились выйти за меня? Что вы во мне думаете найти? Если вы ищете более всего привязанности, то в самом деле вы не раскаетесь в выборе, потому что я чрезвычайно буду, любить вас. Я и теперь чрезвычайно предан вам — не знаю, любовь ли это (теперь я знаю, кажется, что любовь в самом деле) — потому что я никогда ещё не испытывал любви,— и эта преданность будет всё бо[431]лее и более увеличиваться. Если б вы полюбили меня хоть вполовину того, как я буду любить вас! Но и в этом не смею быть уверен…»
«Вы мне нравитесь; я не влюблена в вас, да разве любовь необходима? Разве её не может заменить привязанность?»
(Это меня огорчило. Я теперь чувствую — т. е. [когда] вот теперь пишу это — что у меня на глазах навертываются слёзы.)
«Ну вот видите, если я (может быть) кажусь весьма слаб, то не думаю, чтобы я в самом деле был решительно дрянью. Правда, я кажусь вял, апатичен, но у меня есть и энергия. И я могу выказать силу. Я могу, когда понадобится, решиться, на что не все могут решиться; а решившись, сделать ничего не стоит. И если понадобится, я могу защитить себя или кого бы то ни было».
(Николай Димитриевич вошёл и начинает говорить — я должен перестать. Буду продолжать, как только будет можно, потому что мне пиша припоминается разговор хорошо.)
(Да, я хочу просить её позволения сказать о моём намерении (не говоря о её согласии) папеньке, который в самом деле любит меня.)
(Приписано в 5 час. по возвращении от Кобылиных.) — Нет, я рассудил, что теперь ещё рано, но что перед отъездом можно. Но раньше должно переговорить об отъезде с маменькою.
(Продолжаю наш вчерашний разговор. 5 часов.)
«…У меня, правда, характер, повидимому, вялый, но я способен и увлекаться, способен и быть энергичным. Что же [вы] ищете в муже? Что вы нашли во мне такого, за что согласились выйти за меня? Если вы ищете привязанности, то смело могу вам сказать, что я буду предан вам в самом деле всею душою.
Вы находите во мне ум, то в самом деле я скажу вам без самохвальства — этого я никогда никому кроме вас не сказал бы и обыкновенно говорю противное,— что ум во мне в самом деле есть. (11 часов, после возвращения от Кобылиных, где были вместе с маменькою.) Я не имею гениального ума, не могу создать чего-нибудь нового, но что сделано другими, то я способен понять. Я понимаю, что из чего следует, что к чему ведёт, я понимаю связь и отношение различных вещей и мнений. Обо мне говорят, что я очень высокого мнения о своём уме — я никому не сознаюсь в этом, но вам я скажу, что это правда. В Саратове, напр., я считаю себя выше всех по уму. Я не говорю о молодых людях — может быть, в числе гимназистов есть несколько человек выше меня по уму; я не говорю о людях, не принадлежащих к одному классу со мною по образованности… (О, как мне нетерпеливо хочется снова видеть её, чтоб переговорить с нею, чтоб больше узнать ее!) … умных людей, которые мало образованы, я весьма ценю и готов поставить многих выше себя,— но из людей, стоящих на одной ступени образования, я не знаю в Саратове ни одного, которого бы я равнял с собою». [432]
«Костомаров, говорят, тоже весьма умный человек».
«Это правда; но я ставлю себя выше его; это я скажу только вам; ему и другим я всегда скажу, что никак не равняю себя с ним. Видите, я начинаю самохвальствовать — это не в моём характере, но я говорю с вами совершенно откровенно. И вы со мной можете говорить совершенно откровенно».
«Я говорю совершенно откровенно; так, как с вами, я не говорила ни с кем».
«Итак, если вы хотите выйти за меня потому, что вы видите во мне ум и добрый характер, вы не раскаетесь. Что касается до того, как мы будем жить,— я человек весьма мнительный, я не уверен даже в том, в чём должен быть уверен, но я смею сказать вам, что надеюсь, что со мною вы будете жить [не] хуже того, чем жили до сих пор».
«Хуже того, как я теперь живу, не может быть ничего».
«Нет, я говорю, про материальные средства и удобства. Я надеюсь, что не доведу вас до лишений в том, чем вы пользовались до сих пор».
«Вы не будете профессором в университете?»
(Этот вопрос как-то огорчил меня — отчего, я сам не понимаю — мне кажется, что в нём проглянул какой-то эгоизм или — сейчас только нашёл я настоящее выражение для своего до сих пор тёмного чувства — мне показалось, что выходят не за меня, а за профессора университета, как вышли бы за председателя или что-нибудь в этом роде, выходят не за человека, а чиновника, но нет, это было сказано так потому, что ей представлялось, что от этого зависят средства к жизни.)
«Я этого положительно сказать не могу. Кафедры теперь нет. Если бы открылась, я вероятно получил бы её; открыть для меня новую кафедру едва ли захотят. Но я должен вам сказать, что по своей недоверчивости я представлял себя в худших отношениях к людям, чем было в действительности. Несмотря на свою недоверчивость к себе, несмотря на то, что мои слова будут похожи на самохвальство, я скажу вам всё-таки, что я оставил по себе некоторую репутацию в Петербурге. Напр., в военно-учебных заведениях я прослужил всего месяца четыре и не предполагал, чтобы мною были особенно довольны — всё-таки меня не забыли там. Напр., в прошлые каникулы пронеслись в военно-учебных заведениях слухи, что я еду в Петербург. Я сам не писал ничего, следовательно, эти слухи были весьма не положительны — всё-таки для меня там тотчас назначили место. Я этого не знал; вдруг мне пишут: что же я не еду? вышли из терпения дожидаться меня; мои классы остаются незаняты; если я не приеду в скором времени, их принуждены будут отдать другим. Я отвечал, что не поеду. Это, конечно, должно было невыгодным для меня образом подействовать на тех, которым хотелось это сделать для меня. Хорошо. Новый случай. Хотят изменить курс словесности в военно-учебных заведениях. Программу пишут люди молодые, дель[433]ные, однако, по моему мнению, бестолковые — учителя словесности все недовольны ею кроме одного. Правительство назначает диспуты. На эти диспуты вызывают меня, чтоб поддержать программу. Я не поехал. Это была большая потеря для меня, потому что диспуты были торжественные, на них присутствовал наследник. Я наделал бы там шуму, я в этом уверен, потому что уж у меня такая привычка: начинается спор — я сначала не хочу участвовать в нём, потому что мне или предмет кажется не стоящим спора, или спорят о пустых пунктах вопроса, или мнения кажутся мне слишком нелепы. Итак, я не хочу мешаться и только из приличия от времени до времени поддакиваю и обыкновенно стараюсь поддакивать обеим сторонам поочередно, стараясь подметить в словах то одного, то другого что-нибудь такое, с чем можно согласиться. Но, наконец, это мне надоедает, и я начинаю сам спорить и уже тут я перекричу всех, потому что уже так устроен и, убедятся они или нет, но я-таки перекричу их всех. Я скажу без преувеличения, что я могу спорить и нелегко спорить со мною. И вот я потерял случай приобрести репутацию. Что я не приехал на диспуты, сильно раздосадовало моих доброжелателей, оттого что они надеялись иметь во мне опору и не получили её. Но между тем, ругая меня за то, что не приехал, мне [все-]таки написали, что когда я ни приеду в Петербург, место для меня всегда готово. Я надеюсь получать целковых 700 или 800 жалованья. (Теперь, когда пишу, я вижу, что сказал мало, потому что 27 часов, которые мне бы дали, доставили бы по 30 р. за час, а я верно получил бы более — уже 810 р. сер.)
Кроме того я буду писать. Если бы у нас цензура была хоть несколько послабее, не хвалясь скажу, что я имел бы голос в нашей литературе. Теперь это трудно. Но всё-таки я надеюсь быть не из числа самых дюжинных писателей. (NB: Как жаль, что я не сказал снова, что у меня доходов будет никак не менее 1.500 руб. сер.) Одним словом, я надеюсь, что не доведу вас до того, чтоб вы нуждались в том, к чему привыкли».
«Я не хочу ни выезжать, ни танцевать, потому что всё это не имеет для меня особенной приятности».
«Что касается до этого, я так мало знаю петербургскую жизнь с этой стороны, что не знаю, возможно ли будет это — кажется возможно».
«Я сама не захочу, если бы даже вы этого хотели. Я не аристократка, я демократка».
«Что вы хотите сказать этим? (по обыкновению совершенно тихо и нисколько не огорчаясь тем, что предполагал возможным такой смысл) — посмеяться над моими мнениями?»
«Вовсе нет. Я не аристократка, я демократка. Я не хочу бывать в собраниях в Петербурге и танцевать».
«Возможно ли там это, я не знаю. Да, ещё один вопрос: умеете ли вы хозяйничать, потому что я решительно не умею распоряжаться деньгами?» [434]
«Не умею. Я в доме чужая, гостья. Я часто сажусь за стол, не зная, какие блюда будут на столе».
«Это для меня понятно. Но захотите ли вы управлять хозяйством?»
«Нечего делать, надобно будет — захочу».
«А если захотите, то верно сумеете. Нечего говорить о том, что вы будете главою дома. Я человек такого характера, что согласен на всё, готов уступить во всем — кроме, разумеется, некоторых случаев, в которых нельзя не быть самостоятельным».
(Здесь должен был бы прибавить, что выбор знакомых будет зависеть решительно от неё.)
(А Василий Димитриевич давно уже прискакал, услышав, что я у Васильевых, и давно уже входил и оставил мне только четверть часа на окончание разговора.)
«Я вам скажу ещё одно, чего не должно бы говорить».
«Так и не говорите».
«Нет, скажу, потому что мне слишком хочется это сказать. Но раньше, чтобы не позабыть, завтра вы будете на бале?»
«Нет».
«Так и я не буду. А когда вы будете — скажите, чтобы я приехал любоваться на вас».
«Раз когда-нибудь побываю, чтобы проститься (у меня сердце сжалось: неужели замужество со мною будет для неё концом веселья, правда несколько ветреного, но всё-таки веселья? но она думала не о том), проститься на 7 недель[420] с этими удовольствиями».
«Пожалуйста же уведомьте меня, когда будете. Так вот что я скажу вам: если б мои надежды быть вашим мужем не сбылись, если б вы выбрали себе человека лучше меня — знайте, что я буду рад видеть вас более счастливою, чем вы могли бы быть за мною; но знайте, что это было бы для меня тяжёлым ударом».
«Не до чахотки ли бы это вас довело?» (довольно шутливым тоном, как и весьма часто она смотрела с сомнительною или весёлою улыбкою на меня, когда я говорил, и говорила потом мне смеясь).
«Этого я не говорю и этого я не знаю. Но что это будет для меня тяжёлым ударом, который мне трудно будет перенести, это я скажу. Помните ж, что я желаю вам счастья, что первый буду рад за вас, но, прошу вас, будьте осторожнее, осмотрительнее в предпочтении мне кого-нибудь».
(Это почти конец моего посещения. Ложусь. Завтра продолжение. — Нет, ещё прибавлю, раньше чем лягу.)
Я боялся, что разговор этот менее произвёл на меня впечатления, чем разговор в четверг, и что поэтому я буду помнить и опишу его менее подробно. Нет. Он занимает 3½ листа, тот — 6 листов. Но тот и был вдвое длиннее по времени.
Нет, не лицемерю ли я это перед собою? Кажется, я описывал его в самом деле не так подробно, т. е. упоминал менее [435] подробно. Неужели ж уже моё увлечение начинает уменьшаться, и неужели же я скоро увижу, что поступил слишком необдуманно? Но раскаиваться в том, что я так поступил, я не стану. Я стал бы упрекать себя, если бы поступил противным образом. Тогда я стал бы считать себя ещё более неспособным на что-нибудь важное и смелое, стал бы говорить себе:
«А счастье было так возможно,
Так близко!»
Теперь я этого не скажу. Я поступаю, как следует мне по моим понятиям, и так, как предписывает мне моё чувство, которое говорит, что я буду счастлив и горд такою женою и составлю её счастье.
Да, ещё вставки в этот разговор 23 февраля:
- Я хрустнул пальцами в начале разговора (после только я вспомнил, что это примета влюблённости).
«Бедный, как вы сильно влюблены!»
«Не смейтесь надо мною! Пожалуйста, не смейтесь».
(Ложусь, потому что эта вставка будет длинна — так о том, был ли я влюблён.)
(Продолжаю 25 февраля, в 7 час. утра, как встал.)
«Не смейтесь. Я не говорю, чтобы я был в вас влюблён, потому что никогда не испытывал этого чувства и не знаю, то ли это, что я испытываю теперь, или что-нибудь ещё другое».
«Ну, как же вам верить? Вы были студентом, да ещё петербургским — знаете, какие студенты повесы? Сколько вы шалили в Петербурге?»
«Я вам говорю правду. Я никогда не испытывал этого чувства, и если вы в самом деле ревнивы, то будьте уверены, что вам нечего будет ревновать ни в моём прошедшем, ни тем более в будущем».
«О прошедшем что говорить — за него ревновать я не стану; будущее — другое дело».
«Нет, вам нечего ревновать и в прошедшем, потому что в самом деле я не любил никого до сих пор».
«И вы хотите, чтобы я этому верила?»
«Я так жил в Петербурге. Верьте, для вас нет в моём прошедшем и тем менее будет в моём будущем предметов для ревности. Я в самом деле не испытал большую часть того, что испытывают все молодые люди. Напр., я ни разу не был пьян».
«Я была раз пьяна, т. е. не пьяна, а развеселилась».
«Я ни разу. И то же почти обо всем остальном».
2, вставка: Венедикту единицу. 3, я бы желал послушать, что вы будете говорить. 4, я буду уважать мужа. 5, вы вели себя гораздо умнее, чем я.
Еще 2) вставка — это когда я спрашивал, согласна ли она, чтобы я был её мужем, и она отвечала, что это будет на будущую зиму. — «Итак, вы теперь согласны, чтобы я был вашим мужем; когда это будет — и это зависит решительно от вас. Я [436] повторяю, что я не хотел бы, чтобы это было до моего отъезда в Петербург — мне кажется, что лучше, чтобы это было по моём возвращении, потому теперь у меня решительно нет денег. Не если вы хотите, я поговорю с Сократом Евгеньичем теперь же. Мне кажется, однако, что это будет слишком рано».
Она сказала (когда разговор был о моей влюблённости и что я не ревнив): «Вы мне нравитесь; если я после взгляну и скажу — ах, какой хорошенький! то ведь это всего на пять минут».
Вскоре после как мы сели в зале, я всё останавливался и говорил немного с остановками. Она сказала:
«Ну, что же вы не говорите?»
«Я хочу слушать, что вы будете говорить о наших будущих отношениях».
«Что же мне говорить? У меня тоже свои понятия об отношениях жены к мужу».
«Какие же?»
«То, что жена должна всегда помнить, что она жена; должна уважать мужа и ещё что — я не скажу».
«Что же? В том, что вы сказали, нет ещё ничего особенного — это обыкновенные понятия. Что, же вы хотите сказать ещё? Мне всё можно говорить».
«Как вас мучит любопытство! Продолжайте говорить, что вы хотите сказать, а я своё скажу когда-нибудь после».
- Когда я сказал, что весьма высоко ставлю свой ум, она сказала:
«Я знаю, что вы считаете себя умнее всех».
«Что вы хотите этим сказать? То, что я считаю себя умнее вас? Напротив, я скажу, что вы в наших отношениях показали гораздо более ума, чем я».
- После того, как я сказал, что ворочусь из Петербурга с решительным предложением, если она до тех пор не найдет себе жениха лучше, она сказала:
«Конечно мы должны переписываться, чтобы знать ход обстоятельств». (Да, я должен спросить, в каком тоне должны быть эти письма с моей стороны — решительно сухие или с чувствами.)
Теперь я воротился от Шапошниковых, где виделся с О. С., которая осталась очень довольна.
(Итак, прерываю прежнее описание новым и докончу его после.)
В 4¾ вдруг вбегает ко мне Вас. Дим. Чесноков и отдает записку от С. Г. Шапошникова, потом бежит, говоря, что ему решительно некогда. Там сказано, что в этот вечер будет у них О. С. и чтобы я был. Я тотчас начинаю собираться. Отъезд Николая Димитриевича в Аткарск задерживает меня на 20 минут. Снова собираюсь. Должно пить чай. Таким образом проходит час почти, и в 40 минут шестого я отправляюсь. Когда подхожу к дому, мне навстречу Серг. Гавр. Шапошников, который идёт за мною: «О. С. уже час дожидается вас и падала в обморок». Вхожу к [437] нему в комнату. Мимо меня пробегают девицы, которых я не различаю в своих вспотевших очках. Я думаю, что между ними и О. С. Вхожу в комнату и начинаю протирать очки. Вдруг с постели встает О. С. и шутя говорит:
«Наконец-то! Как долго заставили вы меня ждать! Я в отчаянии! — (тут С. и Ив. Гавр.) — Посмотрите, как у меня бьётся сердце!»
И она берёт мою руку и прикладывает её к своему сердцу.
«Что вам за охота кокетничать?» — по обыкновению говорю я.
«Дайте-ка посмотрю, как у вас бьётся сердце — где оно у вас?»
И она прикладывает свою руку к моему сердцу. И мы садимся рядом у стола Сергея Гавриловича. И она начинает подсмеиваться над моими долгими сборами.
«Я ему велела каждый раз бриться, как он должен видеться со мною. Боже мой! весь пропитан розовым маслом. Давайте, я причешу вам голову».
И она начинает переделывать несколько мою причёску и заставляет подойти к зеркалу, чтобы убедиться, что теперь я совсем не тот и что теперь я стал очень хорош. Я иду за нею к зеркалу. Между тем девицы уже снова вошли. Мы сидим рядом, но долго и совершенно тихо, поэтому совершенно свободно мне говорить нельзя. Подают чай. В это время я успел сказать ей:
«Я всё пишу свой дневник».
«Дайте мне прочитать».
«Вы [не] прочитаете, потому что я так пишу, что мою рукопись кроме меня никто не может прочитать. Но я, если угодно, прочитаю вам его, когда будет время. Сергей Гаврилович (громко), позвольте бумаги, я напишу что-нибудь, чтобы показать, как я пишу. (Тихо.) — Что прикажете написать для пробы?» (Она тихо):
«Ольга, друг моей души».
Я пишу ей своим манером. Она пишет на этом лоскутке: «Коля, тебя любит Ольга». Я рву этот лоскуток.
Да, раньше этого разговор главным образом вертелся на её кокетстве и на том, что я говорил, что скромность есть лучшее украшение девицы и что она не хочет иметь этого украшения. Наконец, когда она хочет писать ещё что-то, я кладу карандаш на другую сторону; она протягивает мимо меня руку, чтобы достать его; я говорю:
«Снова кокетство — вам угодно, чтобы я поцеловал ещё вашу руку».
«Вовсе не угодно»,— и она не даёт мне её. Наконец, берёт карандаш. Я спрашиваю:
«То, что вы будете писать, будет совершенно серьёзно?»
«Совершенно». И она даёт мне записку: «Женитесь на Симе, она вас ловит. Она добрая девушка, и вы с нею будете (она написала это слово с ошибкою — будите) счастливы».
(О, подумал я, несколько должно бы поучиться вам право[438]писанию, а вы, думал я, не делаете ни одной орфографической ошибки.)
«И это вы пишете серьёзно? Тут нет ни одного слова правды!»
«Как нет?»
«Кроме одного: ловит».
«Как же вы говорите: нет?» И тут она начинает причесывать мне голову и после, когда… — нет, раньше этого, раньше чаю и раньше чем взошла Анна Ивановна — после разговора о кокетстве и скромности и после как она даёт мне целовать свою руку, я говорю:
«Ольга Сократовна» (тут были С. и Ив. Гавр., маленькие дети и Фогелев): — я говорю вслух, разумеется: «Ольга Сократовна, я не понимаю, к чему вы кокетничаете со мною? У меня есть невеста в Петербурге. Наши отношения не могут повести ни к чему».
Она шутя поворачивается (она сидела на стуле, который между стеной с окнами и столом) к стене, закрывает лицо руками: «Я буду плакать!» — и притворяется, что всхлипывает, потом сообщает это известие вошедшим девицам, с которыми садится на диване С. Гавр.
«Хотите, я опишу вам вашу невесту»,— и описывает Серафиму Гавриловну, однако в таких лестных выражениях, что я не догадался, и потом, проходя мимо меня на стул, говорит на ухо: «Это Серафима Гавриловна».
Теперь следуют мои слова о дневнике и переписка, после переписки причесыванье головы. Когда я сел, она снова стала подле меня и начала поправлять волосы. Я сказал громко:
«Что вы кокетничали, со мною раньше, это понятно; но зачем вы кокетничаете теперь, когда знаете, что у меня есть невеста?»
Она отходит к окну и садится подле Афанасии Яковлевны; сбоку садится Фогелев, я сажусь в углу. Она говорит с Фогелевым. Я говорю о ней, о её кокетстве с С. Гавр., который сидит подле меня, она показывает вид, что не хочет слушать, хотя слышит, и что сердится на меня.
Через несколько времени я подсел к ней, когда встал Фогелев. Она не хочет смотреть на меня, не хочет дать мне руки, спрятала их, сложив на груди. Я поцеловал ниже, кисти.
«Как вы смеете?»
«Что же (вслух) с вами делать? Вы ведь хотите этого»,— и я снова поцеловал.
«Как вы смеете делать то, что вам не позволяют?»
«Ольга Сократовна,— сказал я тихо,— неужели я в самом деле оскорбил вас?»
Это я сказал улыбаясь, она посмотрела на меня. Я наверное думал, что это всё шутка, но всё-таки у меня была слабая мысль, что может быть я в самом деле оскорбил её тем, что сказал рань[439]ше это (раньше, чем я сел рядом, когда встал Фогелев, я сел напротив).
(продолжаю 26 числа в 7 час.)
и тут я сказал… Нет, теперь некогда, после возвращения от Кобылиных буду продолжать.
(Продолжаю, 11 часов почти.)
Передал в гимназии конверт Венедикту для передачи О. С. В конверте письма Саши и Введенского и объяснения значения лиц, которые там упоминаются, потом соображения относительно моих будущих доходов.
Итак, продолжаю.
Итак, сидя против неё, я сказал, что у неё есть целая веревка, сплетенная из волос тех людей, которых она дурачила.
«Там есть и ваши, следовательно, я вас дурачу?»
«Конечно».
Вот за это она приняла вид оскорбленной.
Итак, я подсел к ней. Она отворотилась к окну.
«Ольга Сократовна! простите меня!» — Она не отвечала. «Простите». — Не отвечает. «Дайте мне поцеловать вашу ручку — ведь вам хочется»,— она спрятала руки, les mains, сложивши их на груди, но оставила ниже локтя открытые части, потому что рукава были довольно короткие. Я нагнулся и поцеловал.
«Как вы смеете?»
Я снова поцеловал.
«Как же вы смеете, когда вам не дают позволения?»
Я всё это делал с шутливым видом. Она продолжала сидеть, несколько отворотясь к окну. Я нагнулся к её уху:
«Неужели я в самом деле чем-нибудь оскорбил вас, Ольга Сократовна?»
Она несколько оборотилась, чтобы взглянуть на меня, и я в самом деле принял серьёзный и несколько унылый вид, потому что в самом деле могло случиться, что я сказал что-нибудь такое, чем другая на её месте оскорбилась бы.
«Mesdames, пойдёмте танцевать в зал»,— сказала кто-то из других девиц.
«Вы будете танцевать со мною, Ольга Сократовна?»
«Конечно».
Но вместо залы пошли в комнату Сер. Гавр. О. С. села на диван, я стал поодаль, представляя человека, состоящего под опалою. На столе лежала её муфта.
«Это муфта Ольги Сократовны», сказал Сергей Гавр., поцеловал её и дал мне. Я поцеловал тоже.
«Не смейте дотрагиваться до моей муфты»,— и я положил и более не трогал. Довольно долго сидели здесь.
«Сядьте на диван подле Ольги Сократовны».
«Не смею».
И наконец я ушёл, чтобы показать вид, что и я кокетничаю. [440]
Выкурив папиросу, воротился и сел подле неё. Она всё не смотрела на меня.
«Простили ли вы меня?» — Она ничего не сказала.
«Дайте вашу руку». — Не дала. Но сидит, не отворачиваясь, и уже не показывает, что оскорбляется тем, что я сел подле неё.
«Видите, уже готовы простить вас»,— сказали С. Г. и Фогелев. Да, вот что значит пококетничать,— и я умею пользоваться этим: ушёл, и меня простили, а если бы не уходил, до сих пор продолжала бы сердиться.
«Простите же меня, Ольга Сократовна»,— и я взял её руку. Она со слабым сопротивлением дала мне поцеловать её. Тотчас пошли танцевать в залу. Там был Гавриил Михайлович, и я должен был сесть и говорить с ним до начала танцев.
«Берите же даму»,— сказал мне, наконец, Сер. Гавр., который готовился сесть за фортепиано. И я стал с О. С., которая стала перед столом и в первой фигуре не садилась.
«Вы может быть в самом деле были оскорблены чем-нибудь с моей стороны, Ольга Сократовна?»
«Разумеется, нет».
«В самом деле?»
«Серьёзно нет».
Во время шена Катерина Матвеевна сказала мне, что у неё и О. С. есть ко мне просьба. О. С. сказала потом, что эта просьба — танцевать вторую кадриль с Серафимой Гавриловною.
«Конечно, я исполню это; но я решительно не знаю, что с нею говорить».
«Говорите о том, будет ли она в пятницу в маскараде, и просите, чтобы была».
«Да она может примет это за любезность с моей стороны, а я этого вовсе не хочу».
«Нужды нет, говорите».
Во всё время кадрили я пожимал руку О. С. и она с тёплою приязнью пожимала мою. Вторую кадриль с Серафимою Гавриловной, во время которой я и вёл действительно этот разговор и говорил больше о том, почему она так мало выезжает. Она кажется действительно была довольна этим разговором, потому что он выставлял в полном блеске её семейные добродетели и был ведён решительно в почтительном тоне с моей стороны. Третью кадриль с Катериной Матвеевной, говорил о том, в кого она влюблена и что я в самом деле думал о ней дня 3 или 4 после того, как видел её в первый раз у Шапошниковых. После танцев (только три кадрили) девицы ушли. Гавриил Михайлович оставил меня: «Останьтесь с нами, они все увлекают вас» — и я просидел довольно долго, говоря о различных вещах, главным образом о Кобылиных. Наконец, кто-то сказал мне, что девицы хотят, чтобы я пришёл к ним и к О. С; я, наконец, мог идти. Мы сели с О. С. в углу между столом и стеною — я направо, она налево от меня. [441]
«Ольга Сократовна, я был огорчен некоторыми вашими выражениями в нашем прошлом разговоре у вас. Вы сказали, что «разве необходимо, чтобы жена любила мужа, а муж жену?»
«Что же, разве это неправда? Разве всегда женятся по страсти? Напротив, большая часть бывает так, как я сказала, а всё-таки живут весьма хорошо и привязаны друг к другу».
«Но я принял эти слова прямо относящимися ко мне».
«Какой вы смешной!»
«Да, я в самом деле смешон и вашими словами я не оскорбился». — А раньше этого о ревности — вставка.
— «Ольга Сократовна, я говорил вам о себе многое неверно. Я говорил, что не ревнив. Это неправда. Нет, я чувствую, что буду ревнив; только это моё чувство будет у меня решительно не то, как обыкновенно его понимают. Видите, я такого характера, что слишком высоко ставлю тех, кого люблю, и у меня будет постоянно мысль, что я недостоин вас».
«Вы меня не знаете».
«Да, это правда, я не знаю вас совершенно, но я знаю, что вы совершенно откровенны, чрезвычайно добры и что вы чрезвычайно благородная девушка».
«Да, я в самом деле откровенна и у меня не может быть тайн. Если бы с моей стороны был какой-нибудь поступок, я не могла бы его скрывать, я прямо призналась бы в нем».
«Нет, я не о том говорю — какие поступки! Я не о них думаю! Я думаю, о том я такого высокого мнения, кого люблю, что всегда буду считать себя недостойным вас».
«Меня никто не понимает и никто не поймёт».
Как мне понравились эти слова — они были совершенно искренни, чистосердечны, происходили от глубины сознания, что её характер так высок, что его не в состоянии оценить другие.
«Во всяком случае я знаю, что вы совершенно откровенны: опишите себя, и я буду понимать вас так, как вы опишете себя».
В это время вошёл Гавриил Михайлович, и я должен был вести разговор с ним и только в промежутках говорить несколько слов с О. С., которая сказала при входе Гавриила Михайловича: «Теперь нам должно прекратить наш разговор шопотом».
Через несколько времени, когда разговор с Гавриилом Михайловичем дал мне время:
«Ольга Сократовна! Умоляю вас, будьте осмотрительнее, осторожнее, если вздумаете предпочесть мне другого. Если вы серьёзно и глубоко полюбите другого, я буду рад за вас (NB: когда пишу, у меня навертываются слёзы), но перенести это для меня будет тяжело. Как бы то ни было, наконец, я более всего желаю вашего счастья (NB: когда я пишу это, я плачу). Но я не обману вас, не преувеличу, когда скажу — для меня будет тяжело перенести это». [442]
«Это не может быть. Я вообще не могу полюбить». (NB: другого? или она говорит то, что и меня не может полюбить так, как я ее?)
«Я не могу обольщать вас денежными средствами. Но, поверьте, вы не найдете мужа, который бы жил более меня для нашего счастья». (NB: я должен буду прибавить после, почему для меня так тяжело будет потерять ее: я создан для семейной жизни, а бог знает, достигну ли её; по крайней мере достигну ли во-время, если она покинет меня.)
«Пойдёмте в залу»,— сказали другие и пошли; и она. Я остался на несколько секунд с кем-то, кажется, с Гавриилом Михайловичем. Когда взошёл в залу, мне показалось, что готовятся брать дам, чтобы танцевать кадриль, и я пошёл к ней. Она стояла посредине залы. Но наткнулся на веревочку — стояли так, держа ленту, чтобы начать играть в веревочку. Все засмеялись надо мной. — «Он ничего не видит»,— сказала она, смеясь. Мне скоро досталось быть в кругу и потом пришлось стоять подле неё, налево от неё. Долго не приходилось мне потом быть в кругу и наконец — говорить было нельзя, потому что никто не говорил с своими соседями по веревочке — мне стало неловко стоять в положении влюблённого, чтобы другие сказали: «вот близки сердцами, близки и местами», и мне хотелось попасть в круг, чтобы стать на другом месте. Но — если угодно, выражение нежной заботливости — когда до меня доходило кольцо с левой руки, я не передавал его ей, чтобы не нашли у неё кольца, а передавал снова налево. Наконец, мне пришлось стоять на другом месте, потом несколько времени (недолго) снова подле неё; кольцо, наконец, утомило играющих, и начали ту игру, чтоб бить по рукам. Ни тогда, ни теперь, ни разу не могли поймать её; — так она ловка! Смешно сказать, но я гордился и этим.
Теперь иду вниз сидеть в одной комнате с маменькой, которая, наконец, кончила свои хлопоты по хозяйству, и буду писать письмо Саше. Потом снова этот дневник, если можно будет писать его внизу при разговоре. Это всё писано наверху в моей комнате.
27 февраля, 9½ час. вечера Сейчас воротился от Чеснокова, где была она. Пишу это свидание, те окончу после.
Никогда ещё не был я в таком восторженном состоянии, как теперь. Но если я буду писать так, как раньше, то это никогда не кончится. Все наши свидания останутся недописанными, и у меня, наконец, никогда не будет оставаться время на мои занятия, которые я должен кончить как можно скорее. Поэтому я с этого дня стану писать только существенное.
Пятница. Василий Димитриевич Чесноков устроил у себя блины и пришёл за мною. У них были (приехали в половине двенадцатого) Патрикеевы, Шапошниковы и она. До блинов я говорил и с ней и с Катериною Матвеевною и с другими. Но когда подали блины и после них закуску, мы ушли в кабинет, оттуда [443] нас вызвали. Наконец, после закуски начали танцевать. Во всё это время ничего особенного, кроме только того, что я, тотчас после, как она приехала, не отходил от неё, оттого, что играл роль почти официального жениха. После закуски и танцев мы сели в зале в углу между окном и дверью из гостиной. Тут я сказал:
(Само собою, что я много раз повторял фразу: «Выбирайте лучшего, если он найдется, но для меня это будет весьма тяжело перенести».)
«Передал ли вам Венедикт письма?»
«Письма Введенского я прочитала».
Она показала мне перед ним много нежности, например, в кадрили, которую одну и танцевала, жала мне руку весьма горячо. Наконец, я сказал:
«Ольга Сократовна! Неужели правда, что вы теперь не пошли бы замуж ни за кого, кроме меня».
«Теперь правда, за будущее я не ручаюсь».
«Вот видите, мои понятия таковы, что на будущее никто не имеет право требовать обязательств. Сердцем нельзя распоряжаться. Единственное, чего можно требовать, это то, чтобы помнили, что нас любят, и у вас столько доброты и благородства, что в этом нельзя сомневаться. Я проповедник идей, но у меня такой характер, что я ими не воспользуюсь; да если б в моём характере и была возможность пользоваться этою свободою, то по моим понятиям проповедник свободы не должен ею пользоваться, чтоб не показалось, что он проповедует её для собственных выгод. Но от других требовать обязательств на будущее время я не могу».
Потом я сказал:
«По моим понятиям женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить её, должно много перегнуть её на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться».
Она сказала:
«Для меня странно, что в Апостоле на свадьбу читают: „жена да боится своего мужа“ — уважать, почитать, это так, но за что же бояться?»
«Это нелепые понятия. Вам кажется странно то, что я говорю о женщине и отношениях жены к мужу. Это потому, что я не знаю степени вашего образования, но вам должно быть неизвестно многое, что должна знать женщина, которая будет замужем за порядочным человеком. Вам не скучно будет слушать меня, когда я буду передавать вам то, что вам неизвестно?» [444]
«Я всегда буду рада слушать».
«Вы говорите об обязанностях и поступках — сущность брака состоит по моим понятиям в искренней взаимной привязанности, всё остальное дело второстепенное».
Раньше этого я сказал, что есть всё-таки вещи, которые я необходимо должен найти в своей жене — это умственное развитие. Она сказала:
«Так я не могу [быть] вашей женою».
«Я не то хочу сказать, чтоб я считал вас ниже себя по умственному развитию — вы более видели людей, более испытали серьёзных вещей, чем я. Но я предполагаю, что вам неизвестно многое из новых понятий о вещах».
Наконец, когда я всё это говорил и то, что я буду учить её, она засмеялась громко так, что ушла в спальню, и потом, когда села снова подле меня и когда подошёл Василий Димитриевич, она сказала:
«Вот он находит, что я не развита, и хочет учить меня уму-разуму».
Это — как она засмеялась и как говорила это, было всё так мило, так искренно. Но тут и раньше того, когда мы сидели в гостиной, она высказала мне вот что: когда она была в Киеве, там видел её молодой человек, богатый помещик, который весьма хорош собою, весьма благородного характера, что он полюбил её и хочет скоро теперь приехать, чтобы сватать её — «но я за него не пойду ни в каком случае, потому что я не хочу быть аристократкою». Это всё очень хорошо, но что после сказала она, что он мог сделать с ней всё, что угодно, и был, однако, так благороден, что удержался — это мучит меня ревностью — так она любит его так, что могла совершенно отдаться ему, а мне не хочет отдаться, т. е. не отдалась бы? Так она испытала страсть, которую не испытывает ко мне? Нет, это мучительно. Перестаю писать. Ложусь. Завтра.
(Это писано 28 февраля 1853 г. в 8 часов утра.)
Когда мы сидели тут же, я описывал, какой образ жизни будет возможно нам вести в Петербурге. Четыре комнаты, 2 человека прислуги, в театр сколько угодно, в Собрание — не знаю решительно, потому что никогда не слышал даже хорошенько об этих отношениях, но думаю, что это там стоит дешевле, чем здесь, и поэтому может быть даже будет возможно.
«В собраниях я бывать не хочу, лучше бывать в театре».
Наконец, как-то разговор повернулся так, что она стала говорить — именно с того, что я сказал: «Ведь я вероятно всегда должен буду жить в Петербурге — вам придётся жить в разлуке с Сократом Евгеньичем».
«Что делать! Я очень люблю папеньку, но всегда хотела жить врозь с ним».
«А ведь вы его очень любите?»
«Очень. Когда он был болен, я сказала ему: вы должны жить, [445] потому что я не переживу вас. И я в самом деле чувствовала, что умру или сойду с ума».
«Он ваша единственная защита».
«Да, он моя единственная защита, не совсем достаточная, но всё-таки я живу кое-как при нём; без него я решительно не могла бы жить. Когда он был при смерти, я дня два была в страшном мучении, но потом я стала равнодушна, решительно одурела, потеряла всякую способность что-нибудь чувствовать, была как деревянная. Все плачут, я ничего, спокойна и холодна. Я сказала ему: „Папенька, я умру вместе с вами“. — „Нет, я хочу жить для тебя“ — для меня, для одной меня, так сказал он — „и я буду жив для тебя“ — и он остался жив для меня. Так и когда я сама была больна холерою — я была очень опасна, так что отчаялись в моей жизни, я сказала: „Папенька, я не умру, потому что это огорчило бы вас, я хочу остаться жить для вас“, и я осталась жива. (Раньше этого я спрашивал её об отношениях к Венедикту и Ростиславу.) А мне хотелось всё-таки умереть. Тогда я была ещё ребёнок, но мне хотелось умереть. Не хотелось только потому, что я не хотела огорчать папеньку. А я совсем приготовилась умирать. Я лежала в полузабытьи, не видела и не слышала. Я призвала Венедикта и стала делать своё духовное завещание. Отдала ему ключи от своих ящиков. „Ты возьми всё (мы были ещё совершенно детьми, собирали пятачки и гривенники; у нас их было довольно много), возьми всё. Только мой рабочий ящик и мои начатые работы — тебе они не нужны — отдай Анюте. Ты там найдешь мои секреты, не смейся над ними“. Он бросил ключи под кровать, заплакал и убежал. Тут я увидела, что он в самом деле любит меня. Маменька ни разу не входила ко мне во всё время моей болезни. Я лежала и думала о том, как я умру, как меня будут хоронить, как будут плакать мои знакомые, потому что я непременно думала, что по мне будут плакать; как и кто меня понесет — я хотела, чтобы меня несли — в каком платье меня положат».
Тут же я спросил, можно ли быть у Патрикеевых, т. е. можно ли видеться с ней там.
«Я очень часто там бываю, каждое воскресенье».
При этом же я снова увидел чрезвычайную мягкость и доброту её характера. Серг. Гавр. Шапошников, у которого довольно шумело в голове, всё подходил, мешал нам и целовал её руку. Его неотвязчивость и нежничанье видимо весьма грубо оскорбляли её. Раз она даже рассердилась весьма серьёзно. У [нее] стало дергать губу. Но каждый раз и тут даже она по моей просьбе давала ему целовать руку, чтобы отвязаться от него: как много ума и доброты! Это повторялось раз 6 или 8 и ни разу не заставлял её гнев изменить своей мягкости.
После этого они поехали на катанье. Лошади были горячие, кучер пьян. Я боялся, чтобы не случилось чего-нибудь, хотя и считал свои опасения неосновательными. Я остался у Чесноковых до[446]жидаться их, потому что они должны были воротиться пить чай. Очень долго их не было. Я уже думал, что не приедут. Но вдруг нас позвали в дом (мы сидели во флигеле). Входит Катерина Матвеевна, бросается навстречу и говорит, что лошади разбили их (т. e. Ольгу Сократовну, Шапошникову и Анюту Чеснокову — они сидели вместе на чесноковских лошадях). — О. С. сидит в креслах у дивана в гостиной к той стене; которая к спальне. Я сажусь подле неё. Она со смехом, с истинною весёлостью начинает рассказывать:
«Я ушибла правый бок и всю правую сторону. Теперь несколько болит, но я скрываю это, нарочно смеясь. Лошади стали шалить в катании. Должно было уехать, чтобы они проездились; кучер погнал в гору мимо гимназии — как они неслись в гору! Завез нас на какую-то другую песчаную гору, которую навозили подле гимназии. Мы чуть не выпрокинулись. Хотели ехать в Немецкую улицу, я велела ехать мимо Гуськовых. До половины горы ехали хорошо, потом кучер опустил вожжи, заговорившись со мной, и лошади понесли. Серафима Гавриловна и Анюта стали кричать, я хохотать — что же, если убьют? Я вовсе не дорожу жизнью. Да я и знала, что не убьют. Мы проскакали на Волгу, там сани опрокинулись и разбились. Если бы одна лошадь не упала, нас решительно раздавило бы, убило бы санями. Я упала под низ, другие на меня. Все кричат, ахают, я хохочу. Хотят поднимать меня. — „Я сама встану“. А я хотела б, чтобы мне переломило руку или ногу — тогда я посмотрела бы, как меня станут любить».
«И я бы желал этого».
«Потому что тогда в меня не стал бы никто влюбляться?»
(Почти так: «тогда вы не были бы привлекательны ни для кого кроме меня; тогда я был бы единственным существом, любящим вас и любимым вами» — почти такова была моя мысль.)
«Тогда бы увидели, стал ли бы я любить вас по прежнему. Вы в самом деле ушиблись, поезжайте скорее домой, потрите чем-нибудь бок».
«Это пустяки. Вот посмотрите — уже прошло, хоть здесь была опухоль» — она показала мне нижнюю часть кисти левой руки: было несколько заметно, что было оцарапано и только, а здесь была опухоль. И здесь на другой (правой) руке тоже — «все прошло». В самом деле, какая у неё здоровая натура! Опухоль решительно прошла в какие-нибудь полчаса.
«Мы дошли пешком до Шапошниковых. Серафима Гавриловна, которая совершенно не ушиблась, потому что вывалилась на меня, кричала, пищала, легла в постель — „Ах, маменька! ах, маменька!“ — мне было ужасно смешно».
Я сидел и слушал всё это с каким-то увлечением. Во мне разгоралось восхищение ею, потому что всё это так просто, так прекрасно. И опасность её привела меня в какое-то увлечение, про[447]будила во мне такое живое чувство, какого я до сих пор не испытывал подле неё.
Через несколько времени мы пересели на другую сторону гостиной, она села в кресла подле дивана, я в другие кресла подле неё — на той стороне, которая в зале. Теперь стена залы закрывала нас от Ольги Андреевны и Елены Ефр., которые сидели в углу залы к гостиной. Мы просидели так часа полтора. Я почти ничего не говорил, изредка только какую-нибудь фразу, обыкновенно о том, что я любуюсь ею. И в самом деле любовался ею: она удивительно хороша! очаровательна! чем более смотришь на неё, тем более восхищаешься, увлекаешься ею! Тут-то я вполне почувствовал то, что начал чувствовать при рассказе её о том, как их разбили лошади и чего раньше не чувствовал:
Das Herz wuchs mir so sehnsuchtsvoll.
Да, именно: «Das Herz wuchs mir» Я любовался, восхищался ею.
«Как вы хороши!» — «Вы в самом деле обворожительны!» — «Чем более смотрю на вас, тем более увлекаюсь вами!» — «Наконец, если ещё продолжать смотреть на вас, в самом деле покажется, что вы первая красавица на свете». — Вот фразы, которые я повторял ей на ухо от времени до времени. И она была в самом деле очаровательна, какое положение ни примет её милое личико, обернется ли несколько ко мне, облокотясь на правую руку, повернется ли несколько в другую сторону, облокотясь на левую руку, приподнимет ли она головку, опустит ли её. О, как она хороша! Во всяком случае я не видывал никогда ничего подобного.
Теперь собираюсь к Акимовым, где будет она.
(Писано 1 марта в 9 ч. утра. — Свидание в пятницу 27-го.)
Итак, я сидел и всё любовался на неё в решительном увлечении. Она чрезвычайно хороша! Она увлекательна!
«Я в таком увлечении, что поцеловал бы вас, если бы не хотел, чтобы мой первый поцелуй был совершенно таков, как он должен быть и как он здесь не может быть, потому что здесь мешают».
Ее головка была так близка к моим губам (мои кресла были несколько повыше), что я несколько раз слегка поцеловал её волоса. Наконец, я осмотрелся — из залы и спальни не видит никто, на диване Василий Димитриевич любезничает с Катериной Матвеевной. её головка была так близко — мне казалось даже неловко не воспользоваться этим, мне казалось, что это будет вяло с моей стороны. И тихонько, осторожно я поцеловал её в лоб. Она тотчас отвернулась и облокотилась на другую ручку кресел.
«Ольга Сократовна, это мой первый поцелуй в лицо женщины». (Раньше этого и потом снова я сказал ей: «Ольга Сократовна! Если вы не будете моей женой, я долго, долго не буду в состоянии позабыть вас». Я хотел прибавить: «Вы будете виноваты, что моё сердце, если будет оно отдано другой, не будет ей отдано вполне, что кроме неё я думал о вас».) [448]
(NB: О том, что я любил другую (Кобылину) и что я любил её менее Катерины Матвеевны.)
«Вы слишком дерзки!» — И лицо её приняло опечаленное выражение.
Мне стало жаль её, мне стало совестно моей дерзости, мне стало совестно того, что я думал, что она сама вызывает меня на это.
«Простите, Ольга Сократовна, простите меня. Я забылся, я виноват, я не мог удержаться».
«А другой, в Киеве, удержался. Он мог сделать со мною всё, что хотел, и был так благороден, что не позволил себе ничего».
Итак, она любила его до такой степени, что отдалась бы ему! Итак, она чувствовала страсть и теперь не чувствует её ко мне! Итак, я не заменю ей того, что раньше испытала она!
Это была не ревность, это было прискорбие. Это было сожаление о том, что я не так благороден, как другие, что я не могу внушить ей такой любви, значит сделать её такою счастливою, как могли бы другие! О, я довольно наказан за свою дерзость!
И я продолжал просить прощения, но она всё была печальна. Она не сердилась, она грустила. Наконец, может быть через четверть часа, она стала немного не так грустна.
Наконец, вошли в гостиную Ольга Андреевна, Ел. Ефремовна, Дмитрий Яковлевич; стали подавать закуску. Ел. Ефремовна заняла моё место; я стал говорить с Дмитрием Яковлевичем. Наконец, она уезжает, я прощаюсь. Мы свидимся завтра. Я вышел вместе с нею. Она сидела уже к другому краю саней. Василий Дмитриевич вышел проводить её.
«Ольга Сократовна, позвольте мне сказать вам два слова».
Я обошёл сзади саней, она подвинулась на середину:
«Садитесь».
И я сел на правой стороне. Она подала мне руку и с чувством искренности сжимала её. Так всю дорогу наши правые руки были одна в другой. Я несколько раз с увлечением целовал её руку. Наконец, встали. При самом приближении к её дому я сказал:
«Ольга Сократовна, теперь я вижу, что я люблю вас, теперь нет сомнения — моё чувство любовь, не что-нибудь другое. Я люблю вас».
Последний раз я пожимал её руку, последний раз целовал её руку.
(Писано 1 марта в 3¼ часа по возвращении с визитов от Кобылина и от Чеснокова.)
Описываю наше последнее свидание вчера у Акимовых.
Накануне она мне сказала, что Василий Акимович именинник и что она там будет, но что вечера там не будет, потому что под воскресенье не хотят. Я боялся, что шутя меня не пригласят. [449]
Когда я явился туда в 12 часов, это было уже перед самыми блинами; меня заставили положить шляпу, значит пригласили остаться.
Она была уже там. Явились Пригаровский с Палимпсестовым, и она начала любезничать с Пригаровским. Она сидела в гостиной на краю дивана к той двери, которая ведёт в спальню; я сидел на креслах у окна; Пригаровский стал подле неё; она начала шалить его каскою, сломала у неё верх и спрятала в карман, сказавши, что не отдаст. Скоро подали закуску. Раньше этого девицы вышли в залу. С ними ходили более всего Палимпсестов и Пригаровский, я почти совершенно не ходил, а более сидел на диване у печки с Павлом Васильевичем. Когда стали закусывать, я сначала сел подле и спросил, есть ли у неё Кольцов, которого хотел подарить ей. Потом я отошёл в угол к столу, на котором стоят трубки и где сидели другие молодые люди. Она стала кормить Пригаровского, который сел подле неё. Я всё шутил, шалил, смеялся, мне было мило, чтобы не показывать своей влюблённости раньше времени, и мне было радостно, что я буду жить с таким очаровательным существом. Когда она стала кормить Пригаровского и мне указали на это, я нарочно встал, подошёл и сказал:
«Иисус Христос накормил 5 000 человек, а вы, Ольга Сократовна, вероятно; кормили целые десятки тысяч».
Потом снова продолжалось то же. Она любезничала с Фёдором Устиновичем и особенно с Пригаровским, которых, особенно последнего, всё держала подле себя; я шутил и смеялся. Наконец, явился Куприянов с братом. Я встречаю его радушно, но (шутя) смотрю на него свирепо. Он подходит к ней, она снимает у него кольцо (сердоликовое), надевает себе на палец и говорит, что оставит у себя. Я прошу показать мне. Как попадается мне в руки, я беру его поперек, показываю вид, что готовлюсь разломать, и спрашиваю, что оно стоит. У меня его выпрашивают с условием, что О. С. не возьмёт его — конечно, всё это шутка. Потом вдруг она показывает мне кольцо, завязанное в платок, и говорит, что это Куприянова; я говорю, чтобы отдала, если нет, то будет страшное дело. Она не хочет показать мне и отдать. Я думал, что может быть и в самом деле Куприянова, но хотел, конечно, только продолжить шутку, а вовсе не хотел з самом деле принуждать ее:
«Нет? Не хотите показать? Хотите оставить у себя? Так вот же!»
Иду к свече (для зажигания папирос), кладу в огонь палец, держу несколько секунд. Мне кричат: «Отдано, отдано!» Палец в самом деле я себе несколько прожёг, так что его жгло часа три.
После продолжу описание вечера. Теперь разговор у Палимпсестова, который начал говорить об этом ещё у Акимовых. Мне не хочется ни кончать этой тетради, ни начинать новой какими-нибудь пересудами и сомнениями.
У Акимовых, незадолго до отъезда, после нашего разговоре с нею, Палимпсестов сказал мне, что я поступаю совершенно не[450]осмотрительно, что общего между нами ничего нет (то-то и есть, что общего много: благородство чувств (смею сказать это), мягкость характера — у неё чрезвычайная — весьма высокая степень ума — и это смею сказать о себе), что наши характеры решительно несходны (это-то мне и нужно, потому что если б такой же характер, как у меня, был у моей жены, мы засохли б с тоски, уныния), что она истаскана душою, между тем как у меня сердце ещё решительно свежее. Всё остальное оставлял я его говорить без всякого возражения, потому что возражать значило бы быть слишком откровенным; на это сказал:
«Что ж? Обыкновенно истасканные мужчины женятся на свежих девушках, пусть раз будет наоборот».
«Но если она будет продолжать делать то же самое, что теперь? Это кажется лежит в самом её характере: ей непременно хочется вскружить голову всякому, кто только бывает в одном обществе с нею,— вышедши замуж, она будет продолжать делать то же самое».
«Вот видишь,— сказал я (может быть это и будет так продолжаться, может быть она и будет кокетничать так же, как и теперь, или даже свободнее — я не думаю, кокетство не в её характере, это вообще живость, бойкость, отчаянная весёлость в угнетенном положении),— если она, моя жена, будет делать не только это, если она захочет жить с другим, для меня всё равно, если у меня будут чужие дети, это для меня всё равно (я не сказал, что я готов на это, перенесу это, с горечью, но перенесу, буду страдать, но любить и молчать). — Если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стесняясь нисколько».
Он мне сказал, что хочет переговорить со мною об О. С., и чтоб я зашёл к нему на этой неделе. Но когда мы вышли вместе с ним, моей лошади ещё не было, и мы с ним и с Вороновым отправились проводить её. Он сказал — конечно, она понимала, о чём идёт дело, потому я так прямо и отвечал.
«Так ты на-днях зайдешь ко мне, чтобы заняться составлением реестра для моей статистической статьи?»
«Зайду, только я уверен, что в этом реестре не будет ни одного имени».
«Т. е. не будет твоего?»
«Ни одного имени, ничьего имени».
«А у меня есть много данных».
«Мои данные повернее, потому что происходят от людей, гораздо более меня и тебя знающих».
(Я бы мог прибавить, что и я знаю этот предмет весьма хорошо потому, что никогда и ни с кем не имел таких откровенных разговоров, и что едва ли много найдется девиц, которые выслушали бы мои слова и поняли их, как она.)
Она шла, опираясь на мою руку; кажется, это было сделано с намерением, и взяла мою руку, чтобы сойти с высокого снега в калит[451]ке — кажется, это было сделано ею, чтоб выразить свою уверенность во мне и чтоб поблагодарить за мой ответ Палимпсестову.
«Итак, ко мне?»
«К тебе».
И вот я у него. Я просидел у него с 1½ часа. Вот [что] он сообщил мне:
- Она сама говорила ему, а раньше говорила ему Бусловская то же самое, но он не верил Бусловской:
У них был учитель, какой-то сосланный. — «Я страстно любила его, но он не любил меня, имел ко мне отвращение, и я всё-таки любила его. Когда он женился, я возненавидела сначала его жену, но потом полюбила её, потому что увидела, что он сделал выбор лучше меня, что она действительно более меня могла составить его счастье, и я до сих пор люблю его, хотя, конечно, не такою страстною, безумною любовью, как тогда, и в другой раз такою любовью не могу любить».
Но (теперь говорю я, через сутки) — А) это, вероятно, детская страсть, потому что у них был последний учитель Мопшинцев[421], значит, тот учитель был раньше его — верно ей было лет 16 — это детская наивная влюблённость. В) если бы это было решительно так и эта страсть была бы не детская, а серьёзная, какую, например, питала бы она теперь, то это свидетельствовало бы только о возвышенности её сердца, способного к истинной любви, и о чрезвычайной доброте её души, готовой любить даже тех, кто нанёс ей такой жестокий удар.
- Есть M-r Ершов, ничтожнейший, весьма вялый человек (равный мне), теперь помощник контролера в Казенной палате, тогда писец. Гусев говорил Палимпсестову: «Она не стоит (он назвал её грубым термином, должно быть потаскушка или негодница) того, чтобы ухаживать за нею.» Вот ты подсмеиваешься над Ершовым, а даже он целовал её — он говорит так: «Прижмешь, бывало, где-нибудь в коридоре и поцелуешь».
Но, 1) когда это было? Вероятно, давно; Палимпсестов говорит,— верно, давно, год или два; если было — детская шалость. 2) Верно ли, что именно целовал в уста? не в этом важность, а в том, что говорила, что не давала ни одного поцелуя — разумеется, если шутя, насильно, в коридоре — не стоит и говорить об этом; конечно не стоит; да верно ли еще? Едва [ли]. Ершов может быть и не говорил ничего такого, а только сказал, или про него думали, что он любезничал и что она была влюблена в него, как можно сказать, что влюблена в Пригаровского, а Гусев уж употребил более резкое выражение — целовал её. Одним словом, это вздор.
- Это важнее, это должно попросить её объяснить, как это произошло. Бусловская говорила Палимпсестову, что на-днях О. С. сказала ей, что холостая жизнь ей надоела и что она в сере[452]дине поста даст слово или мне, или Яковлеву. — 1) Едва ли она что говорила, скорее Бусловская сама это сообразила; 2) если говорила, то — А) каким образом возможен для неё выбор между мною и Яковлевым? Б) зачем она говорила, когда я не говорил? Это я спрошу вероятно у неё. Должно быть это выдумала Бусловская.
У Палимпсестова на столе лежит её браслетка из какой-то материи, которую она на-днях (должно быть, уже после моего предложения) подарила ему. Недавно она прислала ему сердечки конфектные.
Когда всё это говорилось, это несколько смутило меня: в самом деле, находит ли она во мне что-нибудь особенное? Или я для неё такой же, как, напр., Яковлев, Палимпсестов? Если так, если она не видит во мне ничего особенного, и в ней самой не должно быть ничего особенного. Нет, это не может быть. Она слишком умна и, что угодно говорите, слишком благородна.
Итак, тогда это несколько смутило меня; даже эти два случая — любовь к учителю и поцелуи Ершова. Тогда я даже хотел расспросить и разузнать об этих двух случаях. Неужели она будет только играть мною? Неужели только играть? Неужели не будет иметь ко мне искренней привязанности?
Теперь мало-по-малу вижу решительно, что всё это весьма глупо. Я её знаю лучше, чем все эти господа.
Как бы то ни было, дело решено. Я не отступлю, не усомнюсь ни в себе, ни в ней. Только бы иметь её своею женою, только бы устроить свои дела, а то я буду наверное с ней счастливее, чем со всякою другою.
Я решительно спокоен. Я по прежнему уважаю, люблю её. Не хочу судить судом людей, которые ниже меня, поэтому гораздо менее меня могут [судить] её.
Я лучше её знаю. Я знаю её.
Я люблю тебя. Я уверен, что и ты полюбишь меня, если ещё не любишь меня.
О, сомнение прочь! И оно уж прошло.
(Продолжаю описание вчерашних происшествий. Продолжаю, где кончилась 21 страница.)
Наконец, Куприянов сел подле Павла Васильевича. Мне указали на него. Хорошо же, я покажу ему свои чувства. Я сидел в углу и поставил стул так, что сел задом к продолжению стены и к нему, лицом в угол. — «Да вы не к нему одному сидите задом». — Я перенес стул, поставил прямо против него и сел задом к нему. Так просидел несколько минут. Брат Куприянова сказал: «Пора, пойдём». — «Благодарю вас» — и я с чувством (смеясь) пожал ему руку; Он пошёл к ней прощаться. И рассыпался в комплиментах. Мне указали на него — «Посмотрите, как он любезничает». — «Хорошо». Я подошёл, взял его за руки, повернул спиною к себе и вытеснил из комнаты. Потом затворил дверь и смотрел от времени до времени в щелку.
(Теперь следующая тетрадь.) [453]
Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье. Тетрадь 2-я
О zarte Sehnsucht, süsses Hoffen, Der ersten Liebe goldne Zeit! Das Auge sieht den Himmel offen, Es schwelgt das Herz in Seligkeit; O, dass sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der ersten Liebe[422].
Und sie wird ewig grünen bleiben, Die schöne Zeit meiner ersten Liebe.
(Писано 17 марта после окончания 41, А[423].)
Leben meinem Leben giebt sie allein.
Продолжаю описание 28 февраля. Теперь 1 марта 10 часов вечера.
… Итак, я беру за руки его, поворачиваю спиною к себе, оттесняю его бегом в переднюю, затворяю дверь, гляжу от времени до времени в щелку, что делает он — брат уже вышел; когда он затворил за собою дверь на крыльцо, я выбегаю, жму ему несколько раз руку, хохочу, прошу извинения в своей шутке; он, конечно, не оскорбился ею. А между тем, после говорят мне,— когда я стал вытеснять его, поднялся всеобщий хохот; она, когда я вышел в переднюю, бежит к дверям, чтоб проститься ещё раз с ним — конечно, шутя; Воронов становится у дверей в переднюю, затворяет их снова, не пускает. Палимпсестов и Пригаровский хотят оттащить Воронова и отворить для неё двери,— он легко их отталкивает. Дело кончается всеобщим смехом и похвалами моей удали. Но и тут, и несколько раз раньше я спрашивал у неё, не переходит ли моя шутливость за границы. Она говорит — «ничего». Я продолжаю. Через несколько времени она спрашивает воды. Нет, ещё это. Я беру мел, который лежит на столе для карточной игры, подхожу к Пригаровскому, ставлю ему на спине крест, потом у Палимпсестова, потом у Воронова; у меня вырывают мел, ставят мне на спине крест — это знак поклонников Ольги Сократовны, страдающих по ней. Я протестую против этого, говорю, что это было справедливо раньше, но не теперь, подхожу к Воронову отцу и ему ставлю крест, потому что ему случилось перед этим случайно пойти из залы в гостиную рядом с О. С., и начинается всеобщее ставление крестов, и весь мой фрак сзади покрыт крестами. Наконец, я начинаю, когда немного утихло, ставить девизы, и у Палимпсестова, когда это могла видеть только Елена Васильевна Акимова, ставлю на отворотах сюртука — на одном Е, на другом [454] А и тотчас же стираю этот девиз. Маленькая Воронова шалит также, особенно со мной; я пишу на полу Н. В. и Н. Ч. (Наталья Воронова и Николай Чернышевский). Воронов тотчас приписывает после Н. Ч.: страдает по О. С. В. Я приписываю: страдал, но больше не страдаю. Он исправляет: страдал, страдает и будет страдать. — Общий смех. Наконец, я пишу крупным шрифтом во нею доску: ИЗМЕННИЦА. О. С. кричит — кто ж? и пишет: изменник. Общий шум, хохот, веселье. Дело кончается тем, что кричат: должно сказать об этом Василию Акимовичу, он заставит нас мыть полы. И мы, в самом деле, вымыли их, только не так, как обыкновенно. Едва утих этот шум и расселись все по местам, О. С. спрашивает воды. Пригаровский и Палимпсестов бросаются принести. Пригаровский успевает раньше убежать в спальную за водой. Палимпсестов становится у двери из залы в гостиную, притворяя их, повторение моей проделки. Как Пригаровский подходит,— хочет вырвать у него стакан. Пригаровский не даёт, вода плещется, около ⅓ доли пролито в той половине зала, которая к гостиной. Пригаровский, торжествуя, удерживая стакан, несет его О. С., но я сижу на дороге, подталкиваю ловко стакан подо дно, он летит, не разбивается, вода разлетается повсюду, попадает на платье невесты. Я вижу, что зашутился слишком, извиняюсь. О. С. меня бранит, я ухожу в гостиную, сажусь подле играющих в карты, притаиваюсь, притворяюсь смиренником. Но оказывается, что платье ничего не потерпело. Я через несколько времени снова выхожу в залу, сажусь с самого краю у окна. Наташа Воронова, с которою я много шалил, подходит ко мне, говорит: «Что вы стали так смирен?» — «А вам хочется, чтобы я не был смиренником, хорошо!» — я схватываю её, она вырывается, я-таки успеваю схватить её за талию и сажаю к себе на колени. Общий хохот. Подбегает брат: дуэль — готов — просите секундантов. Пригаровский, которого я прошу, отказывается, потому что сидит подле О. С. А ну дуэли без секундантов, а мне именно хотелось сманить m-r Пригаровского с его места. «Дуэль, дуэль!» — «Нет, не могу». Мне предлагают две палки на выбор, вместо шпаг. Подходит Василий Акимович. — О. С. кричит: «Приколотить их лучше, вместо дуэли». Воронов убегает; я остаюсь и говорю тихонько Василию Акимовичу: «Ударьте меня палкою». Он бьёт. О. С. говорит: «Вы, сударь, слишком дерзки. Я ревную вас. Как вы смеете делать при мне подобные вещи?» — «А, так вы гневаетесь на меня — хорошо же! Я выхожу на мороз. Или схвачу горячку, или дождусь вашего прощения». Ухожу в комнату бабушки. Там сижу минут 10. Наконец, Пригаровский приходит сам за мною и уводит меня, говоря, что ему должно сказать мне о Городкове, который поручил мне кланяться. Мы начинаем ходить по зале, я не подхожу к О. С.,— ведь я под её гневом. Палимпсестов говорит: «Стань перед нею на колени, проси прощения». Я подхожу. «Это от вашего имени передано мне приказание?» — «От её, от её, я свидетель»,— говорит Елена Васильевна. Я становлюсь на колени [455] перед О. С. и повторяю какие-то 2 стиха о прощении, которые диктует мне Палимпсестов. — «Встаньте, встаньте»,— говорит О. С. «Вашу руку поцеловать в знак прощения». Она прячет руки. Я не встаю. Наконец, она вполовину сама даёт руку, вполовину Ел. Вас. подносит её к моим губам, я сам беру её, целую, встаю и говорю, наклоняясь, на ухо О. С., которая сидит крайняя в углу передней: «О. С., это не одна шутка, а в самом деле я буду всегда делать так». Собираюсь кататься. Мы уходим с Пал[импсестовым] и Пригаро[вским], они заходят ко мне. По возвращении к Ак. на чай начинается серьёзный разговор с О. С.
Но ложусь спать. До завтра. Но раньше напишу: у меня на глазах слёзы от радости о моём счастье.
Не от горя плачу, с радости.
О, милая моя! О, самое светлое, самое благословенное явление моей жизни! О, да будешь ты счастлива, как ты того стоишь!
О Mädchen, Mädchen, Wie lieb ich Dich! Wie blickt dein Auge!
и, о если б я мог прибавить:
Wie liebst du mich!.. Wie ich Dich liebe Mit warmen Blut, Die du mir Jugend Und Freud und Muth Zu neuem Glücke Und Thaten giebst! Sei ewig glücklich[424].
О, если б я мог прибавить:
Wie Du mich liebst!
Но любишь ли ты меня, или ещё не любишь, ты полюбишь меня, полюбишь! полюбишь! Ты слишком добра, слишком проницательна, чтоб не оценить моей привязанности к тебе, моей полной преданности тебе!
Продолжаю 3 марта, 5¾ утра.
Меня пригласили к Акимовым возвратиться пить чай. Начинаются танцы. Да,— О. С-вну спрашивают, почему она не заставляет меня полькировать. «Я не думаю, чтоб он мог ловко полькировать, а я не хочу, чтобы он был смешон».
Она танцует со мною первую кадриль. После каждой кадрили я снова сажусь подле неё. Наташа Воронова постоянно подбегает подслушивать нас, садится подле меня и протягивает голову, становится подле неё и подслушивает и хохочет. Мы прогоняем её. Я говорю, что если она не отстанет, я сделаю дерзость хуже прежней. «Какую же?» — «Какая придёт в голову, но сделаю». — «О, какой вы удалец! — говорит О. С. — Вы и так уж много наделали глупостей!» — «Да, я могу и делать глупости, и быть дерзким, особенно теперь». — Итак, нам беспрестанно мешают. [456]
«О. С., где я могу с вами видеться? Весною вы, конечно, будете гулять, но пока где? Могу ли я бывать изредка у вас?»
«Можете».
«Например, когда теперь?»
«На второй неделе».
«Нельзя ли раньше? Вы судья в этом деле, но я просил бы вас позволить раньше, если можно».
«Хорошо, так и быть, можете в воскресенье».
(Итак, я целую неделю не буду видеть её. А я уж и теперь, через 1½ суток, стосковался по ней.)
«Могу ли я бывать у Патрикеевых? Ольга Андреевна приглашала меня».
«Можете».
«Т. е. могу ли я там видеться с вами? Вы там ведь часто бываете?»
«Часто; следующее воскресенье уж непременно».
Итак, я отправлюсь в следующее воскресенье. Завтра, кажется, будет неловко.
«Мне ужасно хотелось привезти сюда маменьку, чтобы она видела вас. Конечно, я ничего бы не сказал ей».
«А если она увидит, как я шалю, скажет: какая кокетка. Если я не понравлюсь ей?»
«Нет, понравитесь, потому что она (хотя, разумеется, в ней старые понятия о вещах) слишком умна, чтобы не понять вас. Маменька моя в сущности весьма добра и будет любить вас больше, чем меня; это потому, что она постоянно говорит, что так будет и что её понятия таковы, что свекровь должна брать сторону невестки против сына, что положение жены вообще бывает не довольно хорошо. Это верно в нашей крови.
О. С., я совершенно завишу от вас. Я знаю, что это значило бы стеснять вас, не в отношении ко мне, потому что я не принимаю относительно себя никаких обязательств, сердцем нельзя распоряжаться вперёд. Но вы верно не имеете таких понятий, потому это стеснило бы вас; но как бы то ни было, я бы хотел теперь сделать так: перед отъездом своим из Саратова сказать своим — папеньке и маменьке — о моём намерении сделать предложение. Потом просить согласия у Сократа Евгеньича».
«Что ж? Об этом никто, кроме него, не будет знать».
«Так, по вашему мнению, я должен так поступить?»
«Как хотите».
«Нет, относительно тех вещей, где я хочу поступать, как мне хочется, я не спрашиваю ничьего совета. Это, например, относительно образа мыслей и относительно моих поступков в некоторых случаях. Но когда я спрашиваю совета, я хочу, чтобы получил приказание. Так я могу так сделать?»
«Можете».
Начинает она: «А если ваши родные будут несогласны?»
«Я не думаю. Но если б и так было, я весьма послушлив, я на[457]последок безусловно повиновался родителям, но в этом случае их несогласие не удержит меня. Я могу действовать самостоятельно, когда того потребуют обстоятельства».
«А если мой папенька не согласится?»
Я помолчал. (Что это такое? В самом деле она думала: «а если он не согласится?», или это было только выражением её мысли: «У меня есть средство отделаться от тебя, если будет нужно. Я заставлю папеньку отказать тебе». Нет, последнего я не думаю. Она слишком благородна и искренна, чтоб поступить так и чтоб думать подобным образом.)
«А если за мною не будет много денег?»
«Я никак не ожидаю, чтоб могло быть много. Мне б хотелось, чтобы ничего не было. Сейчас я скажу, повидимому, совершенно противное: конечно, чем больше будет у вас денег, тем лучше, но для вас, а не для меня. Ваши деньги будут, конечно, принадлежать вам. Я не буду никогда считать их принадлежащими нам вместе. И если бы когда-нибудь вам — вам — вздумалось употребить сколько-нибудь из них на наши общие потребности, я смотрел бы на это не иначе, как на принятие взаймы. И вы не настаивайте, не действуйте в таком духе, чтоб за вами дали больше денег. У вас большое семейство. У вас есть сёстры. Вероятно, они не будут иметь женихами людей с такими мнениями, как я».
Вот существенное содержание нашего разговора.
Она спросила ещё, когда я говорил о Патрикеевых:
«Знакомы ли вы с Макс[имовыми]? Я там часто бываю».
«Нет. Но я бы хотел познакомиться. Только не знаю, как это сделать».
Наш разговор был прерван, и я должен был после спросить, как мне познакомиться с Максим[овыми].
Потом я должен был расстаться с нею. Тут разговор наш с Палимпсестовым. А в его квартире,— после того, как он высказал всё,— я сказал: «Ну, теперь я скажу, что она может выйти замуж за кого угодно, но что пока она не выйдет замуж, я не женюсь». Больше этого, прямее, я не смел сказать, хотя мне, конечно, очень хотелось сказать ему, что я уже обязался перед нею.
Теперь кончено описание наших последних свиданий и разговоров. Начну описывать — только существенное — наши предыдущие свидания раньше четверга 19 февраля. Но раньше сойду вниз, посмотрю, что делает маменька. Окончив их описание, стану описывать мои мысли, соображения, расчёты относительно моей женитьбы именно на ней и чувства, произведённые во мне ею и тем, что я стал её женихом. Пишу всё-таки, пока докурится папироса.
Да, я должен прибавить, что в пятницу у Чесноковых, когда мы сидели ещё в 1-й раз у дивана в гостиной к стене, отделяющей её от залы, она мне сказала: «А мне вчера говорили о вас очень дурно, предостерегали от вас, говорили, что вы очень дур[458]ной человек, что вам нельзя верить ни в одном слове. Но я знаю, что этот человек говорил от зависти, потому что я вовсе нехороша к нему». — «Что же, он хорошо знает меня?» — «Нет».
(Это должно быть Линдгрен???? — имени она не хотела сказать.) To же самое и по искреннему убеждению могли бы сказать и люди, близкие ко мне. — Потом, когда мы сидели в зале и я описывал свои понятия о супружеских обязанностях (по тому поводу, что она сказала, что поцелует меня только тогда, когда потребуется это; что когда я буду мужем, тогда, конечно, она обязана будет повиноваться мне и что я буду иметь право требовать её поцелуев) и о свободе жены и о моей покорности её воле, я наконец прибавил: «Я говорю решительно, как какой-нибудь соблазнитель». — «А разве вы не можете быть соблазнителем?» — «Э! помилуйте» — и я махнул рукой, как бы говоря: «куда»!
Наконец, ещё вставки в разговор под конец вечера воскресенья. Когда мы говорили о сватовстве моём и нам мешали, я почти каждый раз, когда снова садился подле неё, говорил: «Я могу продолжать?» Раз она вслух сказала: «Как тускло горит эта лампа». — «Вам скучен этот разговор?» — «Вы умный человек, и не понимаете, почему я говорю это! Нас подслушивают!» — В самом деле, я был чрезвычайно глуп. Наконец, после разговора с Палимпсестовым, я подошёл к ней, когда она ходила по зале, и сказал: «Наши разговоры всё остаются неоконченными. Что же скажете мне окончательно? Могу я сделать так, как говорил?»… «Можете». — «Я вам не надоел еще?» — «Фи, как это глупо!» И она, сказав это с чувством совершенно искренним, отвернулась и пошла прочь, так что я в самом деле увидел, что это было весьма глупо. Да, я раньше сказал ей — это было до катанья и до начала моих шалостей: «О. С., вчера была вами [сказана] одна вещь, которая огорчила меня» (это: «Он мог сделать со мною всё, что хочет»; сказать это прямо я не успел, но потом, когда стали говорить о том, в кого была влюблена, теперь влюблена и в скольких [будет] влюблена О. С., я сказал, для всех, но главным образом для неё: «Хотите, я вам скажу правду? О. С. ни в кого не влюблена и, вероятно, ни в кого не будет влюблена». — «Это правда»,— сказала она. — «А была она влюблена один только раз». — «Ни разу»,— сказала она. Я нагнулся к её уху: «А в Киеве?» — «Он был влюблён в меня, а я в него нисколько». — «Теперь я решительно ничего не понимаю». — «Ну да, он был влюблён в меня, а я его вовсе не любила»).
Теперь, 2 марта, понедельник 1 недели поста, 11 часов утра, принимаюсь описывать события, предшествовавшие нашему разговору с ней у них, следствием которых было предложение.
Вот таблица моих свиданий с нею:
26 генваря, понед. — Я видел её в первый раз у Акимовых.
28 — журнал.
30 — пятн. — именины Вас. Дим., любезничание с Ростиславом. [459]
Февраль
1 — воскрес. Я был у них с визитом. Видел её на катаньи.
2 — Сретенье. У Акимовых.
3 — вторн. — У Шапошниковых говорили мне о ней.
5 — четв. — Ходил к ним с Вас. Дим., не застал Ростислава.
8 — воскр. — У Аким.
9 — понед. — Первый раз у них.
12 — четв. — [У] Аким. Я упросил её остаться. Она хотела ехать в театр.
13 — пятн. — Шапошниковы (весьма важное свидание).
15 — воскр. — У Аким, должен был видеться. Неудача.
17 — втор. — Нашла робость, не успел переговорить ничего.
18 — среда — Акимовы — Куприянов.
19 — четв. — Предложение.
21 — суб. — Я сказал, что буду говорить с нею, как должно жениху, в маскараде.
22 — Маскарад. Воскресенье перед масленицею.
23 — понед. — У них долго сижу с ней.
25 — Шапошн. Среда.
26 — Четверг масленицы — не видел её.
27 — Чеснок. Пятница.
28 — Суббота — Акимовы.
Март
Ни 1-го, ни 2-го ещё не видел её. Неужели до воскресенья? Почему же? Во всяком случае успею написать всё и сделать что-нибудь по своей диссертации. Итак, начинаю описывать.
В воскресенье, 1 февраля, я поехал к Васильевым с визитом. Конечно, это была шутка — желание показать ей, что в самом деле интересуюсь ею. Но с какою целью интересуюсь? Чтобы просто полюбезничать. Не застал дома Ростислава. Хорошо же, я увижу её на катаньи. Зашёл к Чеснокову, который уже смеялся над моею влюблённостью. Я сам смеялся и тогда смеялся искренно. Пошёл нарочно посредине дороги между рядами экипажей. У Полиции попадается, останавливается поезд. Мне говорят: вы должны будете встать на запятки. Тогда я ещё сделал бы это, потому что тут ничего серьёзного не было. Но я не догадался — слишком плох. Василий Димитриевич выругал меня за эту оплошность. Очень долго не видел её. Наконец, почти у самого конца Сергиевской улицы она встречается нам. Она сидит с Ростиславом. Потом она попадается беспрестанно. Наконец, поезд стоит несколько времени; когда они против нас, Вас. Дим. и Шапошников говорят ей что-то, она отвечает им любезностью на любезность. Трогается с места, я говорю: «О. С., вы всем сказали по ласковому слову, неужели не скажете мне?» — «Хорошо, будьте ныне у Шапошниковых». После объяснилось, что нельзя, потому что Шапошниковы сами были на свадьбе чьей-то. Когда мы зашли к Чесн[оковым], надо мною и моею влюблённостью всё смеялись. [460]
А раньше, в пятницу на именинах Василия Димитриевича тоже. Ростислав, который был там и которого я застал уже много пившим, любезничал со мною, а я с ним, и над нашею дружбою подсмеивались. Потом он непременно хотел играть в карты, чтобы обыграть тех, которые были несколько пьяны, а он нисколько, хотя притворялся пьяным. Я помог ему устроить игру. Он действительно выиграл около 1 р. 20 коп., я 25 коп., которые отдал ему, потому что у него мелочи не было, а он говорил — теперь непременно хочется зайти к девкам (о, как мне противно осквернять подобными словами эти страницы, посвящаемые О. С.!). Я отдал свои 25 коп., которые, конечно, знал я, он не отдаст мне. Так он поступает. Пользуется выгодою своего положения, чтоб извлекать выгоды из людей, интересующихся его сестрою. Так он опивает и обыгрывает Яковлева, которому тоже, конечно, не отдает проигранных денег. «Он пропьёт меня за полштофа»,— говорит О. С., и с её слов Чесноков и Шапошников — и решительно справедливо. Одним словом, он низкий человек.
Да, я ещё позабыл одну свою шутку с нею после первого вечера у Акимовых. Мы разъехались в 4¼ часа. Я проснулся в 11 часов. Но мне вздумалось исполнить её просьбу для шутки в 1-й же класс, который был у меня в VII классе. Это должно быть в среду. И я нарочно хотел спросить у нескольких человек урок, чтоб спросить и Васильева и поставить ему 5. Потом отослать журнал к О. С. Я думал, что, может, осердится за эту смелость, но думал, что шутя и объявит мне благодарность. Я сильно колебался, делать ли это, наконец, сказал: да до каких же пор мне быть робким? вздумал сделать, так сделаю. — И вот в среду я взял с собою бумаги, сургуч, печать (церковную для большей важности), нитки и отправился в гимназию. В VII классе спрашивал урок — так, это было в среду, потому что раньше этого были у [меня] часы в IV классе, где я приготовил записку к Ростиславу. Спрашиваю уроки у 4–5 человек, спрашиваю, наконец, и его и потом снова других. Венедикт ничего не знает. Всё-таки я ставлю ему 5. После этого ухожу в канцелярию, вкладываю в журнал приготовленную записку в этом роде: «Ростислав Сократович, посылаю к вам мой классный журнал и покорнейше прошу вас показать его О. С., чтобы Она (большою буквою) лично могла сама убедиться в той, как послушно исполняются мною её приказания». Завертываю в бумагу. Надписываю: Ростиславу Сократовичу Васильеву, обертываю ниткою, запечатываю так, что никто не может видеть, что такое в свертке, вхожу в класс, отдаю Венедикту. Потом меня взяла некоторая робость. Я боялся, что она обидится. На другой, день Венедикт отдает мне сверток, из которого дома я вынимаю журнал и несколько конфеток. Я ждал её записки с изъявлением благодарности. Но записки, конечно, не было. Я был очень обрадован успехом своей шутки. У меня до сих пор цел этот сверток, запечатанный её ручкою разноцветными печатками. Я его получил 29 февраля в четверг. Конфеты — это первый её подарок мне — [461] как будто я предчувствовал, что будут и другие — и до сих пор целы, лежат в свертке. На журнале были выставлены карандашом цифры её рукою: против Венедикта 6 + несколько раз. потом «и т. д.» по Венедиктовой графе.
Я как дитя радовался всему этому.
Прерываю рассказ, чтобы снова написать. Все мои глупые сомнения в чистоте её сердца, все мои глупые сомнения в её искренности, возбуждённые словами Палимпсестова, совершенно исчезли без всякого следа. Совершенно. Я спокоен за своё счастье с нею, как раньше. Как и раньше, у меня только одна забота: денег, денег, денег, чтоб она жила в полном довольстве. Будут и деньги. Будут. И она будет счастлива со мною. И я буду счастлив её счастьем.
(Во вторник, 3 февраля, я надеялся быть на вечере у Шапошниковых, где думал полюбезничать и с нею, и с Патрикеевой. Но мне хотелось быть и у Горбуновых — так ещё была слаба моя страсть к ней. Однако не пригласили никуда, что меня огорчило. У Шапошниковых, где я был довольно долго — нет, это после, раньше понедельник Сретенье.) На Сретенье был у нас Василий Акимович и приглашал бывать у них. «У нас по праздникам всегда собираются. Приезжай ныне». — О, как я был счастлив, что воротился во-время домой и застал его у нас.
Я продолжал любезничать с нею ещё сильнее, чем раньше, но много любезничал и с Катериною Матвеевною, так что перевес был не так заметен, но на следующий раз был уже решительный перевес, и я с Катериной Матвеевной говорил уже так только, из приличия.
О. С. понравилась мне, как и раньше, так же умела слушать любезности, не конфузясь и не давая права быть дерзким, отвечала на них, так же шутила, шалила, кокетничала. Но в этот раз кормила меня, а не Палимпсестова. Я сказал, что был вчера у них. «А мне просто сказали, что в очках. Я думал, что это Куприянов». И она несколько уверилась в том, что я не просто шучу, что она в самом деле мне нравится. Я в этот вечер и в следующий начинаю к восторженно шутливому языку подмешивать более спокойные и серьёзные уверения в том, что она мне нравится в самом деле и что если это будет продолжаться так, то я искренно привяжусь к ней. Но особенного в этот вечер я ничего к ней не чувствовал. Мне было весело говорить любезности, играть лёгким чувством, быть как бы в легоньком упоении. Но всё это делалось только с целью приобрести некоторую ловкость и опытность при будущих моих паркетных подвигах и при будущем выборе невесты. Я сказал ей, что в самом деле она весьма добра, весьма умна и поэтому я в самом деле начинаю привязываться к ней. Но особенного ничего в этот вечер не было. Я её даже вслух назвал кокеткою и сказал, что только говорю ей комплименты, потому что она вызывает на них меня. [462]
На другой день у Шапошниковых Серафима Гавриловна сказала мне: «А вас здесь дожидались более часу и даже скушали кусок сыру, когда узнали, что вы любите сыр». Я очень жалел, что не застал их, что опоздал приехать. Но меня занимало и то, что меня не пригласили на закуску или на вечер к Горбуновым — значит, всё это была ещё шутка, игра. Когда ж это перестало быть игрою? А вот расскажу, воротясь от Кобылиных.
(Это писано 3 марта, в 6½ час. утра.)
Хотя до сих пор моя привязанность была более шутка, чем серьёзное что-нибудь, однако ж я почти каждый день бывал у Чеснокова, где мог говорить о ней, и чрез которого хотел познакомиться с нею. Таким образом в четверг 5 марта мы собрались к ним, но Ростислава уже не застали дома. В воскресенье 8-го мы условились быть с Шап[ошниковым] у Акимовых. Приехали почти в 8 часов, потому что я работал и опоздал одеваться. Приезжаем, она давно уже там. Выходит из гостиной, подает мне руку, через несколько минут говорит, что хочет ехать в театр — её упрашивают, она говорит, что непременно. Я ей говорю: «Пожалуйста, останьтесь», и она остаётся. Конечно, в этом было, может быть, кокетство (может быть, она только говорила, что поедет, чтобы заставить меня просить себя, но скорее, что в самом деле хотела ехать и не поехала в самом деле потому, что я просил, но главное, что в этом участвовало кокетство). Как бы то ни было, она сделала это так, что было видно, что у неё доброе сердце. Она в этот вечер больше сидела с Палимпсестовым, чем со мною. Со мною танцевала две кадрили, 2-ю и 5-тую. Но перед 4 кадрилью, когда я сидел подле неё, к ней подошёл брат жениха, весьма скромный, тихий, застенчивый молодой человек, прося её танцевать какую-нибудь кадриль. «Я танцую». Он опечалился. Мне стало его жаль. Вы не говорили ещё Палимпсестову, что танцуете с ним?» — «Нет». — «Видите, как ваш отказ огорчил Сахарова. Танцуйте с ним». — «Хорошо. M-r Сахаров, я с вами танцую». Как мне это понравилось, чрезвычайно, и с этого времени я начал постоянно говорить ей, что у неё доброе сердце. И в самом деле весьма, доброе сердце. При прощании Сергей Гаврилович просил позволения ввести меня к ним в дом. Она вполовину дала это согласие. Итак, на другой день мы должны были отправиться.
9, понедельник. Я у них. У меня должен был быть Николай Иванович, и я велел приехать за собою к Васильевым. И приехал около 7 часов брат за мною. Когда мы вошли — прямо в комнату Ростислава — меня поразила страшная грязность задних комнат. Входим в комнату Ростислава. Она и Катерина Матвеевна сидит на диване. У них Линдгрен, потом на несколько времени Яковлев. На столе между прочим подсолнечные семечки! И это меня неприятно оскорбило: грызет семечки. Я сел на кровати рядом с ней. Василий Димитриевич говорит: «Видите, как она печальна; это оттого, что вы слишком плохо себя держите». — «Я не смею». — «Садитесь подле неё, между нею и Кат. Матв. на диване». — Я в [463] самом деле не смел. Она, наконец, сказала, чтоб я сел. И тотчас же стала мне давать из своих рук орехи. «Я не могу грызть, потому что у меня зубов нет». — «Ну, так я стану грызть». И она начала разгрызать и класть мне в рот. Я каждый раз целовал её руку. Наконец, я стал говорить ей: «Вы в самом деле держите себя слишком неосторожно. Со мной, например, вы действительно можете позволить себе подобные вещи, потому что я в сущности порядочный человек. Но другим это покажется не так. Я знаю, что это просто живость, весёлость, бойкость характера. Но другие скажут, что это желание завлечь». И т. д., разговор в этом роде. (Раньше Шап[ошников] садился подле её ног и по её приказанию лаял собачонкою.) Наконец, встали, пошли в зал, потому что тут было слишком накурено. Она сама за руки повела меня через коридор,— ход весьма запутанный. Пришли тут и другие. Начинают танцевать. Я с ней, и говорил уж серьёзно, что я в самом деле довольно сильно привязан к ней, что, конечно, это не любовь, но что она весьма интересует меня и весьма мне нравится. «И вы начинаете мне нравиться». — За мною приехали. Я хотел говорить ей при следующем свидании о том, что у них в доме страшный беспорядок и что она должна заняться хозяйством.
На другой день был у Чесн[оковых]. Там объяснили мне её отношения с матерью и братьями. И как я узнал, что мать её не любит, и что, по выражению Вас. Дим., «ей дома житье тёпленькое»,— у меня тотчас сильно развилось сочувствие к ней, очень сильно развилось. Итак, это и доброта, высказанная ею в предыдущий вечер у Ак., сделали то, что я начал чувствовать к ней довольно серьёзную привязанность. Я с нетерпением дожидался четверга, когда она хотела быть у Акимовых.
12-го, четверг. — Снова то же. Тут я говорил ей более, чем раньше, что уж теперь она почти совершенно держит меня в руках. Она смотрела с своим вопросительным видом, смотрела своими проницательными глазами. Тут-то особенно сильную роль играли конфетные билетики, которые впрочем и в прежние вечера она постоянно раздавала мне и другим и с большим уменьем выбирать. Особенно когда мы сидели у стола, который стоит подле окон ближе к гостиной. Я любезничал, называл её кокеткою, но когда разговор был между нами одними, часто говорил с чувством. Наконец, сели между этим столом и столиком, на котором трубки, Бусловская, она и Палимпсестов. Через несколько времени подсел и я и сказал — не помню, как это пришлось сказать,— вероятно, говорили о чём-нибудь подобном: «Вот я так опишу будущие отношения к жене, когда женюсь. Я буду покорнейшим слугою своей жены, покорнейшим слугою, покорнейшим слугою, только. Покорнейшим слугою». После этого Бусловская, когда кончили танцевать, подошла к ней и поздравила её с скорым замужеством, как мне сказал на другой день Палимпсестов.
Иду вниз — начерчу расположение комнаты, в которой мы виделись. [464]
Нет, начинаю писать вслед за предыдущим, потому что хочется писать.
Итак, общий результат наших разговоров и свиданий у Акимовых был тот, что она мне нравилась больше, чем какая-нибудь девица до сих пор, так что при ней все другие и в том числе Кат. Матв. теряли всякую занимательность для меня, и я только из приличия, только из деликатности от времени до времени начинал говорить любезности Кат. Матв.; о Катерине Николаевне не было, конечно, уж никакого помину с 1-го же разу, как я увидел её.
Мне хотелось видеть её, хотелось говорить и любезничать с нею, хотелось даже слышать, как говорят о ней. Но жениться в Саратове я не думал. Поэтому, чувствуя, что по неопытности в подобного рода делах, как человек увлекающийся ею в 1-й раз, я могу увлечься, я начинал чувствовать необходимость прекратить эти отношения, не столько, однако, из боязни запутаться самому — хотя и говорил ей, что я у неё почти в руках, но думал, что я совершенно безопасен, и в самом деле тогда был безопасен. Нет, я только боялся, чтобы не повредить её репутации своим ухаживанием.
На другой день всё-таки мы должны были видеться у Шап[ошниковых].
Вдруг поутру приносят записку от Палимпсестова (она у меня цела)[425]. Я ему говорил шутя, что хочу говорить с ним о серьёзном деле, он сказал, что не хочет говорить — поводом к этому было то, что я говорил про него, а он, в раздражении отчасти, про меня ей, чтоб она не слушала, что во всех моих словах нет ни слова правды, что я человек дурной и хитрый.
Я отвечал, что буду у него около 9 часов. Мне кстати нужно было заехать за табаком к Малеевским.
Он поступил чрезвычайно дружески, как следует вполне благородному человеку.
«Послушай, какие у тебя намерения относительно Сократовой?»
«Никаких».
«Ты не хочешь на ней жениться?»
«Нет». — Я говорил искренно. Тогда я не думал, чтоб мог жениться в Саратове.
«Зачем же ты завлекаешь ее? О вас с ней начнут скоро говорить. Как можно играть её репутациею. Зачем ты говоришь такие вещи, как вчера, напр., о том, каким бы ты был мужем? Бусловская приняла это за высказывание намерения сватать её и после, когда она танцевала с мною, Бусловская подошла и поздравила её с скорым замужеством. Ты решительно можешь увлечь её. Должно быть осторожнее с девушкой, положение которой и так не завидно, о которой и так уже говорят много дурного. Да и уверен ли ты в себе? Разве ты не можешь увлечься сам?»
«Я сам понимаю необходимость прекратить свои настоящие отношения к ней. А то, что я говорю о том, каким бы я был мужем, [465] действительно с моей стороны большая неосторожность. Благодарю тебя. Ты поступаешь как истинно порядочный человек».
И мы расстались. Я — с намерением прекратить эти отношения, с чувством, что я зашёл было слишком далеко, что, одним словом, я всегда и везде действую или слишком мало, или слишком много, с чувством уважения и благодарности к Палимпсестову.
Итак, завтра у Шап[ошниковых] должен был я видеть её.
11–13-го я тосковал о том, что едва начинается для меня нечто похожее на жизнь сердца, как уж должно быть остановлено, потому что становится при моём характере слишком серьёзно, что у нас невозможна роскошная жизнь сердца, что я должен покинуть эти отношения, которые так были для меня милы и, наконец, так интересны по своей новизне. Теперь следующее свидание у Шап[ошниковых]. Раньше займусь делом, потом снова за это. Теперь 9 часов утра 3 марта, вторник (у меня нет классов). Нет, начинаю писать вслед за предыдущим, потому что хочется писать.
13-го, пятница. — Итак, я в 5½ час. у Шап[ошниковых]. Через несколько времени являются они — она, Кат. Мат., Афанасия Яковлевна. Входят в комнату Сер. Гавр. Мы садимся с нею у стола. Как всегда в нашем обществе, сначала дела не клеятся, разговор идёт вяло. Другие сидят на кровати Серг. Гавр. Она берёт карандаш и начинает играть со мною в ответы и вопросы (я раньше отдаю ей записку Палимпсестова,— конечно, при всех). «Пишите 3 ответа на 3 вещи, которые напишу я»,— говорит она. 1) Я пишу: «Я не смею верить». Я думал, что первое, что она напишет, будет уверение, что любит меня, как у Акимовых накануне давала мне билетики, в которых говорилось: «Я тебя люблю» и т. п. Действительно ею написано: «Я вас люблю» — это продолжалось несколько времени в таком же роде. Мы рвали эти записки. Наконец, она написала: «О. С. Чернышевская». Я взял. — «Это решительно неправда, вы всё шутите, а мне вовсе не до шуток». Это я говорил по обыкновению холодным вялым тоном и вслух. Раньше этого я написал: «Игра для меня перестаёт быть игрою». Она в это время сидела у стола спереди, я сбоку в углу. Наконец, девицы позвали в залу танцевать. Я взял её руку. «О. С., вы всё шутите. Я начинаю не шутить». — «Я вовсе не шучу. Я хочу иметь такого мужа, каким вы будете по вашим словам». Конечно, это сказала она таким тоном, что если б дело расстроилось, то это должно было принять за шутку. «Хорошо, я не могу жениться уж по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться». Не знаю, поверила ли она этому,— кажется, мало, потому что подобные вещи для неё мало привычны. Мы пошли [466] танцевать. Я танцевал с другими или говорил с Гавр. Мих. и т. п. С нею не могу теперь припомнить, что я говорил, кроме повторений, что всё-таки я привязан к ней, что если это будет продолжаться так, то я, наконец, не буду в состоянии рассудить, и т. п. Наконец, танцую с нею последнюю кадриль. Но раньше я упрашивал её быть у Аким[овых] в воскресенье и дожидался этого дня с нетерпением. В последней кадрили я говорю: «Итак, вы видите, что наши отношения не могут продолжаться. Я теперь расскажу вам повесть моей любви. Сначала мне весьма нравилась одна девушка, имени которой я не скажу, потому что не хочу подвергать её насмешке вместе со мной, потому что это была с моей стороны любовь решительно глупая (это я говорил о Кобылиной). Я уже готов был объясниться ей, но объясниться странным образом, в таком роде: „Вы умная, добрая, благородная; но вы теперь не можете играть такой роли в обществе, какую могли бы играть, потому что слишком мало развиты. Позвольте мне быть образователем вашего ума и сердца“. — Но тут я у Шапошниковых увидел Катерину Матвеевну и увидел, что кроме той девушки есть другие девицы, умные, добрые и милые. Наконец — третье и самое страшное явление в моей жизни — явились вы. Не знаю, чем это кончится, но, вероятно, этот третий акт будет самым серьёзным, самым страшным актом. Я теперь ещё могу несколько рассудить, но скоро не буду в состоянии. Я и теперь делаю глупости. Но скоро вы может быть заставите меня сделать страшную, самую непростительную глупость. Потому что вы теперь знаете, я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моею». «Так вы будете у Акимовых?» — «Буду». — «Какие кадрили вы танцуете со мною?» — 1-ю я хочу танцевать с невестою, 2-ю с Кат. Матв. (Она, бедная, несмотря на то, что я говорил ей: «Не любите никого!» — «Даже вас?» — «Даже меня»,— тотчас отвела меня в сторону и просила быть у Аким[овых], а эту кадриль у Шап[ошниковых] танцевать с нею. Это было между 4 и 5 кадрилью в комнате снова Серг. Гавр., потому что мы все беспрестанно переходили из комнаты его в залу и снова в его комнату. Я сказал, что танцую с ней. О. С. взяла бы меня танцевать, но мне жаль было Кат. Матв., я просил позволения у О. С. танцевать с нею, и она ушла без всякого каприза — как она умна и добра!) Итак, какое безумство с моей стороны. Я хотел прекратить отношения к ней, а между тем упрашивал её быть у Аким[овых]. Мне хотелось видеться с ней ещё 2–3 [раза] перед разлукой, чтобы говорить с нею тоном искренней преданности и сожаления о необходимости разлуки, мне хотелось порадоваться ещё моею начинающейся любовью перед прощанием с этой любовью. Но я сам не понимал хорошенько, что я делаю. Мне хотелось совершенно серьёзно поговорить об этом: «О. С. Чернышевская», я сам не знал хорошенько, что будет следствием этого разговора. Скорее всего я ожидал, что увижу и она сама скажет мне, что это была шутка и что тогда со спокойным сердцем я могу отстать от неё. Но не[467]ужели в самом деле только шутка? едва ли»,— думал я. Что же делать? Я сам не знал вперёд, что я сделаю. Я знал только, что мне сладко быть с нею и что не видеть её для меня весьма тяжело. Боже мой, как я безумно поступал! Но однако я уж говорил себе, что если бы этого потребовали обстоятельства, я не отказался бы, если бы этого потребовала она, но она не потребует, это кончится одним любезничаньем.
Теперь иду относить Кольцова в переплет[426]. Потом снова писать. Теперь уж событий осталось всего только за 4 дня. Потом буду описывать свои чувства, свои соображения.
Да, раньше при втором свидании у Акимовых я сказал Катерине Матвеевне, когда она всё просила меня любить её и всё говорила, что я её обманываю, что я люблю О. С., я сказал ей, что характер О. С. мне гораздо более нравится, потому что она живая, весёлая, бойкая. — Когда О. С. потом, по обыкновению, говорила мне: «Как же вам верить, вы то же самое говорите Кате», я сказал: «Нет. Конечно, я шучу с ней так же, как с вами, но тех серьёзных и неромантических вещей, которые говорю вам, тех не пламенных, а спокойных уверений в своей привязанности, какие вам, я ей не говорю. И сейчас, например, я сказал ей, что вы по характеру мне нравитесь больше, чем она».
Да, ещё должно будет прибавить её рассказ о первом нашем свидании у Чесноковых и о том, как она боялась меня. Это было сказано мне во 2-й и 3-й вечер у Акимовых.
(Пишу в 12 часов. Должен скоро уйти.)
Итак, я ждал с нетерпением вечера воскресенья. Аким[овых] нет дома. Это меня ошеломило совершенно. Я был совершенно расстроен, больше чем тогда, когда мы неудачно ходили к самим Васильевым. Что делать? Чесн[оков], к которому я заехал, говорит: «Во вторник отправимся». Хорошо. Снова то же нетерпение.
Наконец, вторник. О, как долго, казалось мне, я не видел её. Да и теперь — всего третьи сутки, а мною овладевает нетерпение так, что я не поручусь, что не буду у них до воскресенья. Нет, выдержу, буду повиноваться ей. Хотя и довольно тяжело это для меня, тем более, что у [нас] не всё ещё переговорено с нею, что мы с нею не совершенно понимаем друг друга. Может быть, и она не совершенно доверяет мне. Но нет, она слишком умна и слишком проницательна, чтоб у ней могло оставаться во мне какое-нибудь сомнение. Но пора идти. После, по возвращении от Кобылиных.
Сажусь в 10 час. вечера продолжать.
Во вторник мы приходим в комнату Ростислава с Вас. Димитриевичем, в столовой сидит она с одной из Рычковых, в комнату Ростислава не входит,— я не решаюсь выйти к ним, хотя Фогелев выходил,— не решаюсь выйти, чтоб не показать Ростиславу, что я у неё, а не у него. Она посылает мне Рычкову с билетиком: [468]
Огонь в твоей пылающей груди Не для меня ты, для другой храни.
«Я давно был уверен в этом», сказал я. Она входит раз или два в комнату, я только несколькими словами перебрасываюсь с ней и то весьма вяло. Наконец, она входит одетая проститься: «Мы едем в театр». Я был так глуп, что даже не успел, или не догадался, или не посмел спросить, когда она будет у Акимовых. — Весьма неудачное свидание! Через ¼ часа мы уходим, т. е. Вас. Дим., а не я. Я просидел бы бог знает до каких пор, чтоб показать, что [я] у [них] для Ростислава, а не для неё. Весьма неудачно! Даже Вас. Дим. говорит, что неудачно, и утешает тем, что на масленице устроит блины и «тогда можно будет поправить дело».
Хорошо. На другой день (в среду 18 числа) является [человек] снова с запискою от Палимпсестова. (Эта записка у неё; должно будет приложить её к делу.) «Если ты сколько-нибудь уважаешь О. С., будь ныне её ангелом хранителем. Она будет у Аким[овых], там будет один молодой человек весьма дурных правил. Малейшая любезность с её стороны будет поводом к жесточайшей атаке. Мне к сожалению нельзя быть». Я догадался, что это Куприянов, но думал, что скорее кто-нибудь другой, потому что Купр[иянов] не стоит того. Отвечаю Палимпсестову в восторженных выражениях благодарности и возгласах, что он истинно порядочный человек.
Еду к Акимовым. Вслушиваюсь у двери. — Дома. Но никого ещё нет. Я хотел подождать несколько минут на улице, чтобы кто-нибудь приехал. Выхожу за ворота. Подъезжают. Это она. её провожает Фогелев. Фогелев уезжает, она остаётся. Боже мой, как всё неосторожно! Я встречаю. Провожаю её по двору. «Палимпсестов истинно порядочный человек, вот что он мне написал. Я отдам вам, хотя бы не следовало отдавать». — «Но как же мы пойдём вместе?» — говорит она. — «Я взойду через несколько минут». Через несколько минут вхожу. Скоро является и Куприянов. «Это он?» — «Должно быть он». — «Как же он узнал, что я буду здесь?» — «Да вчера в театре он спрашивал, когда я буду,— я сказала, что завтра или после завтра». Ну, если бы я знал, что это он, конечно, я не сказал бы, что опасения и хлопоты излишни. Она во весь вечер почти не говорила со мною. Весьма много сидела с Купр[ияновым] у стола, который в гостиной подле окон. Я сидел большею частью с Павл. Вас, но от времени до времени подходил к ним. Видно было, что дело не клеится, что она весьма нелюбезна с ним. Я был спокойнее. Теперь она предупреждена, верно будет осторожна. Но тогда я не знал ещё всего её ума.
(Да, в рассуждении о её пороках: в субботу 28 февраля в квартире Палимпсестова, он сказал: «Конечно, можно кокетничать, но кокетство имеет свои пределы; она переходит эти пределы. Не будь она так умна, что никогда не позволит за[469]быться с нею, это было бы отвратительно». А, так вот ты сам хотя ты весьма ограниченный человек, всё-таки признаешь её ум — да и общий голос, что она весьма умна, даже дураки все понимают это,— тем более понимаю и ценю я.)
Однако этот вечер она отрезала волоса и у меня, и у Куприянова, которого я при [ней] дернул за волосы, т. е. [чтобы] перед собою одурачить, и он не нашёлся, что сделать, когда узнал, что это я, а не она; через несколько времени вырвал у неё бумажку с волосами, которые рассыпались по полу; она хотела спасти, но не могла; это мне было приятно, чтобы этот дурак и мерзавец не думал, наконец, что у неё есть его волосы.
Она весь вечер была со мною весьма нелюбезна, говорила больше с Купр[ияновым], говорила мне, что я ревнивец и что я хочу быть её дядькой, опекуном. Так что, наконец, Елена Вас. это заметила и сказала мне, что, верно, я поссорился с О. С., да и в самом деле под конец вечера я сделал какую-то глупость; конечно, нарочно, чтобы рассердить ее[427]; кажется, насильно хотел взять её под руку, чтобы пройтись по зале. Она показывала раздражённый вид. Наконец, я сказал (сказав по обыкновению, что я и теперь почти в руках у неё), что я хочу поговорить с нею серьёзно, и просил сказать, когда можно. «В пятницу»,— сказала она, и я готовился в пятницу сказать ей, то, что пишу в начале описания 19 числа (описывая свои намерения). Наконец, выходим. Моей лошади ещё нет. Я хочу идти пешком. Она садится вместе с Купр[ияновым]. Конечно, её провожает какая-то старуха Акимовых. Они трогаются с места. Тут в первый, кажется, раз в жизни я догадался, наконец, что должен сделать — они уже выехали из ворот. «О. С., позвольте мне сказать вам весьма важную вещь, всего два слова». — Останавливаются. Я подхожу и сажусь на облучок. Они сидели вдвоем с Купр[ияновым], старуха внизу на дне саней. «Ступай»,— кричу я. Что в самом деле вообразил бы себе Куприянов, если бы ехал один с нею? Да разве он и не решился бы на какую-нибудь дерзость? Ведь он дурак и свинья. Едем. Кучер не знает куда и везет мимо Патрикеевых. Она говорит с Куприяновым. Я вмешиваюсь в их разговор и выставляю Купр[иянова] в глупом виде, его разговор выставляю незанимательным, дурачу его, заставляю говорить с собою. Ну, где же ему бороться со мною, когда я хочу дурачить его? «Вы решительно мой дядька»,— говорит она; потом не говорит со мною, не отвечает на мои вопросы и т. д. Я нарочно всё обращаюсь к ней, зная, [470] что она не будет отвечать. Говорю различные пустые вещи, только бы говорить. У меня есть предчувствие, что она не в самом деле сердится на меня. Наконец, я говорю: «Говорите со мною или не говорите, это для меня всё равно. Неужели вы думаете, что это меня может бесить? Но всё-таки, если я ныне вёл себя глупо, я имею право на вашу благодарность. Один мой поступок ныне вы должны одобрить (это то, что я был для неё, для того, чтоб предупредить ее). Вы благодарны мне за это?» — «Благодарна». — «И не мне одному? — есть ещё человек, имеющий право на вашу благодарность (т. е. Палимпсестов),— вы благодарны и ему?» — «Да». Наконец, подъезжаем к их дому, ворота заперты. Она выходит из саней и подходит к калитке, опираясь на руку Купр[иянова], который, кажется, не прочь считать своё свидание с нею удачным. Я подхожу к калитке, когда она входит с ним. «О. С., дайте и мне руку в знак прощения». Она не отвечает ни слова и убегает. Я дружески прощаюсь с Куприяновым и иду пешком домой, из всего вечера довольный только тем, что проводил её, что она не ехала одна с Купр[ияновым]. Боже мой, я и теперь с огорчением вспоминаю, что было бы, если бы она поехала одна с ним. Эта скотина могла вообразить бог знает что. «Итак, всё-таки я был у Акимовых недаром»,— думал я.
После этого четверг. Теперь только некоторые вставки и начну свои размышления о ней и о себе и стану описывать свои впечатления.
Боже мой, как подробно описано! Всё, решительно всё с стенографическою подробностью! Никогда я не считал себя, способным к тому, чтобы до такой степени дорожить воспоминаниями, которые, наконец, так длинны! Ведь целых 44 простых и 10 двойных страниц! Да ещё всё старался быть как можно более кратким, только в описаниях двух вечеров давал себе полную волю! И всё-таки написал целых 64 страницы. Ведь это выйдет: 64 X 27 (строк) X 80 (буквы в строке) = 138 200 букв! Ведь это 140 страниц обыкновенной печати! ведь это, наконец, целая повесть. Вот плодовитый писатель! И всё это ещё не кончено. Начинаются размышления и впечатления, да будут ещё вставки. Господи, твоя воля! В самом деле дороги мне эти воспоминания! До воскресенья (когда, наконец, увижу её — уж я успел стосковаться!) ещё ведь испишу немало страниц! Ну, не ожидал от себя такой усидчивости!
Да мало ли чего я не ожидал от себя?
А вот теперь как превзошёл свои ожидания!
Ложусь. Завтра вставки и размышления.
Да будешь ты благословенна!
Ныне отдал переплетать Кольцова. Просил, чтобы переплели как можно лучше.
Да будешь ты счастлива, как ты того заслуживаешь!
Да будешь ты счастлива!
Этим хочу закончить: [471]
Да будешь ты счастлива, ты, давшая мне столько счастия. Ты, достойная счастья.
1. Почему Ольга Сократовна моя невеста
Сажусь писать свои замечания, размышления и т. д. 11 часов 4 марта, среда. Я в самом спокойном состоянии духа и не расположен совершенно к восторженности.
Итак, 1. Почему я в четверг 19 числа решился сказать ей, что если она не захочет выйти за другого, то может всегда выйти за меня?
Я чувствовал к ней сильную привязанность, это правда. Но чтоб уж тогда эту привязанность можно было назвать настоящей любовью, этого я не скажу. Действительно, это чувство было живо; но это была более потребность любить кого-нибудь, а не именно любовь к ней — именно потребность любить, видя некоторую возможность удовольствия, волновала моё сердце; это было то самое чувство, которое так часто в уединенных мечтах расширяло моё сердце, хотя не было ещё никакого предмета,— напр., в Петербурге, где я постоянно мечтал о счастии жениться и постоянно завидовал тем людям, которые могли жениться в первой молодости. Ведь я, главным образом, жалел и о том, что я в Саратове, потому что, живучи здесь, я потерял 2 года для приобретения себе возможности жить, т. е. содержать как должно жену.
Но и то правда, что я чувствовал к ней несравненно более сильную привязанность, чем, напр., к Кобылиной — какое же сравнение! То просто мысли в досужное время о хорошенькой девушке с весьма добрым сердцем, и — ещё более — девушке, которая хорошо одевается и живёт не в грязном (хотя довольно пошлом) кругу. Да и казалась ли она хорошенькой? Я постоянно сомневался в её красоте. В некоторых позах её лицо действительно красиво, но в иных позах оно мне решительно не нравилось. Но особенно моему желанию считать её очень хорошенькой мешало то, что её лицо очень часто имеет глупенькое выражение, т. е. на нём совершенное отсутствие мысли, когда оно не одушевлено детскою весёлостью. Мало того — слишком часто, почти постоянно, когда глаза её не блещут огнем детской радости, выражение её лица напоминало мне пошлое и прямо глупое выражение лица Ал. Фёд. Раева. И было постоянно совестно, что мне нравится ребёнок, потому что, наконец, она решительно дитя, мало того, что по летам, ещё более потому, что совершенно неразвита в умственном отношении. Кроме того, я чувствовал и совестился, что главным образом мне нравится в ней то, что они довольно роскошно живут и что она всегда хорошо одета, т. е. в дорогом платье и т. д. — это мне было решительно совестно. Поэтому, увидевши даже Патрикееву, я совершенно забыл о Кобылиной.
Почему же я думал суток двое после вечера на святках у Шапошниковых о Патрикеевой и с удовольствием любезничал с ней в первый вечер у Акимовых, т. е. 26 генваря? Главным образом [472] потому, что это была первая девушка, с которой я говорил смело, с которой я любезничал,— меня радовала моя смелость, моё любезничанье. Я думал не о ней, а о том, что я смело любезничал с нею.
Но как я увидел О. С., я решительно потерял всякую охоту смотреть на Патрикееву и говорить с ней, и если иногда говорил, то единственно из совестливости, чтобы не заставить её огорчиться моим слишком большим невниманием. Патрикеева даже не казалась мне хорошенькою. У неё нет в лице того глупенького выражения, как у Кобылиной, нет ни одной позы, в которой она абсолютно не нравилась бы, как есть такие позы у Кобылиной, но зато она решительно уж нехороша. Выражение её лица гораздо лучше, но черты лица гораздо хуже. И в 40 лет она не будет вовсе хороша. А теперь она недурна, главное особенно дурного в её лице нет ничего, но и хорошенькой может быть названа только потому, что у неё весьма молоденькое личико и что держится довольно свободно. Правда, что в ней нет ничего, что бы мне не нравилось, как в большей части других девиц; правда, что она лучше многих. Но зато ведь на тех я смотрю с решительно неприятным чувством, не любуюсь ими, а чувствую какую-то неприятность.
А О. С.? Во-первых, она решительно хороша собою, как мне показалась тогда — теперь я нахожу, что она красавица, и она в самом деле красавица. Но тогда мне показалась она просто весьма хорошенькою. И тогда уж готов я был сказать, что по чертам лица она гораздо лучше всех, кого я видел в Саратове — в Петербурге ведь я никого не видел (кроме той хорошенькой девушки на выставке и молоденькой хозяйки Ив. Вас. Писарева в Семёновском полку на вечере — но тех я видел слишком мельком и слишком издалека и только любовался ими, как картинками, никак не более. А дама в бель-этаже в опере на последнем представлении, когда я сидел в креслах? Уж это решительно только любовался и более ничего, ещё менее чего-нибудь другого, чем в тех двух случаях; всего этого нельзя даже сравнить с тем, как я любовался Кобылиной,— далеко ниже)[428]. Конечно, мне ничье лицо не нравилось так, как её лицо или, по-настоящему говоря, я, только глядя на неё, не чувствовал сомнения в том, что она действительно мне нравится, что она действительно хороша!
А она на самом деле хороша! в самом деле хороша! увлекательно хороша!
Но ещё более мне нравилась живость, бойкость, инициатива её характера и обращения. Не из неё надобно выспрашивать, она сама требует — это решительно необходимо при моём характере, [мне] который необходимо должен всегда дожидаться, чтоб им управляли, чтобы говорили: делай то-то и то-то, делай вот что; при моём характере, который решительно лишён всякой инициативы,— на этом-то и основано, что я решительно в душе, по сердцу, а не по одним умственным убеждениям демократ. Я всегда должен [473] слушаться и хочу слушаться того, что мне велят делать; я сам ничего не делаю и не могу делать — от меня должно требовать, и я сделаю всё, что только от меня потребуют; я должен быть подчиненным — как всегда и был, даже подчинен был людям, которых ставлю ниже себя, напр., Срезневскому, а не управляющим им; ведь, напр., и в классе я хотел бы говорить то, что хотят слушать ученики, хотел бы ставить такие отметки, какие должен ставить по их мнению. Так и в семействе я должен играть такую роль, какую обыкновенно играет жена, и у меня должна быть жена, которая была бы главою дома. А она именно такова. Это-то мне и нужно. Пусть мне говорит: живи так, ешь то, ложись тогда-то, поезжай со мной туда-то, купи то-то; пусть мне говорит: я хочу, чтоб образ нашей жизни был таков-то, чтоб наши деньги употреблялись так-то.
Да, у неё много характера. Я буду иметь, конечно, много влияния на неё, но она будет иметь на меня гораздо более. Что же выйдет? У меня характер мнительный, робкий, неуверенный в самом себе, поэтому постоянно наклонный к унылости, тоске. Если случается, что у меня гости и что они не придают своего направления разговору, у меня тотчас является унылость и вялость, скука и тоска. Но если в людях, с которыми я сижу, господствует какое-нибудь истинно определённое расположение духа, т. е. какая-нибудь живость и не тоскливость, я всегда поддаюсь ему и сам от души становлюсь жив и весел.
Такова именно она. Она разольет живость, веселье на нашу жизнь, и мы будем жить игриво, «припеваючи», именно припеваючи, с постоянною улыбкою и радостью в моём сердце.
Не дай бог, чтобы моя жена подчинялась моему расположению духа! Тогда у нас было бы страшное уныние и тоскливость. Напр., если б вроде Кат. Матв. Патрикеевой — она стала бы ходить повесив голову, как хожу я, если предоставлен сам себе,— тосклива б была наша жизнь. И она завяла бы, и я изныл бы, глядя на неё и на себя.
У неё именно такой характер, какой нужен для моего счастья и радости. Это одна из главнейших причин, по которой я хочу иметь своею женою именно её.
Какая завлекательность в обращении вследствие этого! Этой завлекательности нельзя противиться. Смело, бойко, решительно она овладевает тобою, и радостно идешь, куда ведёт она! И как является, бывало, напр., у Акимовых, кто царствует? Она, она царствует над всеми, она душа всех и всего, все смотрят на неё, все хотят говорить с ней, все думают о ней.
Для всех почти это кажется кокетством. Кокетство, может быть, и есть в ней, но его в сущности должно быть довольно мало, менее, чем в других. Нет, что она увлекает — делается без особого желания кокетничать с её стороны. Нет, в её характере то, что когда она держит себя совершенно непринуждённо, так, как её характер велит ей держать себя, она завлекает всех. [474]
Это вторая причина по моей программе.
3. — Чрезвычайная доброта сердца (много случаев, назову только два: кадриль с Сахаровым, чтоб его не огорчить, тогда, когда ей хотелось танцевать с Палимпсестовым, и то, что давала целовать руку Шапошникову у Чесн[оковых],— а со мной сколько раз эта доброта проявлялась! Постоянно, постоянно! Чрезвычайная мягкость характера, необыкновенная мягкость — решительно в ней нет упрямства, нет ни малейшего следа капризов.
И эта доброта, эта мягкость, это веселье при её тяжёлом несносном положении в семействе! Да, этот характер переработает меня, не поддастся моей наклонности к апатии, вялости, а сделает меня похожим на неё! А сколько случаев доброты со мной! Постоянно! Напр., хотя 5 кадриль в маскараде, которую хотела она танцевать с Веден[япиным]! Да разве я не делал постоянно выходки очень глупые, неловкие? Сердилась ли она на них? Разве я не держал себя весьма глупо, т. е. не пользовался случаями сидеть с ней, говорить с ней, какие она сама предлагала мне? Разве я не был весьма часто решительно глуп? bête? Разве я не постоянно вёл себя так, что ко мне шла поговорка: Si jeunesse savait?[429] A разве я не называл её постоянно кокеткою, большею частью весьма некстати, т. е. при людях, при которых это вовсе не следует говорить? Разве я не целовал её руку всегда весьма холодно, по принуждению, говоря, что это я делаю только потому, что она этого хочет? Разве мало и говорил я ей, и делал с нею такого, что решительно раздражало бы, оскорбляло бы всякую другую девушку? А тёплое, искреннее пожимание моей руки?
Боже мой, сколько в ней ума и такту! Боже мой, если б во мне была хоть сотая доля этого такту! Я говорю не про неловкость мою,— это само по себе, это другое — а про такт, которого я у себя нахожу более, чем у других!
Обошлась ли она, при всей странности, эксцентричности (не говорю уже о bêtise, глупости, недогадливости) моих поступков и моего характера, со мной хоть раз невпопад? Нет, нет! Всегда, всегда какая проницательность и какой такт! Ни разу ни одного слова, ни одного движения неудачного!
Но теперь я знаю её ум лучше, чем раньше. Она решительно умнее всех, кого только я ни видывал! Это гениальный ум! Это гениальный такт! Перед ней я чувствую себя почти так же, как в старые годы чувствовал себя перед Вас. Петр. в иные разы при разговорах о политике — вижу, что тут не я попираю других, а что надо мной могут, если захотят, посмеяться, потому что выше меня, потому что дальше и шире меня видят! Потому, что более взрослы, чем я, который всех считает или тупыми, или детьми перед собою.
Нужно только будет развить этот ум, этот такт серьёзными учёными беседами, и тогда посмотрим, не должен ли я буду сказать, [475] что у меня жена M–me Staël! И тогда посмотрю, кто будет иметь право сказать, что я принадлежу женщине, равной которой нет в истории! (Боже мой, это я пишу без восторженности, если угодно, холодно, а между тем пишу такие вещи, которые решительно для каждого смешны, по своей страшной самонадеянности, по своему страшному удивлению к ней! Но этого я не побоюсь думать! Нет, я буду гордиться ею и не буду сомневаться в основательности моей гордости!)
Прямота — она сама говорит, что у неё не может [быть] скрытности, что она вся наружу,— и это действительно так. Кто скажет, как она, на мой вопрос: «Но я должен сказать, что делаю это (говорю, что я её жених) только потому, что думаю, что делаю этим услугу вам?» — При её уме и проницательности она, конечно, видела, что держит меня совершенно в руках и что может заставить меня делать, что угодно, и вовсе не имеет необходимости отвечать на этот вопрос «да», чтобы удержать меня,— «почти» (Нет, мы говорим такие вещи, что должны говорить прямо, к чему это «почти» — говорите решительно. Боже мой, как это глупо! Боже мой, как это глупо, какая глупейшая несноснейшая навязчивость там, где и так ясно.) — «Если хотите, почти можно выпустить». — Ну, кто скажет это?
(Боже мой, как мне хочется видеться с ней — мало ли что нужно переговорить с ней,— но главным образом затем, чтобы спросить её, что ей во мне не нравится, чтобы постараться уничтожить в себе эти стороны.)
В ней чрезвычайное благородство, как следствие ума, доброты, мягкости сердца, деликатности, такта, прямоты, но, наконец, как дар природы. О, как много благородства! Оно во всем! И ни капли принудительности, притворства! Разве она сколько-нибудь изменила своё обращение с тех пор, как рассчитывает на меня? Разве она старается показать мне больше привязанности, чем в самом деле есть? Разве она оставляет мне хоть малейшее сомнение в том, что может быть влюблена в меня? «Вы мне нравитесь. Вы хороший человек. Вы умный человек». — Разве она притворяется чем-нибудь передо мной, чтоб больше завлечь меня?
Наконец,— отчасти следствие всего этого вместе,— решительное отсутствие пошлости, пошлости, которую вижу почти во всех, на кого смотрю с вниманием, кого считаю стоящим того, чтобы смотреть, есть ли в нём пошлость или нет! Нет, я никогда не мог взглянуть на неё свысока, как смотрю на Ник. Ив., как смотрю на Ан. Ник., не говоря уже о других (Евг. Ал. человек, не имеющий ничего блестящего, отличного — он просто человек, ограниченный человек). Например, хоть эти нежности, любезности — есть ли в них что-нибудь приторного? Что-нибудь отталкивающего, как, напр., в выражениях нежности Ник. Ив. или Анны Никаноровны? Под приторным я понимаю не притворное — в этих двух людях его нет, а что-то такое, что неприятно. Вообще, нежные чувства редко, весьма редко можно видеть без того, [476] чтобы, кроме радости, они не внушали какого-то неприятного чувства. У неё этого нет.
Ум, благородство, прямота! Нет, подобное ей существо едва ли найду я, если потеряю ее!
И какая рассудительность, осторожность при видимой чрезвычайной свободе! Т. е. она не хочет остерегаться почти никогда; но разве она позволяет себе что-нибудь в самом деле неосторожное? Как она всегда удерживает мою неосмотрительность!
Наши приехали из церкви. Иду вниз.
Одна половина программы кончена. После обеда другую.
Да будешь ты счастлива, как достойна того!
3 часа. Продолжаю.
Ей хочется избавиться от своих неприятных отношений к матери, которая её терпеть не может. Это вещь, которая описана у меня раньше. Вообще, как скоро человек в тяжёлом положении и я могу помочь ему, у меня рождается к нему любовь, и если это собственно от меня зависит, я всегда исполню всё, что он от меня потребует. Я говорю это не в похвальбу себе. Итак, это была одна из главных причин, по которой я согласился. Но если б я не чувствовал к ней слишком сильной привязанности раньше, собственно за её качества, а не за её положение, конечно, я бы не пожертвовал собою. Напр., для Кат. Матв. я никогда не решился [бы], хоть она весьма добрая девушка.
На меня чрезвычайно много подействовала её доверчивость ко мне. Верно она понимает мой характер и верно я кажусь ей хорошим человеком, честным, благородным человеком, если она решилась поступить так в отношении ко мне. А если она понимает меня так, как я в самом деле, и всё-таки решается выйти за меня, значит, она думает быть счастливой со мною. А ума и проницательности, чтобы понять, у неё слишком достанет. Достанет и расчётливости, рассудительности, чтобы не обмануться в своих соображениях о том, хороша ли будет её жизнь со мною. Но мне её доверие ко мне чрезвычайно льстит.
После [того], как я увидел глупость своей [первой] привязанности (впрочем, весьма пустой и слабой, привязанности, которая никогда не была даже достаточна, чтобы уверить меня в том, что она действительна, что она не обольщение праздной фантазии, чем она и была), потому что долго я не мог [бы] ей доставить средств жить так, как теперь она живёт, я обратился к мыслям, более достойным порядочного человека. Я сначала обольстился блеском, который окружает девицу, принадлежащую к семейству, живущему на широкую ногу. Но потом я увидел мелочность, пустоту этого чувства, вовсе недостойного порядочного или сколько-нибудь умного человека. Я понял, что для счастья в супружеской жизни, и особенно для счастья моего, необходимо, чтобы моя жена была решительно довольна своим положением,— я не могу видеть вокруг себя недовольных чем бы то ни было, тем более недовольных мною. Для довольства своим положением нужно, во–[477]первых, то, чтобы человек никогда не думал, что его положение (материальные условия для жизни) хуже того, чем могло бы быть. Следовательно, для счастья жены необходимо, чтоб она никогда не имела мысли о возможности найти себе лучшую партию, чем её муж. Говоря попросту, я пришёл к мысли, что никак не должен жениться на девушке, которая была бы по своему положению в обществе выше меня. Сначала, и почти до самого 15 или 16 февраля, во мне преобладала крайность, я хотел жениться не иначе, как на весьма нуждающейся девушке, на девушке, которая была бы весьма бедная и беспомощная, чтобы она всю жизнь радовалась и тому немногому довольству, каким бы пользовалась со мною и какого никогда не видывала раньше. Но когда я узнал О. С., эта мысль у меня ослабела. «Если б можно было жениться на ней»,— думал я. «Но она может составить лучшую партию»,— думал я. «Я не вправе делать ей предложение; может быть она, не осмотревшись хорошенько, ослепленная моею любовью, и согласилась бы, но как я буду лишать её лучшего жребия?»
Но вот она сама выбирает меня — если так, я счастлив.
Хорошо. Это всё равно, материальная ли или нравственная невыгодность положения заставляет считать девушку жизнь со мной несравненно выше, чем её прежняя жизнь. Всё-таки остаётся сущность моего образа мыслей, остаётся [не] нарушенным основное правило, которое я поставил себе законом для женитьбы: выйти за меня замуж кажется ей не потерею, а выигрышем. Она настолько умна и рассудительна и тверда, что не раскается в этом предпочтении. Хорошо. Я спокоен. Моя совесть чиста. Я могу без упрёка себе предаться своему увлечению. «Ты говоришь, что для тебя жить со мною лучше, чем жить теперь. Я счастлив, что мои надежды на счастье с тобою встречаются с твоими мыслями о счастьи со мною». «Я не обманываю тебя, я не лишаю тебя ничего такого, о чём бы ты могла пожалеть после. Хорошо. Ты можешь располагать мною; я сам не смел бы никогда дерзнуть на это, чтобы не ослепить, не обольстить тебя, своим пламенным языком не заставить тебя забыть о расчётах, про забвение которых ты могла бы пожалеть впоследствии. Я счастлив тем, что ты рассчитала и видишь, что не будешь жалеть о том, что осчастливила меня».
Я могу без упрёка совести стать твоим мужем. А могу ли, я без упрёка совести отказаться от этого счастья? Нет. Я бы стал вечно говорить себе: «Ты мог помочь и не решился помочь, когда требовали твоей помощи. Ты подлец, ты трус, ты мерзавец, tu es lâche — низкий, гадкий, трусливый, подлый человек.
Я принял вызов наслажденья, как вызов битвы принял бы («Егип. ночи» Пушкина).
Отказаться было бы вечным позором для меня. Я навеки потерял бы возможность уважать себя. [478]
Я навеки остался б заклеймен презрением в своих глазах. Я был бы несчастлив, я мучился бы собственным презрением. Я не мог не поступить так, как поступаю.
А советоваться с родными? Есть случаи, в которых никто не должен спрашивать ничьего совета. Это те случаи, когда чувствуешь себя обязанным сделать так, а не иначе. Если они будут согласны — лишнее спрашивать их; если бы не согласились — я потерял бы право спрашивать их совета, потому что не послушался бы его.
А если они не согласятся теперь потому, что она покажется им слишком ветрена? Об этом будет речь после. Вот кратко мои мысли: «Вот какова она по моему убеждению. Вы не убеждаетесь, что она такова в самом деле, потому что мне кажется такою. Вы не доверяете мне? Что ж я за человек после этого? Мне лучше не жить. Я решительно спокоен. Даю вам столько-то времени на размышление. Если вы не согласитесь, я убью себя, потому что лучше умереть, чем быть человеком бесчестным и бесхарактерным. Лучше, умереть, чем отказаться от счастья». И они согласятся, потому что я буду говорить совершенно спокойно и они увидят, что я сдержу слово. А если не согласятся? Я действительно убью себя. Убью и только. Я не переживу своего бесчестия, но я умру всё-таки бесчестным, потому что связал себя обещанием, которое выполнить не в состоянии. Но к чему я говорю вздор? Разве папенька и маменька будут в самом деле противиться? Не думаю, не ожидаю этого. Много-много, если им не совсем приятно будет согласиться, но наверное согласятся, не доводя меня до таких угроз. Я, если нужно, я спокойно сдержу свои угрозы. Маменька не переживёт моего самоубийства. Жаль. Но зачем же была так самонадеянна, так малодоверчива ко мне, что довела меня до этого. Зачем поставила меня в такое положение? Мне горько будет убить её, ещё более горько будет то, что, взявши на себя обещание выше моих сил, я связал на несколько времени О. Сокр. — но что же делать? Ссориться я не могу, умереть я могу. А если они скажут: «Дай раньше узнать ее?» — «Нет, нечего узнавать, я её знаю, жить с ней мне, а не вам. Если я такой дурак, что даже в этом деле нельзя предоставить меня собственной воле, куда же я гожусь? Да или нет, и через час или вы поедете знакомиться с родными моей невесты, или я убью себя». Это я сделаю. Это для меня вовсе нетрудно даже. Это в моём характере.
Во мне, говорят Николай Иванович и Анна Никаноровна, мало фантазии — вот вам доказательство на бумаге, какой я фантазёр. Ведь серьёзно обдумываю, как поступить в таком случае, который решительно невозможно ожидать. Ведь решительное сопротивление моих родных решительно невероятно. А я всё-таки принимаю его в расчёт серьёзно и уже обдумал всё. Жаль, что не припас ещё завещания. Я смеюсь над своими глупыми опасениями. Но если б, против всякой возможности, случилось так, как [479] представляет мне возможным моя необузданная фантазия, конечно, я совершенно хладнокровно поступил бы так, как думаю поступить. Теперь только одно колебание — выбор рода смерти. Вероятно (о, какой положительный человек! — сам любуюсь на свою нелепую фантазию), запасусь к тому времени ядом. Если яда не успею запасти, думаю, что лучше всего будет разрезать себе жилы. Однако, предварительно прочитав, как древние поступали в этом случае, напр., Сенека. Если не успею получить положительных сведений, чтобы успех открытия [жил] был несомненен, зарежусь чем-нибудь, только не бритвою, потому что это слишком неверно. А убить себя всё-таки убью. Если понадобится, конечно. Уж это верно. Одним словом —
Что мне крепкий замок, Караул, ворота? (в переводе — несогласие родных). Не любивши тебя, В селах слыл молодцом, А с тобою, мой друг, Мне и жизнь нипочем.
Смешно. А пишу совершенно серьёзно. Знаю, что сопротивление невозможно. А уж приготовился к нему и знаю, что сделаю, если оно будет. Но, само собою разумеется, глупо ожидать его.
Ну, такого смешного, нелепого (и вместе такого несомненного в случае возможности сопротивления, т. е. возможности невозможного) эпизода не найдется, вероятно, в моей памяти[430].
Продолжаю. Я не могу отказаться. Это было бы бесчестно. Я бы покрылся позором в своих глазах.
Мало того. Я бы мучился сознанием своего бессилия решиться на что-нибудь. «Не посмел, не посмел, подлец, принять счастья, не спросив папеньки и маменьки; не посмел решиться на своё счастье, потому что это важный шаг — а, да ты, действительно, такая дрянь, какою считал себя! Ты, братец, ни на что не способен! Славная ты, братец, тряпка! Вот уж истинный Гамлет».
Я, действительно, тогда стал бы Гамлетом в своих глазах, мысль, которая и без того уж постоянно меня мучила. Тогда я навек не освободился бы от неё. Теперь я спокоен. Теперь я чувствую себя человеком, который в случае нужды может решиться, может действовать, а не существом из числа тех крыс, которые собирались привязывать звонок на шею коту.
О, как мучила меня мысль о том, что я Гамлет! Теперь вижу, что нет; вижу, что я тоже человек, как другие; правда, не так много имеющий характера, как бы желал иметь, но всё-таки человек не совсем без воли, одним словом человек, а не совершенная дрянь.
Меня мучило бы (если б я поступил не так, как поступил 19 февраля[431], в четверг) и то, что я поступил с таким благородным существом, как О. С., неделикатно, грубо, негуманно, что я человек бесчувственный. Как тяжело ей должно было поставить [480] меня в такое положение, как она поставила меня! Как дорого это усилие должно было ей стоить! А я всё-таки не пожалел её, не тронулся её положением! Разве не тяжёл ей был вызов? Значит, я должен был принять его, если во мне есть хоть сколько-нибудь способности сочувствовать тяжёлому положению; значит, положение тяжёлое, когда она решается на такие вещи! Я не тронулся этим? Да после этого я был бы скотина, свинья! Да после этого я не мог бы никак не быть убеждён в том, что я деревянный человек, что я бесчувственный человек, что я поступил по-свински, что я бесчувственная скотина.
(Иду вниз к маменьке. Там, конечно, буду делать дело. Именно, поправлять свои цифры в словаре.) (Продолжаю в 10½ часов.)
[2.] Почему я должен иметь невесту?
Мне жаль её, мне совестно перед собою не дать руки, которую хотели взять, чтобы выйти из пропасти.
Да, что ж, наконец, я делаю здесь? И до каких пор это будет продолжаться? Жить здесь — значит терять свою карьеру. Будет ли у меня довольно сил, чтобы вырваться отсюда? Два года, которые я прожил здесь, в течение которых я два раза собирался решительно уехать и всё-таки не уехал — почему, это другое дело — отчасти по апатии, отчасти из сожаления оставить маменьку — доказали, что у меня нет решимости уехать отсюда, если меня не принудят обстоятельства. А какие обстоятельства, кроме женитьбы, могут заставить меня сделать это? Здесь я жить женатый не могу, во-первых, потому, что никогда не буду иметь средства к жизни — на 1 400 р. не проживешь; во-вторых, потому, что я здесь буду всегда в зависимости от маменьки или должен буду постоянно иметь неприятности с ней, потому что её мысли об образе жизни вообще, тем более об отношениях семейной жизни, решительно не сходятся с моими; нет, довольно и того, что я живу в подчинении, но чтоб моя жена должна была подчиняться кому-нибудь, т. е. чтоб я стал подчиняться кому-нибудь в своих отношениях к жене, т. е. в повиновении ей, а моя жена подчинялась кому-нибудь и чему-нибудь в образе своей жизни — нет, это уже слишком. Да и может ли она поладить здесь с маменькой? Нет, потому что не она будет главою семейства. Другое дело, если маменька приедет жить с нами в Петербург,— весьма рад, потому что там она будет гостья, будет пользоваться всем уважением, всякою предупредительностью от нас, а мы, т. е. моя жена будет главою дома. Одним словом, здесь жить женатый я не могу. А я должен, я хочу жениться. Следовательно, уж по одному этому я должен ехать в Петербург. А моя карьера? Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений с перспективою быть асессором? Как бы то ни было, а всё-таки у меня настолько самолюбия ещё есть, что это для меня убийственно. Нет, я дол[481]жен поскорее уехать в Петербург. А я не могу ехать, если обстоятельства меня не заставят. Какие же обстоятельства? Служебные? Я уверен, что меня не вытеснят, а я скорее поставлю всех вверх дном и останусь, если уж на то пошло. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что принудил меня к тому-то, тем более мой начальник, что мог меня вытеснить. Нет, я слишком самолюбив, чтобы позволить так повернуться делам. Остаётся одно — приобретение возможности жениться. Да не просто в части возможности жениться, а по необходимости жениться. Мысль о женитьбе только тогда подействует на меня, когда я буду думать не «я хочу жениться», а когда я буду знать, что я должен жениться, что мне уж нельзя не жениться, одним словом, когда я буду не человеком, который думает жениться, а когда я буду женихом. Когда же я буду женихом? Если не стану теперь, если не стану женихом О. С., когда же и чьим же женихом я буду? (об этом после). Итак, я должен стать женихом, чтобы уехать отсюда; без этого у меня не достанет сил уехать отсюда, покинуть маменьку. Я должен уехать. Без этого одного уж я несчастлив на всю жизнь. Итак, я должен стать женихом О. С., чтобы получить силу действовать, иначе —
На путь по душе Крепкой воли мне нет.
Ну, хорошо. Если бы даже я уехал отсюда? Я уж испытал прелесть отношений с девицами через отношения к О. С. Эта прелесть уже увлекала меня. И вот что я буду делать в Петербурге? Я должен скоро и решительно, не развлекаясь ничем, устраивать свои дела. А если я явлюсь в Петербург не женихом, я буду увлекаем в женское общество своею потребностью; что же выйдет? То, что я буду заниматься двумя делами — работою и женским обществом, если угодно — волокитством и мыслию о волокитстве, т. е. это у меня будет не волокитство, а потребность любви и отыскивание любви. И любовь помешает работе. Да ещё на меня станут иметь виды господа, имеющие дочерей и т. п. Устою ли я против их увлечений, сам увлекаясь своим сердцем? Нет. И я буду гоняться за двумя зайцами, и одного — работу — упущу. Да и какой мой характер? Разве я не бездельничаю вообще всё время, когда мне нет решительной необходимости работать? Следовательно, у меня должна быть необходимость работать и окончить, устроить свои дела быстро и скоро. Что ж может заставить меня работать, не теряя времени? Только одно: «Я имею невесту, которая ждёт меня, и должен поскорее устроить свои дела так, чтобы она была моею женою». Кроме этого я ничего не вижу, что бы могло меня заставить не терять времени в пустых работах. Настояния со стороны, напр., Срезневского? Э, боже мой, да я у него могу нахватать разных сотрудничеств, так что мои собственные дела будут постоянно отлагаться. Да, он бы настаивал, а я пошёл тянуть. Я не могу кончить работы [482] иначе как тогда, если мне дан срок, к которому я должен её кончить; так, напр., и мой словарь никогда не был бы отделан, если бы не решительная мысль ехать в Петербург в декабре. А уехал ли я? Нет. Итак, я должен быть женихом. Вот невеста. Если уж этот случай не будет схвачен мною, какой может быть другой случай, столь прекрасный, столь счастливый, столь понудительный?
Хорошо. Я, положим, поеду в Петербург. Там года два не устрою своих дел, как должно, если не буду принужден к этому необходимостью. В эти два года я постарею много, истрачу лучший пыл сердца, сделаюсь расчётливее в выборе. Да и кто мне понравится после неё? И вот сколько лет пройдёт у меня! Бог знает сколько! И вот мне 32 года, и вот я должен жениться на 25-летней отцветшей девушке, и вот мне 50 лет, а мои старшие дети ещё мальчики, ещё девочки. А я хочу свежей любви, а я хочу долго любоваться, наслаждаться молодостью жены. Да и какие девицы в Петербурге? Вялые, бледные, как петербургский климат, как петербургское небо. Нет, я не хочу их. Да у них будет семейство тут, да у моей жены, если она из Петербурга, будут различного рода матери, тётки, братцы и т. д. — я их не хочу. Я не хочу, чтоб [у] нас был кто-нибудь, кроме меня и моей жены, чтобы ей надували в уши, что обыкновенно надувают в уши г-жи родственницы. Нет, моя невеста должна быть не из Петербурга.
Если не женюсь теперь, на ней,— когда же? Бог знает когда, вероятнее всего — никогда. Чтобы я женился, нужно подобный случай. А подобный случай требует подобной девицы. Найдется ли ещё хоть одна такая на моём пути? Что же? Я должен буду отыскивать в Петербурге бледную, вялую, золотушную, чахоточную красавицу. Или ехать в качестве кандидата в женихи в Саратов? Господи боже мой! Что это за чепуха! Я не должен опускать этого чудесного случая. Не должен, или я погиб. И я беру и благословляю руку, которая так доверчиво, так счастливо для меня протянута ко мне. Не найти мне подобной руки! Беру её, благословляю ее!
О, да будешь ты благословенна, да будешь ты счастлива!
(Это всё писано в среду 4 марта)
Продолжение. Пишу 5 марта в 12½ час. утра.
Мне должно жениться уже и потому, что через это я из ребёнка, каков я теперь, сделаюсь человеком. Исчезнет тогда моя робость, застенчивость и т. д.
Наконец, мне должно жениться, чтобы стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою. Иначе почем знать? Разве я не рискну? Должна быть какая-то защита против демократи[483]ческого, против революционного направления, и этою защитою ничто не может быть, кроме мысли о жене.
Итак, я должен необходимо жениться.
Должен ли я жениться на ней?
Об этом я уж говорил с одной стороны, с той стороны, что я и раньше нашего разговора в четверг 19 февраля чувствовал к ней сильную привязанность и думал, что для моего счастья необходима такая жена, как она.
Что будет, если я не женюсь на ней? Я никогда не смогу найти такого прекрасного существа, как она; мой выбор будет всегда несравненно хуже, чем тот счастливый случай, который представляется мне теперь. Потому что я знаю, что у меня нет ни довольно проницательности, ни довольно опытности, чтобы предохранить себя от хитростей, обмана, наконец, самообольщения. Где мне искать, где кому-нибудь найти такую девушку? Такую чистую, такую благородную, такую умную, такую красавицу? Кто лучше её из тех, которых называют здесь красавицами? Я во всяком случае не знаю, и верно никто мне не будет так нравиться.
Наконец, у меня есть ещё одно желание — фантастическое желание, это может быть, но глубокое, давно уже зародившееся и всё делающееся более и более сильным желание — не желание даже, а глубокая потребность, основанная на всем моём характере.
Я хочу любить только одну во всю жизнь.
Я не хочу, чтобы у меня были о ком-нибудь какие-нибудь воспоминания, кроме как о моей жене.
Я хочу, чтобы моё сердце не только после брака, но и раньше брака не принадлежало никому кроме той, которая будет моей женой.
Кроме того я хочу поступить в обладание своей жене, и телом не принадлежав ни одной женщине, кроме неё. Я хочу жениться девственным и телом, как будет девственна моя невеста; для этого я должен жениться скорее, потому что я слишком долго не могу удержаться целомудренным; я не хочу прикасаться к женщине, кроме своей жены. Поэтому уж я должен не медлить женитьбою.
А что теперь? Как ни говори, как ни уверяй себя, что то, что я чувствую к ней, ещё [не] любовь,— всё-таки это любовь.
Да не в названии дело, дело в том, что глубже чувства, которое внушает она мне, я не испытывал, и что это чувство так глубоко, что воспоминание о нём никогда не пропадёт из моего сердца. И в объятиях жены, если это будет не она, я буду припоминать: «А было время, моё сердце принадлежало другой! Друг мой, я не всю свою жизнь, не всю свою душу отдал тебе! Часть жизни моей души принадлежит не тебе! Не ты моя первая любовь». Это будет мне мучительно. Я буду ревновать себя за свою жену к О. С., к моей первой любви. Я этого не хочу. Пусть у меня будет одна любовь. Второй любви я не хочу. [484]
Всё это весьма идеально, может быть весьма смешно, но что ж делать? Мало ли есть в моём характере такого, что для других должно казаться смешным и от чего всё-таки я не могу и не хочу освободиться.
Так, так, будь ты моей единственной любовью, если только это возможно, если только ты согласна!
(Должен сказать, что я пишу это нисколько не разгоряченный,— да и от чего мне разгорячаться? Уж шестой день, как я не видел её, а что теперь имеет на меня какое-нибудь влияние, кроме её присутствия?)
Итак, я люблю её. Я не надеюсь найти другую, к которой бы и мог так сильно привязаться; я даже не могу представить себе, никак не могу представить себе, чтобы могло быть существо более по моему характеру, более по моему сердцу, чтобы какой бы то ни было идеал был выше её. Она мой идеал, или скажу просто: я не в состоянии представить себе идеала, который был бы выше её, я не могу даже вообразить себе ничего выше, лучше её. Она мой идеал, но идеал не потому, чтобы я идеально смотрел на неё: я вижу её, как она есть, я не украшаю её в моём воображении, нет — потому что в ней всё, что может быть лучшего, всё, что может пленять, обворожать, заставить биться радостью и счастьем моё сердце.
Это женщина, с которою я буду счастлив, как только могу быть счастлив от женщины. В ней моё счастье, в ней.
Она выбирает меня — значит, она думает найти во мне своё счастье. Это всего важнее, без этого я никогда [бы] не решился для своего счастия рисковать её счастием. Она думает быть счастлива со мною — хорошо; если так, я [не] колеблюсь.
Потому что у меня одно колебание: будешь ли ты счастлива со мною; что я буду счастлив с тобою, об этом нечего и толковать, как нечего толковать о том, что днём на небе бывает солнышко.
Вот мои мысли (конечно, кроме мысли, что она выберет меня, примет мою руку) при начале разговора с ней. Я не сознавал ясно, но я чувствовал ясно, что мой разговор, к которому я готовился в пятницу и который я начал в четверг, кончится с моей стороны тем, что я сделаю ей предложение.
Я хотел его сделать, я готовился к нему.
Но раньше я должен был, как честный человек, высказать ей мои сомнения в том, должна ли она соединить свою судьбу с моею.
Я сделал это. Потому что — как угодно, а в сущности я честный человек, и я правду говорю, когда говорю перед собою и повторяю ей:
Твое счастие для меня дороже моей любви.
Тяжело было для меня говорить так, как я говорил с нею. Вместо любви, вместо восторга, вместо языка жениха — язык человека, который говорит: пожалуйста не решайтесь выходить за меня замуж! [485]
Чем бы это могло кончиться? Этот разговор мог бы быть смертным приговором для моего счастья.
Но я всё-таки начал этот разговор и высказал всё, что должен был высказать.
Я поступил, как честный человек.
И она выслушала этот грубый язык, она выслушала его и поняла мои речи в их истинном смысле, не оттолкнула меня за мой грубый совет «откажитесь от мысли быть моей женой».
Она поняла, что я говорю, как честный человек, что я говорю это не для того, чтобы мне хотелось заставить её оттолкнуть меня,— что было бы тогда со мною, я не знаю,— а потому, что я должен был сказать ей, за кого она выходит.
Она поняла, что я не ломаюсь, что я говорю искренно, по чувству обязанности сказать всё, а не потому, чтоб хотел отказаться от её руки. Кто б понял это? Она поняла!
Кто б не оскорбился этим? Она не оскорбилась!
О, как это возвысило моё уважение к ней! О, как это возвысило мою уверенность в том, что я буду счастлив с нею и что она не будет несчастна со мною!
Я не знаю равной тебе! Ты согласна — я счастлив!
Да будешь ты счастлива!
Да будет у меня одно счастие в жизни — счастие тем, что ты счастлива!
Моя жизнь будет посвящена твоему счастию.
Я пишу это совершенно холодно. Я теперь далек от всякой экзальтации,от всякого преувеличения. Я спокоен, я говорю мысль, которая никогда не покинет меня, потому что она имеет источником мой характер и моё знание себя, а не какую-нибудь горячность.
Я рассуждаю о моих чувствах, я теперь не увлекаюсь ими.
Насколько твое счастие зависит от меня, от моих сил, от моей безграничной преданности, ты будешь счастлива!
5½ час. вечера, 5 марта, четверг.
Начинаю писать свои размышления о ней.
Первый, самый главный, единственный вопрос, от которого разрешения зависит моё счастие, это вопрос, которого я стыжусь.
Не играет ли только мною она? Я решительно говорю: нет.
Но я человек мнительный и должен записать свои сомнения. Чтоб и впоследствии мог бы видеть, что я не увлёкся, не ослепился, а действовал по совести и рассудку, конечно движимый сильным, глубоким, нежным, но вовсе не слепым чувством.
Я пишу их и из ненависти к этой глупой стороне моего характера — мнительности, робости, опасению встретить противодействия, несчастия, горе, неприятности там, где их вовсе нет и не может быть. Эта сторона моего характера должна быть безжа[486]лостно казнена, и я казню её страшным образом, выставляю на неизгладимый позор этим записыванием.
Стыдись, малодушный (вот истинное название для меня)!.. Стыдись, малодушный, своего глупого малодушия — вот оно выставляется тебе самому на показ, чтоб ты мог после, когда будешь продолжать борьбу с этою гнуснейшею, подлейшею, наконец, вреднейшею стороною своего характера, который, скажу без самохвальства, был бы безукоризнен, если бы в нём не было этой стороны,— чтоб тогда ты мог видеть её на бумаге неизгладимо заклейменною тем самым, что она выставлена целиком, как есть, без всяких прикрас и преувеличений. — Ты увидишь её, и она будет поражена всякий раз, как ты посмотришь на её изображение во всей её гнусности.
Мне тяжело,— о, как тяжело писать то, что я буду писать,— но я напишу всё. Я казню себя тем, что пишу. Я не щажу никогда никого, потому что озлоблен против себя тем, что во мне есть такая гнусность; тем более не пощажу своей гнусности, этого источника моего ожесточения.
Пусть, когда рассеются мои глупые сомнения, когда мне придёт охота отказаться от них, у меня на бумаге [останется] неизменное доказательство того, как я был глуп со своими опасениями, и тогда я буду всегда иметь право сказать себе, если бы начались снова подобные опасения: Посмотри, как был ты глуп — ты и теперь будешь так же глуп, если не подавишь своих глупых сомнений.
Сомнения были во мне — не против неё — нет; в отношении к ней у меня не было сомнений, не было подозрений, оттого что она слишком благородна и пряма, чтобы у неё могли быть от меня тайны, когда она увидела, что со мной не нужно иметь тайн. Нет, не против неё, а сомнения относительно моих житейских, служебных, литературных, политических отношений. Сомнения против неё — они и теперь нелепы; я и теперь не обращаю внимания на них, а после, если я буду так счастлив, что блаженство жить для неё будет моим уделом,— после у нас не будет никаких недоразумений; я буду знать о её жизни, о её чувствах ко мне и к другим, о всех её отношениях всё, что заслуживает быть известным, всё, что имеет хоть малейшую важность для меня или для неё.
Опять какой горячий язык,— а ведь я пишу совершенно спокойно! Я пишу так же спокойно, как говорю: «Солнце освещает землю» — что ж делать, что о солнце нельзя не употреблять сильных выражений, как бы спокойно ни говорил о нём; что же делать, что о ней нельзя не писать величественных, торжественных мыслей, как бы холодно ни писал. Она сама виновата в том, что самые спокойные, холодные размышления о ней, излагаясь как нельзя проще и спокойнее, всё-таки имеют какой-то возвышенный характер. О возвышенном самые холодные мысли возвышенны. [487]
Играет ли она мною? И я думаю это! Нет, я не думаю это, а в моей малодушной гнусной фантазии есть гнусные эти мысли, и я их выдаю на позор.
Может быть,— клевещет на неё моё необузданное малодушие,— она просто видит в тебе простяка, который без памяти влюблён в неё и с которым она может делать, что ей угодно — ведь это дар божий! Ей хочется выйти замуж. Она имеет надежды, что, может быть, посватает её кто-нибудь, кто кажется ей лучше тебя, напр. Палимпсестов. Но как девушка весьма умная, видит, что это не легко; может быть это будет, может быть это и не будет. А ей хочется выйти замуж поскорее. Ну, вот она и взяла тебя про запас — будет приискивать себе женихов, увидит, что нет возможности выйти ни за кого, кроме тебя,— «ну, нечего делать, пойду за этого глупенького простячка»,— ведь ей весьма несносно жить в доме — «он всё-таки избавит меня от матери, а там, когда выйду за него, посмотрим, что будет».
Низко, брат, низко, стыдись этих мыслей.
Иду пить чай. Буду продолжать по возвращении.
Продолжаю 6 марта, пятница, 9 часов утра.
«Плохо, если не найду никого; нечего делать, тогда пойду за этого простячка. Он мне вовсе не нравится. Что ж такого? Можно будет жить и с ним, потому что он будет моим лакеем. Я буду им управлять. Он мне не будет мешать ни в чём, я с тем и пойду, и так буду держать его, чтобы он не смел ревновать и, одним словом, всё-таки жить с послушным мужем лучше, чем жить с нетерпящею меня матерью». (Это я хватил уже чересчур — я излагаю в этих строках свои сомнения яснее и резче, чем они представляются мне.)
Итак, я игрушка её, я запасной дворянин, я лицо, о котором говорится в пословице: «за неимением маркитанта служит и булочник»[432].
Но положим, что, наконец, и не найдется другого жениха. Она выйдет за меня. Что тогда будет? Она будет вести себя так, как ей вздумается. Окружит себя в Петербурге самою блестящею молодёжью, какая только будет доступна ей по моему положению и по её знакомствам, и будет себе с ними любезничать, кокетничать; наконец, найдутся и такие люди, которые заставят её перейти границы простого кокетства. Сначала она будет остерегаться меня, недоверять мне, но потом, когда увидит мой характер, будет делать всё, не скрываясь. Сначала я сильно погорюю о том, что она любит не меня, потом привыкну к этому положению, у меня явится résignation[433], и я буду жалеть только о том, что моя привязанность пропадает неоцененная, т. е. знать её она будет, но будет считать [488] её не следствием нежности и привязанности и моих убеждений о праве сердца быть всегда свободным, а следствием моей глупости, моей ослиной влюблённости. И у меня общего с ней будет только то, что мы будем жить в одной квартире и она будет располагать моими доходами.
Я перестану на это время любить её. У меня будет самое грустное расположение духа. Но быть совершенно в распоряжении у неё я не перестану. Только в одном стану я тогда независим от неё: некоторою частью денег я буду располагать сам, не передавая их ей — буду употреблять её на посылки и подарки своим родным. Что будет после? Может быть ей надоест волокитство, и она возвратится к соблюдению того, что называется супружескими обязанностями, и мы будем жить без взаимной холодности, может быть даже, когда ей надоедят легкомысленные привязанности, она почувствует некоторую привязанность ко мне, и тогда я снова буду любить её, как люблю теперь.
Ну, это до крайности нелепо. Эти мысли оскорбительны для неё, недостойны меня. Я знаю, что они глупы, совершенно ложны. Что этого никогда не будет. Будет она любить меня или просто будет чувствовать только некоторую благодарность мне за мою привязанность, но вертопрашничать она не будет. Но если бы я был решительно уверен, что так будет — что бы я сделал? Я знал бы, что через брак с ней буду несчастлив, но я не отступил [бы] от своего обязательства, и если бы даже она сама мне сказала: «Я выхожу за тебя только для того, чтобы пользоваться совершенною свободою делать, что мне угодно, любезничать со всеми, с кем захочу»,— я всё-таки сказал бы: «Как вам угодно, так и живите, я сказал, что повенчаюсь на вас, и прошу вас ехать в церковь венчаться. Пусть будет, что будет. Я готов на всё. Вам угодно, чтобы я был вашим мужем — я готов. Вы будете моею женою и будете совершенно свободны».
Из чего же возникают мои сомнения? Из моего характера прежде всего. Мне нужны слишком ясные доказательства, что мною не пренебрегают, что я не надоел, что я не противен. Мне всегда кажется, когда, напр., я сижу у кого-нибудь или кто-нибудь сидит у меня, что он со мною скучает, что я пришёл не во-время и т. д. Мне трудно убедиться в том, что я на своём месте, что я в хороших отношениях к кому-нибудь. Но этот повод скоро уничтожится, если она в самом деле будет привязана ко мне. Напр., убедился же я, что Николаю Ивановичу я не мешаю, что он не пренебрегает мною; точно так же и относительно Евгения Александровича, Чеснокова, Малышева и т. д. Следовательно, за это нечего бояться, это пройдёт весьма скоро, вероятно, раньше моего отъезда в Петербург весною.
Другой источник — мне говорят (Палимпсестов): «Она истаскана (конечно, сердцем), она растеряла свои чувства и уже неспособна любить». Это и теперь на меня не действует, потому что [489] я ставлю себя выше других и их мнения для меня не имеют никакого весу. Я способнее, чем они, понимать таких людей, как О. С.; странно было бы, если бы религиозные мнения Николая Ивановича или Анны Никаноровны имели хотя малейшее действие на меня. — я выше по ясности взгляда, я лучше их понимаю эти вещи, и что они говорят мне, заставляет меня только одобрительно улыбаться: «Друзья мои, вы ничего тут не понимаете, вы городите страшную чепуху». То же самое, только в гораздо большей степени, и с этими толками о том, что она истаскана, что она растратила чувство. «Милые мои, вы говорите благородно, предупреждая меня, что вам кажется вот как. Но вы в сущности люди с грязною душою, вы не можете понимать, что такое за разница между любезничаньем, которое не касается до сердца, и между сердечною привязанностью. Вы неспособны понимать её. Неужели вам кажется, что она любит кого-нибудь из тех, с кем любезничает, кому кружила головы? Если хотите, она любит так, как любит, напр., тебя, мой милый Фёдор Устинович, Елена Васильевна Акимова — но вот видите, О. С. решительно другой человек — её сердце не истощено этими чувствами, она гораздо выше, и её сердце остаётся совершенно девственным. её любовь ещё впереди. Меня она полюбит или другого, я не знаю. Может быть и не найдет она человека, которого полюбила бы истинною любовью, который бы занял место, в самом деле, в её сердце. Но дело в том, что её сердце до сих пор ещё девственно. И что касается, напр., до тебя, мой милый, мой благородный друг, Фёдор Устинович, ты не можешь себе представить, как мне смешно было слушать, когда ты говорил, что Елена Васильевна тебе нравится, а О. С. не может нравиться, что у Ел. Вас. милое кокетство, а у О. С. кокетство, которое было бы отвратительно, если бы она не была так умна, и что в Ел. Вас. ты был влюблён, а О. С. никак не могла тебе нравиться; это, мой милый, препотешно было мне слушать после того, как ты говорил о том, что у О. С. истощённое сердце, а у нас с тобою девственное сердце; нелепо, мой милый, потому что, во-первых, напрасно, значит, ты говоришь о девственности своего сердца: ты, мой милый, не понимаешь, что такое девственность сердца; но ещё потешнее видеть, что ты не понимаешь разницы между Ел. Вас, пустенькой, глупенькой и поэтому пошленькой девчонкою, которая была и будет пошленькой вертопрашницею, и между таким возвышенным существом, как О. С., существом с такою глубокою и благородною натурою. Смешно (и в самом деле мне было смешно, хотя мне вовсе не до смеха, как скоро дело касается отношений и чувств О. С. ко мне), весьма смешно! Дай тебе бог здоровья, ты честный человек, но — извини — ты решительно глупый и пошлый человек, и эти слова, мой милый Фёд. Уст., увы, остаются без всякого действия на меня! Мой милый, напрасно ты трудился, хотя я благодарен тебе за твои честные, благородные усилия просветить меня. Извини — мне стыдно так сказать о человеке, который показал мне истинную дружбу, но amicus Plato, amicus Socrates, sed magis [490] amica veritas[434] — ты решительно похож на свинку, которая доказывала бы человеку, что напрасно он ест апельсины, что жолуди гораздо лучше ей нравятся. Славный ты человек! Но не дал тебе бог способности понимать многого на свете. И есть натуры, которые выше тебя, напр., хотя и О. С., и о них ты, мой милый, не судья. Ты производишь на меня то же впечатление, как человек, который начал бы говорить мне, что Вольтер, Луи Блан и Прудон, Искандер и Гоголь ему не нравятся, потому что слишком много в них цинизма, а что Булгарина и Масальского читает он с большим удовольствием.
Но теперь гораздо важнее. Теперь мои собственные сомнения, которые кажутся мне, конечно, неосновательными, но, наконец, нуждаются в самом деле в разъяснении. И я не знаю, весьма вероятно, что я даже буду говорить о них с О. С. Я знаю, что это не так, как мне представляется, но, наконец, мне в самом деле представляется это. Наконец, в самом деле во мне есть эти мысли.
«Не хитрит ли она со мною? Не завлекает ли она меня обдуманно, не предполагает ли она, что я могу не сдержать своего обещания приехать сюда как можно скорее сватать её, не хочет ли она заставить меня жениться на ней до отъезда моего в Петербург?»
Если, так, зачем не сказать это прямо? Тогда я представлю свои возражения. Если она не убедится ими, я сделаю, как ей угодно. Об этом должно поговорить с ней. Я начну: «О. С., как вы думаете, я хитрю сколько-нибудь с вами? Вы не уверены сколько-нибудь, что я в самом деле совершенно в ваших руках?» и потом разговор пойдёт, как приведётся. Может быть приведёт он меня и к тому, что я спрошу ее: «А вы не хитрите со мною?» и попрошу её выслушать мои сомнения.
Зачем она говорила мне о двух своих женихах, харьковском (250 душ) и киевском (1000 душ)? В действительном существовании первого я не сомневаюсь. Но второй не придуман ли впоследствии для эффекта? Мне что-то несколько подозрителен этот киевский жених. Действительно, несомненно, что там ухаживал за ней какой-нибудь молодой богатый человек. Но хотел ли он приехать сюда, чтобы её сватать? Не просто ли это сказано для того, чтобы сказать мне другими словами: «Женись на мне теперь, потому что, если отложишь до зимы, то я выйду за другого!» И отчего это «женись теперь»? Оттого ли, что ей хочется поскорее вырваться из своего семейства? Это ещё весьма естественно, и даже хитрость её в этом случае не имеет ничего дурного. Но не происходит ли это от мысли: «Кто тебя знает, сдержишь ли ты своё слово приехать? Я должна ковать железо, пока оно горячо». — Если так, я скажу ей в первый раз — и в последний раз, потому что это единственный случай, в котором я должен сказать ей [491] «нет»,— подобного другого случая не может быть; я скажу ей: «Нет, если вы так мало верите искренности и серьёзности, и прочности моей привязанности, вам рано выходить за меня. Должно подождать. Я рискую страшно, но должен раньше рисковать. Я уеду, не женившись на вас. Что я приеду за вами, вы увидите. Я рискую. Потому что, если так мало вы надеетесь на прочность моей привязанности, вы не станете дожидаться меня и, если представится случай, выйдете за другого. Но что ж делать, я лучше готов пожертвовать своим счастьем (я пишу это для себя, потому пишу, как думаю, и пишу всё, что думаю — тут нет испытания для неё, тут есть только то, что я пишу), чем связывать вашу судьбу с моей, пока мои обстоятельства ещё не устроены, и заставлять вас или нуждаться, или содержать меня на свои деньги несколько месяцев».
То, что говорила она, будто бы, Бусловской, что в половине поста она даёт слово или мне, или Яковлеву, нисколько на меня не действует. Это что-нибудь не так.
Ну, теперь мои сомнения относительно её кончены. Теперь перехожу к другим мыслям.
И, во-первых, о моих отношениях к папеньке и маменьке. Что может быть из моего сватовства? Согласятся ли они, чтобы я сватал ее? Может быть её дурная репутация слишком хорошо известна им, и не согласятся. Если будет решительное несогласие, я уж написал, как я поступлю. Одним словом, они меня не остановят, потому что я не хочу их слушать в этом случае. Но прав ли я буду перед ними? Вот другой вопрос. Я сильно огорчу их. Это так. Но это меня не колеблет. Пусть огорчатся, это будет прискорбно для меня. Но что ж делать? Это такой случай, что слишком большая деликатность вовсе тут не у места. Не об огорчении дело, а о том, прав ли буду перед ними, вправе ли я не слушаться их?
Когда предлагаются подобные вопросы, ответ известен: я вправе так сделать. Вправе ли я, или нет так сделать, но я твёрдо убеждён, что вправе, и вот почему:
Они не судьи в этом деле, потому что у них понятия о семейной жизни, о качествах, нужных для жены, об отношениях мужа к жене, о хозяйстве, образе жизни решительно не те, как у меня. Я человек совершенно другого мира, чем они, и как странно было бы слушаться их относительно, напр., политики или религии, так странно было бы спрашивать их совета о женитьбе. Это вообще. В частности: они совершенно не знают моего характера и того, какая жена нужна мне. В этом деле может быть судьею, мог бы быть напр.,— ищу, ищу и не найду, потому что никто не может войти в мой характер и в мои понятия, кроме меня самого. — Может быть со временем, когда решительно убедится в том, что я действительно таков, как изображаю ей себя, только О. С. Это всё равно, что советоваться с ними, напр., о своих отношениях к Ал. Никол. Пасхаловой. Они тут решительно ничего не понимают. А от этого дела зависит мой мир с самим собою и — веро[492]ятно — моё счастье. Какие же тут советы от людей, положим весьма любящих меня, но которым, решительно, нельзя растолковать ни того, что такое О. С., ни того, что такое я, ни того, какова должна быть, по моим понятиям, жена. Этого мало. У меня к О. С. решительно особые отношения, которые понять могут только весьма немногие, напр. А. Ник. Пасхалова (я думаю, и Ник. Ив., хотя не совсем), а уж вовсе не маменька. Но если бы, напр., моя маменька была и такова, как Анна Ник., т. е. если бы ей можно было объяснить и если бы она могла сочувствовать этим отношениям, то и тут: разве эти отношения таковы, что могут быть рассказаны кому-нибудь? Нет, им не вправе я рассказывать, Ольге С. и то не должно, потому что они слишком странны, а я не вправе, я был бы подлец, если бы высказал бы хоть один намёк на них кому бы то ни было. «Она хочет выйти за меня» — как хорошо рассказывать эти отношения! А эти отношения — одно из самых главных обстоятельств и без них ничего нельзя понять. Следовательно, я не могу, не смею, не вправе советоваться с кем бы то ни было, тем более с людьми, которым чужды все понятия, все отношения этого дела. Я был бы подлец, если б стал советоваться.
Мне не должно советоваться, наконец, и для того, чтоб не лицемерить более перед собою и перед ними. Разве я послушаюсь их мнения? Да, в сущности, разве я не делал всегда так, как мне казалось нужным, а всегда только прикрывался их волею. «Как вам угодно, так и я сделаю». — «Я сделал так потому, что мне казалось, что вам так угодно», а в самом деле делал так, как мне было угодно. К чему это лицемерие? Оно гнусно, оно лживо. Пора его бросить.
Пора, наконец, перестать выставлять себя мальчиком, который всё спрашивается — «что прикажете?», а сам делает, вовсе не обращая внимания на приказания. Пора действовать прямо и самостоятельно, как действуют все другие.
Но я всё-таки чувствую некоторое сожаление, что я не могу им высказать свои намерения, т. е. сказать им, что О. С. мне весьма нравится, что, если будет можно, я приеду из Петербурга просить её руки, но что, конечно, я не знаю, даст ли она её мне. Мне тяжело скрываться от них. Но что делать? Не могу я сказать этого, потому что это слишком рано. Это значило бы толковать о том, что ещё слишком неверно. Потому что разве я уверен, что она выйдет за меня, а не за другого? До тех самых пор, как я поеду из Петербурга в Саратов, или во всяком случае до тех самых пор, как я поеду в Петербург весною, я не должен говорить ни одного слова. Одним словом, дело находится в таком положении, что пока должно быть ещё тайною. Я не имею наклонности скрытничать. Скорее я болтушка. Но что делать? Тайну я должен хранить, когда её должно хранить.
Но я буду виноват перед ними, что огорчу их, потому что этот выбор вероятно не понравится им? [493]
В одном я почти совершенно уверен,— что мысль «не понравится», покажется «слишком верченою, слишком кокеткою», что эта мысль одно из тех нелепых произведений моей фантазии, которые рождает она в таком огромном количестве. Скорее понравится. Гораздо скорее. А если не понравится? Что ж делать, должен отвечать обыкновенного фразою: «Не вам жить с нею, а мне». Что делать? Не я виноват, что вы слишком мало полагаетесь на меня, что вы (особенно маменька) слишком самонадеянны, так что вам непременно кажется только то хорошо и рассудительно, что делается по-вашему; что делать? Кто виноват, что вы никак не хотите понять, что могут быть лица, понятия, отношения, которые чужды вашему кругу понятий. Вы слишком самонадеянны, так что же мне делать? Не пожертвовать же своим счастьем и своею честью вашей самонадеянности».
Наши приехали от обедни. Кончаю писать. Примусь после обеда. Теперь 12 часов.
Через несколько минут. До обеда могу посидеть в своей комнате, потому что маменька занята разливанием чаю, которого я пить не хочу.
Я создан для повиновения, для послушания, но это послушание должно быть свободно. А вы слишком деспотически смотрите на меня как на ребёнка. «Ты и в 70 лет будешь моим сыном и тогда ты будешь меня слушаться, как я до 50 лет слушалась маменьки». Кто ж виноват, что ваши требования так велики, что я должен сказать: «В пустяках, в том, что всё равно,— а раньше этими пустяками были важные вещи,— я был послушным ребёнком. Но в этом деле не могу, не вправе, потому что это дело серьёзное. Нет-с, тут я уж не тот сын, которого вы держали так: „Милая маменька, позвольте мне съездить к Ник. Ив.“. — „Хорошо, ступай!“ — „Милая маменька, позвольте мне съездить к Анне Ник.“. — „И не смей ездить, это гадкая женщина“. Нет, в этом деле я не намерен спрашиваться, и если вы хотите приказывать, с сожалением должен сказать вам, что напрасно вы будете приказывать».
«Я мужчина, наконец, и лучше вас понимаю, что делаю. А если станете упрямиться,— извольте, спорить я не стану, а убью себя». Посмотрим, что тогда будет. И если будет необходимость, я исполню свою угрозу, потому что лучше умереть, чем жить бесчестным в собственных глазах или рассорившись с теми, кого люблю, с теми, которые, наконец, сами любят тебя, только слишком странны со своими претензиями на всезнание и безошибочность своих понятий о людях и о том, что „так, а не так должно тут поступать“». Но само собою, этого никогда не будет. Много, много, если скажет маменька: «Я не хотела бы; я думаю, что она не составит твоего счастья». — «А я думаю». — «Ну, как хочешь». А папенька ничего и не скажет. А всего вероятнее, что она им понравится и что дурные слухи не остановят их. Во всяком случае, я входить [494] в рассуждения не буду, скажу просто: «Я лучше вас знаю её и себя. Согласны вы или нет?»
Боже мой! Что за дикая фантазия! Что за странное свойство ожидать везде сопротивления и неприятностей! Что за странное свойство постоянно готовиться к страшной ссоре с людьми, которые никогда и не думали с тобою ссориться! Что за петушиная храбрость (петушиная — потому что вовсе не представляется случая выказать её, а не потому, что я не выдержал [бы] себя так, как думаю выдержать — случая-то нет!)! Что за смешное расположение духа везде ожидать или оскорбления, или несогласия? когда весьма согласны и весьма рады! Но буду продолжать. Ведь должен же излагать свои мысли.
Что будет в самом деле, если они будут недовольны моим выбором? Я уверен, что скоро увидят, что я не ошибся, и скажут, что ошибались, не одобряя раньше моего выбора. Потому что источник несогласия может быть только один — если им покажется, что она не составит моего счастия. А они увидят, что я счастлив, и их предубеждения исчезнут. И дело скоро кончится решительным примирением со мною. А если она скажет: «Я не хочу, потому что не нравлюсь вашим родным»? Тогда снова за то же: «Вы должны просить её выйти за меня». Если она не пойдёт, снова то же: «Вы расстроили, извольте устроить, или я не буду жив». — Но это будет роль унизительная для них? Нет, она с её благородством не потребует от них ничего унизительного. Только маменька должна будет сказать ей: «О. С., будьте моей дочерью. Я буду любить вас не менее, чем люблю сына». Тут унизительного ничего нет. А если маменька не согласится! Как угодно, после не жалейте обо мне, вы, значит, сами хотели моей смерти, сами накликали, так не пеняйте на других. Я не виноват.
Теперь кончено в отношении к родным. Иду вниз смотреть, что делается. 35 мин. 1-го.
Продолжаю после обеда. 2 часа.
Я прав перед родными во всём. В одном только несправедлив я: маменька любит меня всею силою души — а вот является чужая мне до сих пор, которая и не говорит даже, что любит меня,— а я люблю её так, что привязанность к маменьке совершенно ничтожна перед любовью к ней. Какое право имею я любить её более маменьки? Где тут справедливость? Тут нет справедливости. Что делать! Любишь больше не тех, кого больше должен любить, а тех, кого более любишь!
Перехожу к её вероятным отношениям к моим родным.
Маменьке будет не совсем сначала нравиться свобода её обращения, особенно с молодыми людьми. Но скоро маменька увидит, что здесь ничего дурного нет, что это не грозит мне никаким несчастием, и примирится с этим. Ей может быть не будет нравиться её любовь к свету. Но она говорит, что этой любви к выездам и нарядам у неё нет. Не знаю. Может быть она сама ошибается Но и с этим маменька скоро помирится, когда увидит, что она не [495] живёт выше своих средств (своих средств — потому что мои деньги будут её деньги). А за всё остальное маменька не может не полюбить её. Особенно она полюбит её за то, что я в самом деле от души привязан к ней, что я счастлив ею. Потому что моё счастие, наконец, выше всего для маменьки. И как её не полюбить! Дурные слухи будут доходить до маменьки. Но она увидит их несправедливость и не будет обращать на них внимания, когда увидит, что мне всё это известно весьма хорошо, что она ничего не скрывает от меня и что я в самом обыкновенном, самом спокойном состоянии духа, всегда только радуясь на неё, вполне полагаясь, ни в чём не подозреваю её; когда маменька увидит, что она в самом деле привязана ко мне. А её отношения к маменьке? Конечно, она будет прекрасною дочерью. Если уж с своею матерью, которая её ненавидит, она так хороша, тем более она будет хороша с моей маменькою, в которой увидит готовность любить её более всего на свете, как источник моего счастия.
Одним словом, я не сомневаюсь даже в своей необузданной малодушной фантазии, что маменька будет любить её, что она будет самою лучшею дочерью для маменьки и что она полюбит маменьку, или если не полюбит, то будет весьма хороша к ней и благодарна ей за её любовь, на которую будет отвечать всевозможною предупредительностью и внимательностью. Таков уж её милый, добрый характер. А папенька? Папенька, конечно, будет радоваться на неё, потому что на папеньку угодить гораздо легче, он гораздо мягче, нежнее, чем маменька. Папенька никогда никому не был помехою. У него характер чрезвычайно мягкий и нежный, в сущности едва ли не более, чем у меня. Одним словом, она найдет в моих родных самых лучших родных, какие только могут быть. И всё наше семейство будет счастливо через неё. А если маменька захочет ехать с нами в Петербург? Должен буду отвечать, что теперь ещё нельзя. Одну — и едва ли не главную в самом деле причину — я ей скажу: должно подождать, пока устроятся наши денежные дела и пока мы будем в состоянии как должно успокоить её в Петербурге. Другая причина должна быть для неё всегда тайною: раньше, чем явится маменька жить с нами, наши отношения с О. С. должны быть уж установлены, чтобы она нашла их уже решительно определёнными, твёрдыми и не могла иметь никакого влияния на них. Потому что, по моему несомненному убеждению, которое я не хочу нарушать ни в каком случае, никто, как бы он ни был близок, как бы он ни любил, не должен иметь влияния на отношения между мною и моею женою. Тут закон — воля моей жены и исполнение всего, что только может быть исполнено при моём характере и моих средствах.
Когда мы совершенно устроимся, тогда милости просим. Мы будем весьма рады. Тогда, наконец, и папенька может быть переедет к нам. Но это едва ли возможно. Он не захочет. И маменька будет у нас только гостьей и скорее всего будет, что она не приедет к нам первая, что мы через два года после своего отправления в Петербург приедем в Саратов. [496]
А наш образ жизни в Петербурге? Здесь одно только сомнение — довольно ли я буду получать денег? Работать я буду как нельзя больше, насколько у меня достанет сил. А сил у меня достанет на 15 часов в сутки. Странно было бы, если бы я не имел возможности получать 2 000 р. сер. в первый же год после нашей свадьбы. Мы будем жить вероятно одни. Брат и Иван Григорьевич[435] не будут жить с нами. К чему? Впрочем, это зависит от неё. Если мы будем жить одни, тогда наш бюджет составится таким образом — смотри записку, которую я составил раньше, отмеченную знаком БЖ[436].
Квартира из 4 комнат: зал, её комната, моя рабочая комната, нечто вроде спальни или столовой,— одним словом, не приёмная комната. Квартира эта будет выходить на улицу, с порядочным подъездом; вероятно, она будет на Петербургской стороне, если там будут у меня уроки, или, если уроки в Пажеском корпусе, то где-нибудь на Фонтанке — 20 р. сер. в месяц . . . . . . 240 р.
В ней будут 2 печи и 1 в кухне. Дров будет выходить в зиму на наши печи 7 сажен, по 8 сажен на кухню, всего 15 саж. по 4 р. сер. — 60 p.; за воду и другие мелкие расходы различного рода 3 р. сер. — 35 р. сер., всего . . . . . . 95 р.
Освещение. Обыкновенно 2 стеариновые свечи на зимние вечера, по 2 ф. в неделю, в 6 летних месяцев, всего 24 ф. в летние месяцы, 14 ф. в зимний месяц = 84 ф. + 24 = 108; 30 раз зимою общество, когда 2 лишние свечи, 15 ф. и т. д., всего положим 140 ф. по 10 р. пуд — 35 р.; в кухне и передней 5 ф. в месяц сальных 5 р. сер., всего . . . . . . 40 р.
Прислуга. Женщина, которая может быть горничною для неё и кухаркою — 3½ р. сер., 42 р. сер., и мальчик — всего . . . . . . 70 р.
Бельё для меня 1 р. в мес., для неё — 1 р. 50 к., всего 2 р. 50 к. в месяц; это составит с новой чернорабочей 3 р. сер. и (прислуга из 3 лиц) . . . . . . 35 р.
Таким образом всё вместе будет стоить, кроме ежедневных текущих расходов . . . . . . 480 р. сер.
Положим для круглого счёта . . . . . . 500 р. сер.
Стол и чай. Сахар 6 пуд. — 60 р., чай 40 р. = 100 р.
Стол. Собственно кушание — 50 к. сер. в день; булки и хлеб к столу — 15, молока на 10 = 25 к., всего 75 к. = 270 р. сер. в год; мелкие покупки к столу и закуска 80 р. в год = 350 + 100 р. чай . . . . . . 450 р.
Расходы совершенно необходимые: 10 р. в библиотеку для чтения для неё; кое-какие другие рас[497]ходы в следующем роде, напр. бумага и письма 40 р. сер. = . . . . . . 50 р. сер.
Расходы собственно для меня: извощики 5 р. в месяц = 60 р., платье 140 = 200 р. Всего . . . . . . 1000 р. сер.
Театр. В оперу, если будем абонироваться в креслах — 80 р. сер., извощики и мелкие расходы 10 р. = 90 р. сер. (скорее, ложу пополам с кем-нибудь 50 р. сер. и тогда вместо 90 — 60), ещё 60 р. сер. на другие театры, театр . . . . . . 150 р.
Итого — кажется всё, кроме её расходов . . . . . . 1350 р. сер.
если буду получать 1800 р. сер.,— 450 р. на её наряды и удовольствия.
О, если б так! Конечно так, потому что я считал всё слишком не экономически. Можно всё это делать гораздо выгоднее и вместо 1350 р. верно понадобится только 100 р. в месяц, 1200 р. в год. Остальное, собственно, её расходы. Но само собою и эти расходы совершенно зависят от её воли.
Я думаю, что глупо было бы мне сомневаться в возможности получать 2 000 р. сер. в год. Но теперь обзаведение — вот задача! Главное и почти единственное — мебель. (Тут рояль — что делать с ним?).
Рояль 300 р. сер.,— этот расход может быть отложен, если за ней будет рояль, или она может дать мне взаймы для его покупки. Другая мебель: в её комнате: диваны 2 = 35 р. сер.; кресла (всего для всех комнат 12 по 10 р.) 120 р. сер. Столы: мой рабочий — 20 р. сер.; 5 ещё — 50 р.; её гардероб — 20 р. сер.; другие шкапы 20 р. сер. (ковров, если не будет у неё, отложим до приезда в Петербург); другие диваны (3) — 45 р. сер.; стулья 18 = 30 р. сер.; всего 330 р. сер. Посуда 70 р. сер.; всего 400 р. сер. Боже мой, да у меня как гора с плеч свалилась — всего 400 р. сер., да и то ещё предполагая всё в изобилии. Поездка сюда 70 р. сер. Отсюда до Москвы 3 лошади — 74 р. сер.; из Москвы 26 р. сер. = 100 р. сер.; да различные расходы в дороге = 200 рублей сер. Свадьба — ну это уж дело постороннее; подарки, разумеется, если и на 200 р. сер., одежда моя 50 р. сер., всего 250 р. сер. Всего расходов по свадьбе 450 р. сер., да обзаведение 400 р., всего каких-нибудь 1000 р. сер., и тогда можно будет всё сделать без нужды.
Схожу для освежения к Чеснокову. После докончу.
Писано 7-го, субб. 7 час. утра. Завтра я увижу её.
Итак, по серьёзном расчёте, я вижу, что обзаведение не представляет никаких существенных неудобств. Конечно, мне хотелось бы, чтобы она нашла при вступлении своём в свою квартиру всё вполне готовым — но всё это мечты. И если дело пошло на то, что мне не у кого будет занять 1000 р. сер.,— в случае крайности можно попросить их у Ник. Ив., который сказал, что даст, если [498] будут в руках,— то можно будет ограничиться мебелью на 100, посудою на 100, поездка 200 р. сер., расходы свадебные 100 р., всего 500 р. Подарки можно прислать после, после же закупить мебели.
Откуда же я получу 500 р. сер.? От литературных трудов, надеюсь, если уеду отсюда в конце июня; в Саратов за нею отправлюсь в половине октября; всё-таки в 3 месяца, конечно, по утрам буду работать для экзамена и кое-что даже Срезневскому; после обеда буду писать и верно получу несколько сот рублей сер. А если бы не получил? Верно кто-нибудь даст взаймы. Может быть даже Введенский, когда перед отъездом скажу на что. А если он не даст? Возьму у ростовщика по 20% и всё-таки буду иметь 500 р. Но если у Введенского, то возьму чем больше, тем лучше. Наконец, если б не удалось получить деньги в Петербурге, возьму их в Саратове или собственными знакомствами, или даже через папенькино ходатайство у кого-нибудь из отдающих [под] проценты. Одним словом, когда рассудил и рассмотрел, вижу, что за деньгами остановки не будет. Если за нею будут деньги, для меня всё равно; я скажу решительно, что трогать их на наши общие расходы не намерен. Но после, когда, пожив несколько месяцев, она увидит мою чистоту в отношении к её деньгам, может быть можно будет, не тревожа её, принять её предложение дать мне часть своих денег взаймы. Но лучше будет, если этого не делать. И лучше будет, если за ней не будет ничего деньгами. Теперь это ей говорить ещё не следует. Конечно, мне бы хотелось иметь перед отъездом 1 500 р. сер., чтобы у нас было при свадьбе всё, что нужно.
Но вижу, что в денежном отношении затруднений не будет или они легко могут быть побеждены.
Теперь вопрос: как мы будем жить в Петербурге?
Раз в неделю у нас будут собираться знакомые. В другие дни мы будем дома только для своих, как это делает Введенский. Сами будем бывать у тех людей, которых она почтет достойными. Я без неё не буду бывать нигде, кроме как по делам. Довольно часто,— насколько позволят деньги,— будем бывать в театре. До 6 или 7 часов у меня весь день посвящен работе. Сижу за работою всегда, когда позволяет качество работы, подле неё. Но, наконец, моё время решительно в её распоряжении, кроме времени, употребляемого на необходимую работу.
Выбор знакомых будет зависеть от неё. Я её, конечно, познакомлю с кружком Введенского, особенно, кроме Введенского, с Рюминым, Милюковым, Городковыми. Потом от её усмотрения зависит продолжение этого знакомства.
Мы будем жить вероятно одни. Но если захотят Иван Григорьевич или Саша и если она согласится, то, конечно, вместе. Эти люди не помешают нам, потому что это прекрасные люди, которые не будут ни вмешиваться в наши супружеские отношения, ни стеснять нас. Тогда, конечно, и квартира будет больше, и при[499]слуги больше, и стол может быть с большими прихотями. Саша, если уж так будет нужно, может некоторое время жить даром. Ив. Григ. — как угодно, будет ли участвовать в третьей доле расходов, или платить 25 р. сер. в месяц, это будет зависеть от его отношений: захочет ли он быть решительно членом семейства или только жить с нами. Если будем жить вчетвером, тогда комната для Ив. Григ., для Саши, для меня, для неё и 2 общие комнаты. Эта квартира будет стоить 350 или 400 р., прислуга: прибавится лакей.
Маменька если захочет жить с нами, мы постараемся устроить, чтоб приехала года через два. Через два года мы сами, вероятно, приедем сюда в Саратов на каникулы — если она захочет; если нет, съезжу один на месяц.
Теперь, кажется, всё. Остаются вопросы: 1) состоится ли наша свадьба; 2) что будет, если не состоится; 3) любит ли она меня. Эти вопросы разрешить теперь рано в слишком подробных соображениях. Это будет гораздо яснее перед отъездом. Напишу только общие соображения.
Вероятно. Оттого, что или она привязана ко мне в самом деле и хочет выйти за меня не потому только, чтоб выйти за кого-нибудь, или, если не видит теперь, мало-по-малу увидит, что другие женихи (кроме этого киевского помещика) хуже меня.
Если не состоится, если она не дождётся меня — это меня в самом деле весьма поразит, говоря без всяких шуток. Это меня расстроит надолго. Но не состояться может она только в случае, если ей представится жених, который покажется ей лучше меня. Я скорее умру, чем не сдержу своего обязательства, не сдержать которое будет для меня позором, который отравит всю мою жизнь, сдержать которое теперь для меня представляется источником счастья.
Любит ли она меня, т. е. я говорю не про романическую любовь — этого нет, про то, что кажусь ли я ей человеком в самом деле стоящим особой привязанности, человеком, с которым она будет гораздо счастливее, чем при равных денежных средствах с другим кем бы то ни было? Кажется, что так. Во всяком случае, всё её обращение дышит истинною нежностью, горячею привязанностью. Всё, решительно всё. Всё дышит горячею привязанностью.
Да будешь же ты счастлива, моя милая! В тебе теперь моя жизнь. Нет ни одной мысли у меня, которую не озаряла бы мысль о тебе. Я вполне предан тебе. Я чувствую себя совершенно другим человеком после 19 февраля. Я стал решителен, смел; мои сомнения, мои колебания исчезли. Теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характер, теперь у меня есть энергия.
Теперь мои впечатления и моя перемена после 19 февраля. Но это после, теперь иду пить чай. [500]
Писано в 9½ часов утра 7 числа.
Впечатления и следствия для меня.
В первые минуты после того, как я ушёл в четверг от О. С., я был доволен и спокоен, но только чувством того, что я поступил, как следовало поступить, что я не отступил, когда мне говорят: я хочу быть с тобою. Но не могу решительно сказать, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчёт того, не найду ли я впоследствии в своём поступке опрометчивости и рискования своею участью. Я не мог не рисковать, это я знаю; если бы я отказался от риска, я замучился [бы] упрёками совести и собственным презрением, это так. Но мне всё-таки казалось, что я сделал страшный риск. «Я не могу не идти; но к чему меня приведёт эта дорога, я ещё не знаю». Одним словом, я был доволен собою и только.
В пятницу я был в гимназии, после обеда поехал к Ник. Ив. Тут-то, сидя в своей комнате и за обедом, и после обеда, я начал всё живее и живее чувствовать, что я не только доволен, что я счастлив. Когда, наконец, я поехал к Ник. Ив. и мог на свободе — первые минуты совершенного уединения и самоуглубления после разговора с ней — совершенно предаться своим впечатлениям, я дошёл до решительного восторга, какого никогда ещё не ощущал. Я стал решительно блажен. И это продолжается с той минуты до сих пор. И чем больше идёт время, тем глубже становится моё счастье тем, что может быть я буду её мужем. Оно теперь уж вошло в мою натуру, стало частью моего существа, как мои политические и социальные убеждения. К Ник. Ив. я вошёл в решительно радостном расположении духа, я чувствовал, что моё сердце стало не таково, как было раньше. «Я теперь решительно изменился»,— сказал я ему, хотя вовсе не хотел высказываться, но не мог — от избытка сердца говорили и уста. «И эта перемена всё будет усиливаться. моё презрение к самому себе, источник моего ожесточения, причина того, что я покрываю ядовитым презрением всё, прошло. Теперь я почти доволен собою, потому что на-днях поступил почти решительно, как порядочный человек, и в мире с самим собою. Я теперь не хочу ругать никого». И я сдержал своё слово, не хотел даже смеяться над богом и будущею жизнью, от чего не удержался бы раньше. Говорил потом с восторгом о том, что высшее счастье есть семейная жизнь. Наконец, при отъезде почти проболтался: «Я завтра к Стефани. Если нет у [меня] ни аневризма, ни чахотки, я на-днях делаю предложение одной девице. Nur sprechen Sie niemand von meiner Heirath[437]». — Почти проболтался. Почти проболтался через неделю, 26 февраля, в четверг, Анне Никаноровне: когда вошла мать, и она хотела показать, что мы говорим решительно не о том, о чём говорили, т. е. о наших отно[501]шениях, она сказала: «А вот Николай Гаврилович говорит, что хочет жениться». Когда мать ушла, я сказал: «А вы, не думая сказать правду, сказали правду. Я женюсь». К счастью, конечно, и она, и Ник. Ив. позабыли об этом или не приняли это совершенно серьёзно. Я писал с восторгом несколько мест, содержащих в себе общие возгласы, в письме к Саше 26 февраля. К счастью, дело, конечно, не ясно для него. Ник. Ив. и Анна Никаноровна или не обратили внимания, или забыли, или так деликатны, что не напоминают.
А что было бы со мною без этого? Я все дни перед четвергом был в страшной тоске. Я вздыхал беспрестанно, я плакал при мысли, что должен буду прекратить эти отношения, что должен буду расстаться с ней, едва начав, что день моей жизни затмевается в самом начале.
После этого сбылось то, что я ожидал: моё озлобление против себя проходит. Проходит и моё ожесточение, моя желчь против всего, что попадается мне. Вот совершенная картина моей внутренней жизни до и после: раньше это был туман, покрытое всё одной серой тучей небо, на котором только изредка мелькали светлые места между облаков. Теперь это чистое, ясное, лазурное небо, по которому только изредка пробегают облака, но и эти облака озарены солнцем моей жизни, мыслью о ней, и они скоро рассыпаются от тёплых лучей яркого солнца. Одним словом, вместо дурного расположения духа я теперь имею хорошее расположение духа.
Я бросил свои гнусности, я перестал рукоблудничать, я потерял всякие грязные мысли, перед моим воображением нет ни одной грязной картины. Разврат воображения, столь сильный раньше, совершенно исчез. Я чист душою, как не был чист никогда.
И женщины, девицы перестали решительно иметь на меня электрическое действие, которое имели раньше. Я теперь могу говорить о себе, как говорит один святой в Четь Минее (я не хочу прибавить даже — нелепый, как прибавил бы раньше — теперь я щажу всех и все). «Как ты чувствовал себя среди женщин?» — «Как дерево среди деревьев». Пусть я вижу в самом соблазнительном положении кого угодно, пусть (я с неохотою пишу эти грязные предположения, но я хочу писать всё, что думаю) — пусть меня заставят натирать мазью, напр., Кат. Ник. Кобылину, от кого я приходил в электрическое волнение,— я бы натирал её так, как натирал бы молодого человека, и мне [было] бы только неприятно смотреть на её наготу, я бы думал не о ней, да и об О. С. никогда не думал я нецеломудренно. Ни одной грязной мысли не являлось в моей голове с тех пор, как она в моей душе. Я жду. «Ты будешь моею женою». Я теперь смотрю, например, на Кат. Ник., как смотрит 50-летний отец на своих миленьких дочерей, я смотрю на неё, как смотрит Ник. Мих., и я теперь говорю, потому что не боюсь за смысл своих слов, я говорю, как только [502] разговор идёт о ней: «Кат. Ник. нельзя не любить». Да, это решительно так. Пусть меня положат на кровати с красавицею — я буду лежать подле неё и думать об О. С., и ни одной не будет у меня нецеломудренной мысли ни о той, которая подле меня, ни о ней. Теперь я способен к тому, что делали арабы: ложатся на одну постель с женою друга и спят подле неё: дружба предохраняет их от увлечения. Так меня охраняет от всяких чувственных мыслей о всякой другой мысль об О. С. Но моя любовь к ней вовсе не односторонне-идеальна. В ней есть и чувственный элемент, но этот элемент очищен, облагорожен высшей любовью. Для полноты любви должна быть в ней и чувственная сторона — и, конечно, она сильна в моей любви к О. С.! Я чрезвычайно чувственно люблю ее! Но чувственная любовь к ней только дополнение, только проявление, только выражение сердечной любви к ней. Я люблю её как любовник, но ещё больше люблю её как муж. Я люблю её как Ромео любит Джульетту, но я люблю её как Гика[438] любит свою…[439] милую.
Иду отдохнуть от чувств, спокойных, но слишком сильных. Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве. и радостной жизни людей,— спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии, это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове, это вечная сладостная весна Хиоса.
Надежда на счастье быть её мужем имеет, кажется, уж и прямо благоприятное действие даже на мой организм: пропадает тоска, пропадает и её следствие — боль в груди против соска, эта боль, которая так заставляла меня сомневаться в здоровьи моей груди. По крайней мере, я теперь ничего не чувствую вот уже несколько дней. Да и сама грудь, вероятно, будет крепче, чем раньше: во всяком случае, во все эти дни я писал больше, чем когда-либо, и, однако, не чувствовал боли в груди. Что ж? Весьма естественно, что спокойствие сердца успокаивает и грудь.
Но есть и ещё влияние — это то, что пропадает моя нерешительность, мнительность, застенчивость; что из робкого, малодушного я стал человеком твёрдым и решительным. Действительно, я теперь чувствую, что справедливо написал в этом дневнике несколько дней тому назад:
О Mädchen, Mädchen! Wie lieb ich Dich! Wie ich Dich liebe mit warmen Blut, Die Du mir Jugend und Freud und Muth Zu neuen Thaten Und Glücke giebst. Sei ewig glücklich, Wie Du mich liebst!
Теперь я говорю: Wie Du mich liebst, потому что несколько дней размышления, обдумывания, углубления в твое обращение со мной уверили меня, что ты любишь меня! Что я имею цену [503] в твоих глазах! Что и для тебя было бы прискорбно разлучиться со мною.
Вот твое влияние:
Я стал через тебя из тряпки, дряни — человеком; я стал из ожесточенного — радостным, гуманным в мыслях; я стал из мнительного, недоверяющего себе — уверенным в себе, уважающим именно себя.
Да будешь ты счастлива! Кончаю этим:
Да будешь ты счастлива!
И ты будешь счастлива!
Теперь принимаюсь перечитывать написанное и делать дополнения и вставки.
Да будешь ты счастлива! Меня ты уж делаешь счастливым.
И ты будешь счастлива!
(о, как робко прибавлю я — со мною или с другим, но ты будешь счастлива!)
Потому что в тебе столько высокости[440], столько ума, что ты не ошибешься в выборе!
И если ты выберешь другого, этот другой в самом деле будет достойнее тебя, чем я, и ты будешь с ним счастливее, чем со мною.
Но — о, если бы я был признан тобою достойным тебя! И если бы ты думала — а ты настолько умна и проницательна, что твои мысли не будут обманчивы, в пользу ли мою будут они или в пользу другого,— о, если бы ты думала, что будешь счастлива со мною!
Ты во всяком случае будешь счастлива!
8-го. Воскресенье. Половина третьего.
Утром взял Кольцова от Смирнова. Отдал 3 р. сер. Довольно хорошо вышел переплет. Это будет мой первый подарок ей и первый мой подарок женщине. И взял с почты «Копперфильда»[441] Введенского, которого прислал он мне в подарок, и его отдал с надписью. Потом был у Патрикеевых, где могу увидеться с нею. Теперь к Кобылиным, оттуда к ней, но раньше занесу книги. Каково-то будет нынешнее свидание? С трепетом думаю о нём. Так много нужно переговорить: 1, хитрит ли она со мною? 2. мои чувства к ней; 3, где будем видеться? 4, что ей во мне нравится? 5, о моём отъезде и переписке. Чем скорее уехать, тем лучше. Постараюсь — только не сумею сделать, чтобы она больше говорила. Начинаю одеваться.
Со следующей страницы начинаются снова описания событий. Но теперь они будут уж рядом с чувствами, размышлениями, впечатлениями. Завтра я надеюсь видеть тебя, опять говорить с тобою. [504]
8 марта, 11½ час. вечера. От Кобылиных отправился к ней в 6 час. по моим и опоздал на ½ часа по их. От них в 8 час. к Анне Никан. Утром уговаривался, чтобы у них были Патрик. и Вас. Дим., и накликал на свою шею, потому что нам мешали. Отправляясь к Кобылиным, я заехал к ним, завез книги (Кольцов и Копперфильд). Я вошёл во двор и проходил было за заднее крыльцо, как вдруг с лестницы голос: «М-r Чернышевский». — Это она. «Я для вас встала с постели» (она в пятницу и субботу была очень больна: у неё болела грудь и голова — я этого не знал). «Вот какое сильное доказательство любви!» — Тут ещё была Рычкова. — «Вы соскучились обо мне?» — «Чрезвычайно»,— это я сказал с чувством уж. Я взошёл. «На минуту. Вот я привёз книги». — «Merci». — «Когда?» — «В 6 часов, но не позже». С ней была младшая Рычкова, но потом ушла, и я, оставшись с ней, несколько раз поцеловал её руку. От Кобылиных, наконец,— как мне хотелось и как робел, чтобы не притти слишком рано. Вхожу — у них уж Афанасия Яковлевна, Патрикеева, младшая Рычкова, Василий Димитриевич, Ник. Дим., Воронов. Сначала она сидела с Вороновым, и я говорил с Кат. Матв.; милая, добрая, кроткая девушка! Потом сел с ней, когда стали другие танцевать. Патр. сказала мне: «Нет ли у вас книг?» — «Решительно нет». — «Напр. Кольцова, да ещё в каком хорошеньком переплете! Или Давида Копперфильда?»
Боже мой, как я глуп. Как я глуп! Как я глуп!
Наконец, сели. Разговору нашему мешают. Сидят подле нас. Подходит беспрестанно Кат. Матв. Между прочим говорили о моих глупостях у Акимовых (Куприянов и Нат. Алекс. Воронова). Отрывками я мог говорить: «О. С., как вы думаете, хитрю я с вами?» — «Может быть». — Я уверял, что нет. — «Уедете и позабудете!» — «Помилуйте». Говорил, что докажу свою любовь чем угодно. «Если хотите доказать, поезжайте в апреле в Петербург и возвращайтесь в июле». — «Не могу. Потому что в это время каникулы. Раньше октября половины не могу. Но знаете что: не хитрите ли вы со мною? Не хотите ли вы заставить меня жениться на вас раньше отъезда в Петербург? Этого не должен я делать, чтоб не заставить вас несколько месяцев нуждаться. Но я совершенно в вашей воле — когда вам угодно и что вам угодно»[442]. — «Нет, я этого не хочу». — «Если вы хотите, скажите мне — скажите, мне должно говорить прямо» — и я привёл в доказательство свой приезд в Саратов. — «А если ваши родители не согласятся?» — «У меня есть средства, этого не будет, но я об этом думал». — И я говорил в общих фразах о том, что у меня в дневнике. Не передаю подробностей разговора. Я спросил, говорила ли она Бусловской, что выберет между мной и Яковлевым. Она не говорила — так я и думал. Она сказала: «Мне кажется, вы женитесь на мне из сострадания; как долго! с отчаяния я могу сделать бог знает [что]. Я могу выйти замуж, как чуть не вышла в прошлом июле. Но теперь я не выйду без разбора. Я ни в кого, [505] вероятно, не влюблюсь. Но никто не нравился мне более вас». Прощаясь, я сказал: «Я решительно недоволен нынешним вечером. Когда мы можем говорить с вами?» — Она сказала: «Будущее воскресенье». — «Так долго?» — «Хорошо, во вторник, в половине седьмого». При прощании я не поцеловал даже её руки; я просто пожал её руку. До вторника. Нужно же переговорить всё, как следует.
О, моя милая! Как я люблю тебя! Как ты чиста и благородна!
Да будешь ты счастлива!
10 марта, 10 часов утра. Вторник.
И вчера, и ныне всё думаю о ней. Она сказала в воскресенье на мой вопрос: «Чем же доказать, что я совершенно искренен в моей любви?» — «Вот чем: поезжайте в апреле, возвращайтесь в июле, потому что мне, может быть, будет слишком тяжело, и отчаяние может заставить выйти за человека немилого». — Я сказал, что воротиться раньше октября не могу. Теперь думаю, вчера я решил сделать, во всяком случае, то, что от меня зависит: я уеду в апреле, непременно в начале мая, и то если задержит Кобылин (это всё даст мне возможность кончить свои дела несколько раньше), а то как будет путь. Не стану дожидаться здесь, пока кончу диссертацию. Довольно того, что успею, хотя буду работать всеми силами. Довольно переписать словарь. Теперь принялся за диссертацию. Это смотри в другом дневнике. Ныне, когда я входил в комнату, где [пили] чай, маменька говорила Анне Ивановне, которая жаловалась на одышку: «Поедемте к Сократу, к Анне Кирилловне»[443]. — «Поедемте ныне»,— сказал я. Маменька сказала, что можно. Если поедем ныне, я раньше должен побывать у них и объяснить, что это не моя мысль, что это сама маменька. Как-то она понравится маменьке? О, моя милая, я живу только тобою.
10 часов вечера. О, как я ждал не дождался времени, когда увижу её, поговорю с нею! Вот наконец я вхожу на переднее крыльцо,— так она сказала мне — прислушиваюсь: никого, вхожу в переднюю, всё тихо; долго стою, весьма долго, дожидаясь, не выйдет ли кто, чтобы не быть принужденным самому отыскивать — нет. Нечего делать, иду; в гостиной, которая отворена, не видно никого. Иду через коридор в заднюю людскую. — «У себя Анна Кирилловна?» — «У себя, да в детской О. С., пожалуйте». — Вхожу, она на диване в комнате Ростислава (Ростислав уехал на следствие куда-то). Вхожу. Подаю ей руку (ни при встрече, ни при прощании не поцеловал, к чему?). Сажусь подле неё. Она говорит мне, что долго оставаться нельзя, что с Анной Кирилловной лучше не видеться — почему? «Мне и так за вас досталось в воскресенье. Маменька не хочет, чтобы я принимала кого-нибудь, даже коротких знакомых, когда нет брата». — «Вы мне сказали, чтоб я уезжал в апреле, приезжал в июле; я думал, думал об этом, наконец, решил: мой ранний отъезд может несколько, весьма немного, ускорить моё возвращение, и я поеду в самом начале мая иди даже в конце [506] апреля. Но только в таком случае, если до тех пор я успею убедить вас, что я решительно искренен. Верите ли вы мне или нет?» — «И верю, и нет». — «Итак, я еду в апреле или мае». — «Нет, лучше оставайтесь до июня». — «Для Венедикта?» — «Да, он говорит, что без вас будет плохо». — «Я уж думал об этом (действительно, я давно уж обдумал это и решил). Я перед отъездом скажу, что нужно. Анне Кирилловне угодно, чтобы он кончил с правом на чин — скажу, чтобы его дали непременно, что если не дадут, то должны ожидать от меня… неприятностей»… Молчание. «Что же, мы будем играть с вами в молчанку?» — «Что ж начинать говорить и не доканчивать». — «Скоро я должен уйти?» — «Чем скорее, тем лучше». — «А к Анне Кирилловне не заходить?» — «Нет». — «Мне кажется это неловко». — «Нет, лучше не заходите,— уходите же» — и она проводила меня. Мне сказали: Анна Кир. просит вас к ней кушать чай (ведь я спрашивал, дома ли Анна Кир., она это не знала; может быть, если [бы] знала, и согласилась бы, что неловко не зайти, а я, олух, не успел сказать ей это! Фу, как я глуп!). — «Неловко не зайти». — «Нет, лучше не заходите». — «Когда же я могу видеть вас?» — сказал я при прощании перед уходом из комнаты Ростислава. — «Вот видите, я не такой страстный любовник, чтоб для меня было необходимостью постоянно, беспрестанно видеть предмет своей страсти, но мне хотелось бы говорить с вами, чтобы вы лучше узнали меня». — «В воскресенье на минуту можете быть у нас, потому что это день моего рождения; будут Патрикеевы и Фанни». — «А раньше? Вы не будете у Патр.?» — «Нет, я буду у них в то воскресенье, на 3-й неделе буду говеть». — Боже мой, как я глуп! Боже мой, как я глуп! Не сказал ей, что спрашивал я сам Анну Кир. — и ушёл, а должен был зайти к Анне Кир. — и грустно мне теперь.
И грустно, грустно мне. Снова до воскресенья! И ещё до того воскресенья, потому что в это воскресенье я должен быть только на минуту и не успею сказать ничего — и в то воскресенье у Патр. снова то же — можно ли там будет говорить? Когда ж, наконец, мы сблизимся так, чтобы лучше узнать друг друга? Т. е. чтобы мне узнать, действительно ли она, как мне кажется, нежно привязана ко мне, а ей убедиться в том, что я не хитрю, не обольщаю её обещаниями, которых не сдержу? Грустно! Неужели и все мои ожидания и надежды, и мысли о счастьи с ней так же разлетятся, как это наше свидание? Грустно! На глазах у меня слёзы.
Нет, не хочу кончить этим. Да будешь ты счастлива! Вот моё окончание.
Да будешь ты счастлива!
Да когда ж я увижусь с тобою, как должно? Да когда ж мы будем видеться с тобою, как должно? Но что ни будь, я хочу в наших отношениях только одного: чтобы ты была счастлива. Я буду счастлив твоим счастьем, хотя бы ты была счастлива с другим.
Да будешь ты счастлива! [507]
11 марта, 9 час. утра.
Хитрит она со мною или нет? Всё её обращение показывает, что нет. И если даже хитрит, как она должна быть умна, чтобы так хитрить! Что она не чувствует ко мне такой глупой привязанности, как я к ней, это так; но если она гораздо более осторожна, чем я, это происходит от того, что она гораздо более стеснена, чем я, и, наконец, она ещё не совсем доверяет мне. Я никогда не позабуду того, как у Чесн. в пятницу на масленице, когда мы сидели в зале, она вынула бумагу из кармана. — «Что это такое?» — спросили Вас. Дим. и Кат. Матв. — «Вам нельзя показать это». — «А мне?» — «Вам можно»,— и она отдает мне её. Я вышел в переднюю; это был мой листок, на котором было, написано распределение песен Кольцова для гимназии. Когда Воронов брал у меня эту книгу и принёс назад, листка не было; он сказал, что потерял — это она взяла его, чтобы иметь что-нибудь моей руки. Это меня чрезвычайно тронуло. Я воротился и отдал ей, потому что она дала с условием, чтобы я возвратил: О. С., неужели это не шутка? Боже мой, нет, как угодно, это не хитрость!
Женюсь ли я на ней? вероятно, т. е. я говорю не о том, сдержу ли я свои обязательства, а о том, что, вероятно, она не найдет до тех пор человека, который бы ей нравился лучше меня, которого бы она предпочла мне. Буду ли я счастлив с нею? Нечего и говорить о том случае, когда она будет иметь ко мне нежную привязанность. Но если бы даже этого и не было, я с нею был бы более счастлив, чем с другою, что в самом деле она такова, какова должна быть моя жена.
А если она выйдет за другого? Что тут поразит меня? То, что я потерял прекрасный случай окончательно устроить свою судьбу. Но будет ли это прямым ударом для моего сердца! Не знаю. Кажется, что нет, но, вероятно, будет. Буду ли я тосковать, как любовник, который потерял свою возлюбленную, или как человек, который потерял возможность устроить наилучшим образом свою судьбу? Кажется мне, что только как последний. Но к чему ещё приду я, это неизвестно. ещё полтора месяца впереди.
То, что она не дорожит собственно мною, как я дорожу собственно ею, это несомненно. Что она не хитрит со мною, что она в самом деле рада выйти за меня, а не просто выйти поскорее за человека, с которым, как с весьма многими другими, можно жить — и это правда.
Принимаюсь за дело.
Писано 14 марта в 9 час. утра.
Четверг, 12 марта. Я вложил письмо № 1[444] под бумагу, которою [508] обернул «Историю русской поэзии» Милюкова и отдал её Венедикту. После этого я был спокоен. Но дожидался с трепетом, что будет. Не придёт ли Венедикт? Нет. Наконец, 6 часов. Я готов. Но со мною едет Сережа. Я не хочу, чтобы он знал. Я еду к Палимпсестову, у которого хотел быть вечером после О. С. Его ещё нет дома. Прекрасно. Посылаю за извозчиком. Еду. Вхожу. Она сидит в зале. «Так вы здесь? Я думала, что вы не будете». Я был рад своей смелости, я со смехом уверял её в своей любви, просил верить мне. Наконец,— не буду описывать всего в подробности потому, что мне некогда, я должен спешить работать,— наконец, является разговор о Кольцове. Она хотела, чтобы я прочитал оттуда несколько стихов. Я не хотел, потому что читаю дурно, и не хотел, чтоб ещё раз показаться ей смешным. Она показывает вид, что сердится. Наконец, я читаю «Бегство». — Она смеётся. — «Вы читаете решительно как псалтырь». — «Поэтому-то я и не хотел читать вам». Это был снова весёлый эпизод. Но содержание разговора. «Неужели вы думаете, что я могу не сдержать своих обещаний?» и т. д. Уверял, что никого не люблю, кроме её, и рассказывал о том, кто мне нравился (между прочим о той красавице в опере в бель-этаже и о жене Василия Петровича. «Мой друг женился, чувство дружбы говорило мне, чтоб я одобрил его выбор. Я напрягал своё воображение и достиг так до того, что его невеста мне стала нравиться». Сказал, что здесь ни одна девица мне не нравится, хоть есть хорошенькие, но я слишком разборчив. «Например Кобылина?» (потому что разговор был и о её болезни) — сказала она с улыбкою, так что видно, что по её мнению она не хороша. Я постыдился за себя, как стыдился почти постоянно и раньше, и сказал, что она была бы хороша, если бы на её лице не было глупенького выражения — что и правда. Я уверял, что привязан к весьма немногим, и, между прочим, в Саратове ни к кому — что и правда,— что мне только люди милы за свои мнения и свои качества. «А в Петербурге,— сказала она,— вы не любите никого? Например, Введенского?» — «Вовсе не думаю, чтобы отношения наши с ним были так коротки». — «Может быть, с его женою были короче?» — «Да, она подарила мне при отъезде сигарочницу. Подарила и сестра. Я ей отдал взамен сигарочницу Введенской, а её сигарочницу отдал здесь одному из своих приятелей». — «Хорошо ж бережете подарки. Так бы вы сделали и с моим?» — «Нет, всё, что я получил от вас, я берегу». — «Напри[509]мер что же? Верно бахрому от мантильи?» — «Да. Но одну вашу вещь я сжёг». — «Почему? Какую?» — «Это какое-то вязание, которое дал мне Вас. Дим.». — «Почему это?» — «Я не хотел возвратить его, не хотел и иметь». — «А, потому что это было дано не вам». — Когда о Кольцове она сказала, что подчёркивал ли я там что-нибудь, я сказал,— я подчеркнул в «Последний поцелуй»: «На полгода всего мы расстаться должны» — и «как весна хороша ты» — но «невеста моя» не подчеркнул. — «А другого ничего?» — «Нет». — «Почему же вы не подчеркнули — невеста моя?» — «Не хотел». — «Почему?» — «Так, не хотел». — «Из скромности, знаю». — Она отыскала это и — «Да подчеркните ж и это». — «Нет, нельзя». — «Подчеркните». — И она взяла мою руку и провела ногтем моим по этим словам. Но я не хотел подчеркнуть и не подчеркнул. — Это ещё когда будет. — Ещё: «Вы довольно смелы» — это при начале разговора. — «Да, мне стоит только вздумать, что так должно сделать, и сделать для меня ничего не стоит». — «Как, напр., вы начали разговор со мною». — Конечно, это была шутка, и сказано это было шуточным тоном, так что нельзя было ошибиться. Но шутил я недолго. Теперь, напр., я припомнил, что через несколько дней я говорил, что, к сожалению, не могу жениться, но если бы мог, то сделал бы предложение. ещё, когда о Кольцове, она со смехом говорила: «Ну, читайте же: «Обойми, поцелуй, приласкай, ещё раз поскорей поцелуй горячей». — «Нет, это не нужно, и я этого не хочу».
Снова продолжаю сущность разговора. «Все мои ожидания о том, какое влияние произведут на меня мои отношения к вам, сбылись. Не сбылось только одно: я думал, что они дадут мне спокойствие, а между тем я мучусь и тоскую». — «Как же вы хотите, чтобы я верила, когда вы говорите это и смеетесь». — «Я говорю совершенно серьёзно, даром, что смеюсь». — «Если хотите, и я буду вас уверять, что люблю вас, но это будет ложь». — «Я этого и не хочу слышать, я хочу только, чтобы вы мне верили». — «Ну, я вам верю»; я заставил её это повторить несколько раз и, наконец, в самом деле убедился и успокоился. И теперь решительно спокоен. Потом намёки о её приданом,— что этого я совершенно не жду,— намёки на то, что у меня решительно нет ничего — это должно ещё сказать яснее, я сказал только, что хочу сказать ей оскорбительную вещь, что это неприятно для меня, но что она сама заставляет меня сказать это, потому что два раза говорила об этом, хотя я раньше говорил в таком тоне, что она не должна была возобновлять подобный разговор (Палимпсестов после сказал, что за ней должно быть 3000 р. сер. — я не думаю, что мне представлялась такая же сумма, когда она в четверг сказала, что что назначено ей, то будет дано; для меня это всё равно), и я ей скажу. — Намёки на то, что она огорчает меня тем, что сказала, чтобы я остался для Венедикта; но я ей не сказал этого, скажу всё-таки. Как она догадлива! Так о поцелуе,— что я этого не хочу (тут большею частью был Венедикт — он знает, что я жених; — [510] «Поцелуйте же её», сказал Венедикт. — «Не хочу я этого»,— сказали и она, и я. — «Да ведь вы хотели же и поцеловать на пасху». — «Не поцелую», сказала она. — «И я не поцеловал бы вас. Если бы тут было 50 человек, я перецеловал бы всех, но вас не поцеловал бы»). Наконец, разговор о том, что я не должен бывать у них: «Дайте честное слово, что не будете у нас после следующего воскресенья до пасхи». — «Нет, не [дам], потому что мне надо видеться с вами[445]». — «Вы будете меня видеть у Патрикеевых в следующее воскресенье, потом в церкви». — «Если я буду видеться с вами, для меня всё равно, у вас или где-нибудь». — Раньше этого, когда о том, хитрю ли я — я сказал: «Я-то уж не хитрю, и вы настолько проницательны, что должны это видеть, но другому показалось бы, что вы хотите хитрить со мною. Весьма многое в вашем обращении могло бы показаться кокетством, я думал об этом, весьма многое». — «Почти все»,— сказала она. — «Я замечаю это, но вместе с тем я замечаю другие вещи, которые другой не заметил бы; я замечаю, хотя обыкновенно не вижу и не замечаю ничего». Потом я сказал: «Наши характеры, повидимому, весьма различны». — «Да, весьма различны». — «А между тем вы не сказали, не сделали ничего такого, чего бы не желал я — вот поэтому-то вы и нравитесь мне». Но довольно. Опишу расставанье. Когда я стал выходить,— чтоб я был у Анны Кириловны, она не хотела: «Сама пусть позовет, если хочет, она знает, что вы здесь». Когда я выходил, Венедикт накинул на неё мою шубу, она засмеялась, надела шляпу, вышла. «Извозчик»,— закричала она и сказала: «Я так прокачусь», и поехала по площади до угла, потом, воротившись, давала мне целовать руку несколько раз. Наконец, смеясь, протянула губки. «Поцелуйте в самом деле»,— сказал я — конечно, я не ожидал и не хотел этого, но эта шутка была так мила. Потом она стала за перилами и всё ворочала меня и давала несколько раз целовать руку. Оканчиваю тем, что она сказала мне: «В самом деле к вам весьма можно привязаться».
Я ей говорил о том, как мне хочется помолиться[446] за неё. Я ей говорил о том, что если за полчаса до свадьбы она сказала бы, что ей больше нравится другой, я порадовался [бы] за неё. Но я ещё должен ей сказать о её женихе из Киевской губернии,— что я не совершенно этому верю.
Теперь я совершенно спокоен.
Да будешь ты счастлива, милая, милая!
3½ часа. После обеда.
Я, уверяя её в том, что сдержу обязательства свои, сказал ей, что если б я нарушил [их], это имело бы следствием такой позор [511] в моих собственных глазах, что я не мог бы оставаться живым, что я не в горячности, а совершенно спокойно убил бы себя; что я совершенно спокойно решился бы, что жизнь после этого мне будет несносна и что я не могу жить. Раньше этого я сказал ей, что я пока не влюблён, но что моя привязанность к ней развивается страшно, так что, наконец, я не отвечаю за то, чтобы я не показался ей ещё большим чудаком, чем теперь, и что дело может кончиться тем, что я решительно влюблюсь в неё. Я тяжёл на подъем, но когда примусь, то уж тут я пойду далеко. Она ревнует меня. Это кажется ясно. Ревнует не серьёзно, конечно, но всё-таки ей приятна мысль, что моё сердце не принадлежало никому, кроме неё, и она хочет удостовериться в этом. Значит, в ней есть ко мне привязанность. Я говорил ей об этом дневнике, и она говорила несколько раз, чтоб я принёс его. Может быть,— вероятно даже,— что я отнесу его завтра, как и говорил ей,— но когда можно будет читать? Может быть и будет время. Но мне жалко его терять. Кажется, она в самом деле начинает привязываться ко мне. Во всяком случае, она сказала: «К вам весьма можно привязаться».
NB. Она мне весьма часто говорила: вы любите поговорить, вы весьма любите поговорить.
Теперь мои размышления:
Хитрит ли она со мною? Нет, это ясно из её обращения, открытости, из всего. Она не хочет и не может хитрить.
А мои сомнения? Совершенно изгладились. Т. е. сомнения о том, что она говорила Бусловской, что она в понедельник говорила мне, что Яковлев ей сделал предложение; что её сватали эти два помещика — харьковский (в этом я не сомневался) и киевский — это должно быть так и было. Дождётся ли она меня? Вероятно. Она сама сказала: «Раньше я вышла бы за первого встречного, теперь буду разборчива». Дело зависит от того, чтобы кто-нибудь понравился ей больше, чем я. Я думаю, что она успеет привязаться ко мне так, что едва ли найдет человека, который бы ей понравился больше. Когда я ворочусь? Вероятно в сентябре, и в октябре, через 28 дней, буду в Петербурге с ней.
Мои отношения к домашним? Маменька не будет против этого выбора. Если будет, я уж сказал, что я скажу ей и что я сделаю, если она этим не убедится; но, во-первых, едва ли понадобится и сказать, а если понадобится, то будет совершенно достаточно одного намёка.
Но мне совестно, что я её, которая не любит меня, а разве просто думает, что я хороший человек и что за меня можно пойти с удовольствием, что её я люблю гораздо более, чем маменьку, которая живёт только любовью ко мне. Мне совестно.
Как мы будем жить с нею? Решительно счастливо. Как она будет держать себя? Весьма свободно. Но кокетничать будет гораздо меньше, чем теперь. Она весьма остепенится. Но если б и так, пусть она дурачится, шалит — это будет меня радовать за [512] неё,— хотя, может быть, и будет у меня чувство — не ревности, нет, я так уверен в её прямоте, что подозрениям против неё никогда не может быть места,— а зависти к тем людям, которые на минуту обратят на себя её внимание. Будет ли она счастлива со мною? Будет, насколько это позволят денежные средства. А её шалости и, наконец, это чувство зависти? Я уж и теперь делаюсь более рассудительным, потому что больше уверен в себе и через её любовь приобретаю я эту уверенность в себе. Я буду менее глуп, менее малодушен, чем теперь. её шалости будут просто радовать и развеселять меня. Как я увидел её в своей шубе и шляпе, я стал думать, не вздумается ли ей носить мужское платье. Если в Петербурге есть хоть одна блумеристка[447], я сам предложу ей это, и мы будем щеголять с ней по Невскому и мы будем дурачиться. Но я уж успел сообразить: что ж она будет делать со своими волосами? Отрезать их жаль. Впрочем, для меня она будет так же мила с кудрями по плечам, как и с косою. Но в сущности она будет весьма верною женою, верною, как немногие. А если в её жизни явится серьёзная страсть? Что ж, я буду покинут ею, но я буду рад за неё, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением. А какую радость даст мне её возвращение! Потому что она увидит, что как бы ни любил её другой, но что никто не будет любить её так, как я. Я буду любить её, как отец любит свою дочь, и как муж любит свою жену, и как любовник любит свою милую. А если предмет её страсти будет недостоин ее? Тем скорее кончится эта связь, тем более она будет привязана ко мне. Нет, я не Буа Гибер в «Péché de Mr. Antoine»[448], я — одним словом я не нахожу лица, с которым бы я мог сравнить себя. Но пора за работу.
Прощай, дневник, до завтра. Завтра я снова увижу её. Я счастлив тобою, милая невеста.
5 часов. Был у Чеснокова, чтоб поговорить о завтра, воротился — маменька ещё спит. Пока проснется, снова пишу.
Что будет по моём приезде в Петербург? Примусь готовиться к экзамену. Это до обеда. Приеду если в половине мая, до половины августа это будет 3 месяца. Успею приготовиться весьма хорошо. Верно это будет много — заниматься 30 час. в неделю приготовлением. Верно будет до обеда время и для других занятий. Должно будет изучить для Никитенки Vischer's Aesthetik[449] — это одна неделя; две недели на историю литературы для Никитенки. Одна неделя для Устрялова. Два месяца для Срезневского. Устный экзамен кончу в две недели. Если диссертация — её успеет просмотреть Срезневский до начала каникул, и в два месяца успею напечатать — будет готова к защищению к началу сентября, буду защищать, если не согласится Совет в начале сентября,— после свадьбы. Это ничего. После обеда конечно много времени должно будет истратить для посещений (встаю в 8, до 3 занимаюсь — из 7 часов конечно в занятиях всегда успею проводить [513] 4¼ часа и в неделю 30), но наконец будет оставаться часа 1½ — 2½ (от 5 до 7) для занятий, иногда ни часу, иногда целый вечер; итак, часов 15 будет в неделю; в это время можно написать печатный лист, итак 4 листа в месяц. Это доставит мне, конечно, сначала меньше, после больше 200 р. сер., во всяком случае 150 р. сер., итак около 500 р. сер.[450] Проживу 100 р. сер., на 400 р. можно съездить и купить мебели. Рояль возьму напрокат тотчас по приезде (200 [р.] сер. на мебель, 200 на поездку), ещё рублей 500, или, если можно, больше, займу.
Это я пишу потому, что главный предмет моих забот теперь денежные отношения. Остальные все уладятся. У кого займу? Если уж на то пошло — у ростовщика. После можно будет расплатиться. Но вероятно не откажется дать кто-нибудь из знакомых. Ведь нашёл же Минаев. В Саратове кто? В последней крайности Николай Иванович. У него едва ли будут готовые деньги. Но для меня он выпишет. Но раньше кто-нибудь из кружка родных, напр., через Анну Иван. или что-нибудь в этом роде. Но раньше должно постараться найти деньги в Петербурге. Верно даст Введенский. Если нет — у ростовщика. Расплачусь. Потому что, наконец, глупо сомневаться в возможности работать и получать деньги, когда я выше всех из кружка Введенского, например, хоть выше его и Милюкова. Одним словом, деньги получу как бы то ни было. В Петербурге о своём намерении ехать жениться не буду говорить до последних дней, когда может понадобиться объяснить, для чего нужны деньги.
Главное сыграть свадьбу и устроить квартиру. Там пойдёт своим порядком.
Я человек, которым не будут пренебрегать. Я человек нужный. Буду писать в «Отечественных записках» или «Современнике»[451]. Может быть получу несколько денег и через Русскую Академию. Буду писать всё, что угодно. Главным образом, если на мой выбор, критические исследования о различного рода литературе и теории словесности. Может быть даже составлю учебник вместе с Введенским. Ему отдам всю честь, себе приму только участие в денежных выгодах.
Одним словом, я скоплю казну и могу сказать ей наверное: «Там всего у нас довольно, эти люди нам друзья, что душе твоей угодно, всё добуду с ними я».
В себе я теперь уверен. В ней уверен. В согласии своих родных уверен.
Где же ты, прежнее моё сомнение?
С ней буду переписываться каждую неделю. Она будет посылать письма на моё имя в университет.
О, моя милая невеста!
Ты источник моего довольства самим собою, ты причина того, что я из робкого, мнительного, нерешительного стал человеком с силой воли, решительностью, силою действовать. Благословляю тебя! [514]
Да будешь ты счастлива!
(Всё это писано в совершенно холодном состоянии духа.)
Описание воскресенья, дня её рождения. Писано 16-го, в понедельник, 4¼.
Утром я был у Акимовых, потому что она велела быть, сказав, что это неловко, как бы я бывал только для неё. Я раньше этого читал свой дневник и нашёл там описание вечера в Семёновском полку, которое меня много позабавило, но вместе и утешило: там нет ничего собственно об этой брюнетке, а только общие чувства о несчастном положении женщин, подобных ей, и там уж есть мысль — «я хочу любить одну, чтобы мог сказать ей: никого я не обнимал раньше тебя, никого я не любил раньше тебя». Я не думал, чтобы эта мысль была так стара во мне. Это меня обрадовало.
У Акимовых П. Вас. спрашивал меня, женюсь ли я на ней; я сказал, что еду в Петербург через 1½ месяца. На вечере Кат. Матв., с которой я говорил больше всех, сказала мне, помню ли я стихи Кольцова «Обойми, поцелуй и т. д.»; я стал говорить их — «На полгода всего мы расстаться должны». — «Вот это я хочу вам напомнить, вы подаете эти надежды». — «Не знаю, сбудется ли это — мало ли что ожидаешь и что не сбывается». — «Зачем же возбуждать надежды?» — «Вот видите, я чрезвычайно привязан к О. С., но она ко мне нисколько» (это я говорил, что думал). — «Да как же можно так скоро?» — «Я ничего не хочу, а говорю только, что от своих слов я не откажусь, но что от неё я не вправе ничего ожидать».
Итак, в 5 час. мы явились с Фёд. Дим. Акимовы были уж у них. Она сидела в каком-то белом платье, должно быть не своем, или в блузе, во всяком случае оно было весьма широко. Они сидели в комнате Ростислава; они с Катер. Матв. и Афанасией Яковлевной целый день шалили и переодевались во всевозможные наряды. Она тотчас убежала и переоделась — вот что, со мной, при мне она не хочет дурачиться, для меня она держит себя не так, как для других — я что-нибудь значу в её глазах. Мы пошли в зал. Первую кадриль она имела кавалера — Гуськова, вторую хотела танцевать со мною, третью я должен был с Кат. Матв. В первую кадриль я пригласил Елену Вас., которая весь вечер страшно хотела любезничать со мной. Но она решительно дурная девушка и с ней я не хочу дурачиться, даже, напр., как с Вороновою, потому что она в самом деле кокетка. Я, впрочем, говорил ей довольно много о своей ненаходчивости в разговорах — в оправдание, что я не говорил с ней, и рассказывал довольно много примеров этого, между прочим, о разговорах с Шапошниковою, так что это имело вид откровенности. «Вы будете у нас в воскресенье?» — «Буду». — «Когда?» — «Поутру» (потому что я думал, что вечером будет О. С. у Патр., но теперь буду вечером, потому что вечером О. С. будет у Акимовых). Я [515] кроме того весьма много говорил с Кат. Матв., почти весь конец вечера. Это добрая девушка, но более ничего как обыкновенна и добрая девушка, впрочем умная девушка, с которой можно быть откровенным. Она довольно много понимает в наших отношениях с О. С.
С О. С. я говорил весьма мало, почти только между второю кадрилью и в самом конце вечера, и Вас. Дим. был весьма недоволен моею нелюбезностью и сказал, что я держу себя ни на что не похоже. Я под конец вечера — всё время ходил я с ним и с Кат. Матв. — сказал ему на его повторенные слова, что я плох до крайности, что ему, наконец, стыдно иметь такого protégé. «Наши отношения с О. С. довольно странны». — Он несколько понимает их, хотя не знает, кажется, всего. — «Без этих отношений я не поехал бы в Петербург». — Он всё хвалил её, говорил, что имей [он] возможность доставить, ей такую жизнь, к какой она привыкла, он женился бы на ней. Значит, он не знает моих отношений к ней вполне. Рассказывал мне о том, какое её житье, как Ростислав раз сказал ей, когда она приехала к Патрик. от Гуськовых одна: «Я скажу отцу, что ты была в гостинице». Хотел сказать ещё более об этом при случае. Сказал, что мать не любит её до того, что не хотела отдать её за Персидского, который весьма хороший человек и который ей нравился. Он сказал Сократу Евг., тот сказал, что он не прочь, что должно переговорить с Анной Кирил. «Приезжает он раз — больна, в другой — тоже, в 3, 4 — тоже, и дело тем кончилось».
Шутка с доскою для арифметики, которая стоит у них в углу залы подле передней. В первую кадриль мой визави Воронов любезничал со своей дамою Лидией Иван. (Рычкова, кажется). Фёд. Дим. и Пав. Вас., которые не танцевали, написали на доске: «Дежурные старшины Ф. Д. Чесноков и Пав. Вас. Акимов», я тотчас написал вверху: «На свадьбе Лид. Ив. и Мих. Алекс.». Рычкова оскорбилась и ушла. Мы написали вверху: «Свадьба расстроилась», и понесли доску в заднюю комнату, где сидели служители — она была там — она вышла после этого, но О. Сокр. сказала, что она рассердилась и хотела жаловаться тётке, Дарье Кирил. Чтоб сколько-нибудь укротить её, она велела мне написать «О. С. и Ник. Гавр.» и я написал это на двери в переднюю, как бы тайком. Ей тотчас это показали, я не хотел показывать, она, кажется, несколько успокоилась. Какая находчивость и какая доброта! Сколько раз уж я делал подобные неловкости и ставил О. С. в неприятное положение,— и она не оскорблялась, не капризничала никогда. Вас. Дим. говорил о ней под конец вечера в самых выгодных выражениях, и я нашёл тут настоящее слово: «Ольга Сократовна редкая девушка».
Теперь кончил описание всех эпизодов, и я начинаю записывать разговоры с ней. (Но раньше иду пить чай и после съезжу к Колесникову за 1 № «Современника» для неё.) [516]
Вообще, должен сказать, что мне она с каждым новым свиданием больше нравится. И с каждым новым свиданием в самом деле я больше и больше вижу в ней чудных, удивительных качеств сердца и характера, с каждым новым свиданием больше и больше вижу в ней редкого ума. О её уме все говорят в один голос. Качества её души ценит и Вас. Дим., и все знающие её коротко, напр. и (даже он!) С. Г. Шапошников и Кат. Матв., которая может ценить, потому что сама весьма добрая девушка. Но я ценю их гораздо более всех, потому что — скажу прямо — во мне самом есть много благородства и нежности, потому мне вполне понятны благородство и нежность, вполне понятны чудные качества её души. Прощай до 7 часов, мой милый дневник.
Писано 17, вторник, 12⅓ час. утра.
Мы всё воскресенье говорили с ней мало.
Sie konnte mir kein Wörtchen sagen, Zu viele Lauscher waren wach, Nur ihrem Blick ich konnte fragen, Und wohl verstand ich, was er sprach.[452]
Она держала себя в отношении ко мне так, что показывала, что уверена, что я уж не нуждаюсь в доказательствах её приязни ко мне. И я был совершенно доволен. Зачем при других выказывать внимательность, когда я уверен в этом. Разговоры наши были весьма кратки. Первый был у стола, который стоит на улицу к гостиной ближе. На нём лежал гребешок, она взяла его и сказала Катерине Матвеевне: «Как же можно так бросать?» — «А вы часто и долго бываете перед зеркалом?» — сказал я. — «Я одеваюсь перед зеркалами только на бал; а так я только вхожу в зал взглянуть, когда уж одета, всё ли так; волоса мне причесывает девушка, что ж мне быть перед зеркалами?» — Вот девушка! У неё нет даже зеркала, и это правда, я уверен в этом! И я решительно уверен в том, что сказала мне после Кат. Матв.: «Оля решительно не занята собою, хотя держит себя гораздо свободнее Елены Васильевны» (она перед этим сказала, что Елена Вас. весьма занята собою). Да, это совершенная правда.
Потом, когда пили чай (после первой кадрили; вторую я должен был танцевать с ней), мы ходили несколько времени по зале вместе,— она подошла сказать мне, что скоро будет и моя очередь отправиться к Анне Кирилловне на испытание — она поочередно вводит к ней молодых людей. — «Не думайте, чтоб это было для меня особенно скучно. Я вам говорю правду, что для меня всякий разговор потерял свой интерес, кроме разговора с вами. Если говорить не с вами, то для меня решительно всё равно — говорить ли с Анной Кирилловной, Кат. Ник., Вас. Дим., Кат. Матв. — решительно всё равно». Я сказал, что принёс свой прежний дневник, петербургский, прочитать ей несколько мест о том, как я жил [517] в Петербурге. — «Я не могу прочитать его?» — «Нет, он так мною написан, что его нельзя разобрать». — «Ах, как это дурно. Зачем же вы принесли? Вы и так можете рассказать». — «Для того, чтобы вы не могли усомниться в том, что я буду читать правду». — «Я и так поверю». — «Я отыскал там романтическое место,— об одном вечере, на котором я был». — «О, если ваши воспоминания ограничиваются только этим, то нечего о них беспокоиться». — «Вы меня сильно огорчили, О. С., во вторник, когда я был у вас на минуту: вы сказали, чтоб я оставался до конца июня для Венедикта,— неужели вам это кажется важнее?» — «Но ведь вы сказали, что это дело устроится и тогда, если вы уедете? Конечно, это мне кажется важнее, потому что ведь всё равно, когда вы ни уедете, вы не воротитесь от этого раньше?» — «Нет, всё-таки это ускорит мой приезд». И она отвела меня к Ан. Кир. — «Но сейчас начнут танцевать, я должен танцевать с вами эту кадриль?» — «Всё равно, протанцуете четвёртую». — «Да будет ли четвёртая?» — «Конечно, будет». — Четвёртой не было, и я не танцевал с нею в этот вечер, но это для меня нисколько не прискорбно, потому что мы с ней теперь обходимся как жених с невестой, как друзья, уверенные друг в друге, которым не нужно мелкой расчётливости в внимательности и любезности для того, чтобы понимать привязанность друг к другу.
Я отправился к Анне Кирилловне. Она говорила о том, что иные девицы бойки весьма, о том, что Ел. Вас. кажется выходит замуж неохотно. Я, чтоб угодить ей, говорил, что ведь, конечно, принудить бог знает как, но и на собственный выбор девицы часто нельзя положиться. Она расспрашивала меня о Пасхаловой, я говорил много и оправдывал её. Наконец — я просидел минут 25 — Кат. Матв. пришла вызвать меня танцевать третью кадриль. Тут-то мы говорили о том, что О. С. не кокетка и не занята собою.
После этого, через несколько времени, я говорил минуты две с О. С., после того, как Вас. Дим. сказал мне о том, как мать не любит её до того, что не хотела отдать её за Персидского: «О. С., а если ваши не согласятся, чтобы вы вышли за меня?» — «Кто ж? Разве один папенька». — «А Анна Кирилловна?» — «Этого нельзя ожидать». — «А как же, вас сватал Персидский и она не захотела?» — «Тогда я была ребёнок, это дело началось, когда мне было 15 лет, и кончилось, когда мне не было почти 16. Она не хотела, чтоб я таким ребёнком вышла замуж. Да и теперь она называет меня девочкою, говорит, что я ещё не привыкла заниматься хозяйством. Я тогда ещё училась. Она не хотела, чтобы я прямо со школьной скамьи вышла замуж. Да и я после ещё училась, я училась до 17 лет».
Этот разговор совершенно удовлетворил меня. Кажется, насчёт Анны Кир. я могу быть спокойным. А теперь спокоен и насчёт Сократа Евгеньевича, потому что он не согласился бы только из любви к ней, из опасения, что я не составлю её счастья; а теперь, когда буду знаком с ним, он увидит, что я хороший человек [518] и что, насколько от меня будет зависеть, она будет счастлива. Перед тем, как она отвела меня к Ан. Кир. и когда мы ходили, пока я пил чай, перед словами, что для меня всё равно, с кем ни говорить, если не с ней, я говорил ей: «Я не влюблён в вас, вы только чрезвычайно мне нравитесь, как никто никогда даже в отдаленной степени не нравился. Я только убеждён, что я буду вполне счастлив с вами. Я убеждён решительно и в том, что вы не пожалеете никогда о том, что вышли за меня, кроме только одного; за одно я не ручаюсь — это за то, что у меня будет много денег». — «Да разве в деньгах счастье?» — «Деньги одно из условий счастья» — «Это так». — «Да, я только за это не ручаюсь. За всё остальное я ручаюсь перед собою. Никогда с моей стороны [не] будет кроме этого ничего, что бы могло мешать нашему счастью». — «А с моей?» — «Я уверен, совершенно уверен, что и с вашей тоже никогда ничего, что бы когда-нибудь возмутило моё счастье». — «А если я буду виновна в чём-нибудь перед вами?» — «Я в том уверен, что никогда ни в чём». — «Почем знать? Конечно, я не могу быть виновна из каприза, но мало ли что может быть?» — «Нет, в вас я уверен совершенно, что вы можете быть только источником счастья».
Теперь иду к Колесникову. Остаётся только разговор перед отъездом.
Наконец, после как мы всё ходили с Кат. Матв., и Патр. стали собираться домой, О. С. подошла ко мне, взяла мою руку от Кат. Матв. и сказала ей: «Ты ныне совсем отбила у меня Николая Гавриловича», Всё в этот вечер происходило так, как бы она имела полное право на меня, и мне не нужно ухаживать за нею. «Когда мы теперь увидимся с вами?» — сказал я. — «В воскресенье у Акимовых». — «Утром вы будете у Патрикеевых?» — «Буду». — «Я могу там быть?» — «Можете». — «А раньше?» — «Нет, раньше нельзя». — «Вы не будете у Патрикеевых на этой неделе?» — «Нет». — «Вы будете говеть, и вас можно видеть в церкви?» — «Нет, не буду говеть, потому что будет грязно, лошади нужны для папеньки».[453]
Стали прощаться. «О. С., почему вы не хотите познакомить меня с Сократом Евгеньичем?» — «Если хотите, сейчас можно». (Я думал в самом деле, что она почему-нибудь не хочет, чтобы я был знаком с ним.) И она повела меня к нему в кабинет. «Папенька, рекомендую вам Николая Гавриловича Чернышевского». Он взял меня за руку и просил бывать у него. — «Я сам тоже люблю что-нибудь поговорить; я сам был в университете, да ещё на казенном. Медицина мне надоела, и я люблю поговорить о чём-нибудь. Вот теперь читаю «Русскую историю» Ишимовой. Хорошо [519] написано и прекрасный язык». Я простился с ним и спросил О. С., когда я могу быть у него. Она сказала, что можно в четверг. «Достаньте мне 1 № «Современника» за нынешний год, там мне весьма хвалят одну повесть». — «Достану, только не знаю, скоро ли, потому что я не читаю ныне ничего». — «Достаньте поскорее». Мы стали прощаться. Она вышла на крыльцо, и я несколько раз поцеловал её руку в передней (тут она сказала снова, что говорила раньше: «Как он целует — совершенно машинально», потому что я сам сказал эти слова, сказанные ею раньше) и потом на крыльце.
Я расстался с ней решительно довольный вечером, хотя другой на моём месте и не был [бы] доволен, потому что она избегала любезничать со мною, но для меня именно это и служило самым лучшим доказательством её истинной привязанности и уверенности в моей привязанности.
Когда на другой день вечером Вас. Дим. был у меня, он сказал, что когда он просил её быть на-днях у Патр., она спросила его: «Для кого вы хотите этого?» — «Собственно для себя, не для кого другого. Но почему вы так неласковы с Чернышевским?» — «Это могло б зайти слишком далеко. Я пошла бы за него, но он уезжает, и нельзя нам не остерегаться, чтобы не зайти слишком далеко». Я уверен, что это правда, что она в самом деле ставит меня выше и лучше всех, что она ценит мою привязанность.
Теперь понедельник. Я съездил за «Современником» к Колесникову, у которого он был, и решился сам теперь же отвезти им его, а не дожидаться до утра, чтобы передать через Венедикта. Но у меня было некоторое сомнение: понравится ли ей моё посещение, и кроме того, я был не причесан, не приглажен; нужды нет, зачем заставлять её дожидаться лишние сутки? Да мне хотелось и показать ей моё рвение тотчас исполнять её желания. Я взошёл. Она сидела в зале и читала. Я не стал скидывать шубы. Она вышла ко мне к дверям передней и взяла книгу. «Уж достал? Как скоро. Какой милый, милый!» Я несколько раз поцеловал её руку, не с пламенною пылкостью, а с спокойною нежностью. «О. С., я буду в четверг у С. Евг.». — «Будьте». — «В 6 часов?» — «Да, около вот этого же времени» — было около 6½ часов. Я ещё несколько раз поцеловал её руку.
Прости, моя милая невеста, будь счастлива, как я счастлив тобою. Прости до четверга и будь счастлива. ещё два дня, и опять увижу тебя. Прости, будь счастлива.
Да будешь ты счастлива!
Должен записать ещё перемену в моих чувствах с тех пор, как я писал свои размышления. Теперь я перестал ревновать или завидовать, потому что убедился решительно в том, что она вовсе не кокетничает и что желание вскружить голову всякому, кто попадётся ей в руки, как выражается Палимпсестов, решительно ей чуждо. Этого мало. ещё важнее. Я убедился, что никого она не предпочитает мне, что её чувство ко мне, или, лучше сказать, её мысли обо мне решительно серьёзны и довольно глубоки, что она [520] привязана ко мне, или, лучше сказать, что я в её глазах более всех достоин любви и что ни о ком, кроме меня, она не думает и никогда не подумает, кроме разве того случая, что серьёзно и пламенно влюбится в кого-нибудь — вещь не очень вероятная, по её собственным словам, которые должно быть решительно справедливы и в искренности которых я убеждён точно так же, как в своих чувствах к ней. Теперь я решительно спокойно чувствую к ней чрезвычайно сильную привязанность. Прошло время беспокойства, время сомнений в том, может ли она верить мне, или может ли она оценить, как глубоко и нежно [я] привязан к ней. Теперь моя привязанность решительно тиха и спокойна, но чрезвычайно глубока, сильна и нежна. О, да будешь ты счастлива, моя милая невеста!
Писано 18 марта в 10½ ч. вечера. Промежуток между свиданиями.
Когда я шёл из гимназии, меня догнал Воронов и сказал мне, что «вы хотели быть у них в четверг — О. С. сказала, что их дома не будет до вторника: завтра именины Дарьи Кирилловны, они будут у неё; воскресенье и понедельник именины и рождение Лидии Ивановны».
Я посмеялся этому несчастью перед Вороновым, но это меня обескуражило решительно. Почему? Не умею хорошенько сказать почему. Может казаться мне — потому, что она вообще не дорожит случаями видеться со мною? Она решительно не имеет ко мне привязанности. Но я сам знаю, что это неправда, что она избегает случаев видеться со мною потому, чтоб ещё больше не начали говорить о нас, уж и теперь говорят. Или — это ближе — зачем она сказала Воронову, что я хотел быть у них в четверг, зачем она передает мне через него? Она могла бы сказать это через брата. Воронов не так чист и не так привязан к ней, как Чесноков — зачем выбирать его посредником? Но и это не то — нет — скажу, что — весьма глупо — однако ближе всего к истине. Это то, что я влюблён в неё; мало того, что привязан к ней — мне нужно её видеть; мало того, что я думаю, что лучшей жены для меня не может быть; мало того, что я думаю, что я буду счастлив — во мне потребность видеть её теперь. Глупо, весьма глупо быть влюблённым — а между тем это правда. Правду я сказал ей, когда был у неё в четверг 12: «Я ожидал от себя подобных вещей, но чтобы, наконец, они были в таком размере, этого уж я не ожидал. Я ожидал, что буду делать глупости, но что буду делать такие глупости, на это уж я от себя не надеялся. А со временем вероятно это всё будет ещё в большем размере, чем теперь». Так и есть, так и выходит. Я всё более и более увлекаюсь. Чем же, наконец, это кончится? До чего, наконец, это дойдёт?
Но Вас. Дим. сказал мне, что будет просить её быть завтра у них. Если она не будет у них, я всё-таки буду у С. Евг. Всё равно, будет ли она дома или нет, увижу ли её или нет. Но должно [521] быть я завтра увижусь с ней. А если завтра не застану её дома, буду у них в пятницу или в субботу. Нет, воля ваша, О. С., вы доводите меня до решительно глупого состояния, до состояния влюблённости.
Да будешь ты счастлива, давшая мне столько счастья!
Писано 20 марта, 8 утра. Описание четверга.
Вас. Дим. Чесноков упросил О. С. быть у них в четверг, потому что Д. Гавр. именинница. Я пришёл, когда их ещё не было. Наконец приехали. Пошли мы из флигеля в дом. О. С. села на креслах с правой стороны дивана, Катерина Матв. на диване, я подле неё. О. С. была весьма грустна. Отчего? Она получила ныне письмо, в котором писали ей о смерти Рычкова и ещё какого-то Виктора, «которого я любила», сказала она. Она на память сделала его портрет и показала мне. Она была чрезвычайно грустна, и в весь вечер часто у неё показывались слёзы, наконец, она несколько раз принималась плакать, несколько раз уходила, чтоб посидеть одной. Я не сумел заставить её высказаться мне и тем сколько-нибудь облегчить свою печаль. Она в весь вечер избегала меня. Только раз удалось мне говорить с ней и то так неловко, что она не поняла моих настоящих чувств. Это было вот как. Раньше, часов в 7½, она ходила по зале с Кат. Матв., я присоединился к ним. Кат. Матв. стала говорить с Ростиславом, я остался с ней. «Кто ж умер? брат?» — «Да»,— сказала она, нехотя. «В таком случае эта печаль вовсе не так серьёзна и долга, как я думал. Мы родных любим так, что потеря их не так глубоко огорчает нас. Вот если бы это был посторонний[454], дело другое», и т. д. Я говорил несколько минут в этом роде, но так глупо, что она приняла это за выражение ревности и ушла. Я после сказал это, что понял, что она думает, что я ревную, и уверял, что этого нет, что это только выражение одного сочувствия, по которому всё, что радует её, радует меня, и что огорчает её, огорчает меня. Она не поверила. И скоро уехала. Я должен был остаться, чтобы не показать виду, что был только для неё; не посмел даже проводить её. Что теперь делать? Ныне в перемену позову Венедикта к себе и поговорю с ним, если можно с ним говорить серьёзно.
Что возбудила во мне её печаль о смерти этого молодого человека? Нет, вовсе не ревность. Нет, одну только скорбь о её скорби. Но правда и то, что я сказал ей: «Кроме того, что я огорчен вашею печалью, я огорчен ещё тем, что вы не доверяете мне, что вы не видите, какое чувство возбуждает во мне ваша печаль о нём, и считаете это чувство ревностью».
Я после, когда она уехала, говорил с Вас. Дим. о наших с ней [522] отношениях и высказал свои намерения, не высказывая своего разговора с нею в четверг 19 февраля.
Что теперь делать? Вероятно, буду просить Венедикта попросить её от меня, чтобы она была дома и поговорила со мною несколько минут, а сам пойду к Сокр. Евг. и посижу с ним, пока он поедет к больным. Постараюсь, чтоб она поняла моё настоящее чувство, мой настоящий характер. Едва ли это удастся сразу. Для чего я это сделаю? Чтоб она могла мне поверить, высказать свою печаль и тем несколько облегчить её. И для того, чтоб она больше поняла меня и лучше увидела, что если она редкая девушка, то и я редкий человек, человек, с которым можно говорить все; который в состоянии выслушать, понять все; понять всё, что ему говорят, так, как понимает это человек, который говорит ему, как чувствует это он сам; что я человек, который сочувствует всему, даже тому, что в других возбуждает не сочувствие, а ревность или зависть; что я человек с мягкою душою, открытой сочувствию для всякого горя, для всякой радости. А это для чего? Потому что за это более всего можно привязаться ко мне, это лучшая сторона во мне, и я хочу, чтоб она знала и оценила её. Мало того: я хочу, чтобы наши отношения как можно скорее стали такими, какими они всегда должны быть со мною; что каковы бы ни были мои чувства, хоть даже любовь, хоть даже влюблённость, но что прежде всего — я друг; прежде всего я живу не своею жизнью, а жизнью тех, кого люблю. Установить эти отношения весьма важно для нашего будущего счастья.
Но быть у ней ныне, говорить с ней ныне — не слишком ли это рано? Не значит ли это надоедать ей? В таком ли она состоянии, чтоб могла рассудить и понять кого-нибудь и что-нибудь, кроме своей скорби? Так, рано; поэтому может быть и будет лучше, если она не захочет ныне говорить со мною; но я должен ныне же показать ей готовность говорить с ней, чтоб впоследствии, когда она будет в состоянии говорить со мною, она знала, что я всегда буду таков; что ревность, зависть ни на минуту не были в моей душе от этой скорби об умершем милом. Я думаю теперь о ней больше, чем раньше. Я всю ночь видел её во сне, что было только один раз до сих пор, да и то во время какой-то бессонницы, продолжавшейся часа два. Теперь я спал весьма крепко, но всю ночь виделась мне она и думалось о ней. Я грущу её грустью и грущу, что она до сих пор не оценила во мне лучшей моей стороны — способности быть поверенным, того, что со мною можно и должно говорить все.
Alle das Neigen Von Herzen zu Herzen. Ach! wie so eigen Schaffet das Schmerzen!
Но я сочувствую ей больше, чем когда-нибудь, потому что всякое несчастье, всякое горе заставляет меня более интересо[523]ваться человеком, усиливает моё расположение к нему. Если человек в радости, я радуюсь с ним. Но если он в горе, я полнее разделяю его горе, чем разделял его радость, и люблю его гораздо больше.
Писано в 12 час. вечера. Пятница.
В гимназии я говорил с Тищенко, который сказал, что О. С. поехала заказывать себе чёрное платье и весьма грустила, много плакала это утро. Я через него передал Венедикту, чтобы он был у него в 12 часов. Мы пошли. И просидели около часу. «Венедикт Сократович, вы дитя или нет, с вами можно говорить серьёзно? Вы будете смеяться или перескажете не так?» — «Говорите, перескажу так». — «Я хочу быть ныне у Сокр. Евг. Будет ли О. С. дома?» (я хотел в таком случае просить её поговорить со мною несколько минут). — «Нет. Значит и вы не будете?» — «Нет, всё равно, буду. Мне бы хотелось ещё кое-что вам сказать, чтобы вы передали». И я стал говорить о том, чтоб он передал О. С., что она решительно ошибалась, приписывая мой вчерашний разговор чувству ревности (эти слова я однако не высказал, потому что он не знает, кажется, о ком она грустит), приписывая моё желание заставить вчера её говорить какому-нибудь другому чувству, кроме того, [о] котором я говорил ей — желанию облегчить несколько её горесть, давши ей возможность высказаться, и чувству скорби о её скорби. Я чрезвычайно расстроен её горем. Почти как она сама. Нет, конечно, менее, чем она, но всё-таки весьма расстроен, так что не мог ни вчера, ни ныне ни читать, ни писать. Когда человек в горе, он занимает меня вдвое более. Я никогда не видел её во сне, кроме того, что раз как-то мне не спалось и я только дремал и, конечно, думал о ней, как всегда думаю о ней. Но нынешнюю ночь я всю ночь видел её во сне. — И т. д. О её характере, в общих выражениях, так, чтобы она поняла их, если он будет пересказывать сколько-нибудь верно; для того, чтоб он теперь понял, я говорил о чувстве ревности, о том, что не могу ревновать её, потому что слишком знаю её; о том, что я с этой стороны настолько знаю, чтоб не нуждаться в расспрашивании; о том, что я человек, который прежде всего создан быть поверенным, которому можно говорить всё; что это замечали мне люди, которые не любят меня и которых я не люблю (я говорю о Пасхаловой), которые, однако, говорили мне, что «на вас можно положиться более, чем на кого-нибудь, с вами скорее будешь высказываться, чем с кем-нибудь». Я говорил о том, что без отношений к ней никогда не уехал бы из Саратова, потому что жаль было бы покинуть маменьку, и т. д. Не знаю, как передаст он и как она примет этот мой поступок — и как она поверит тому, что я пересказывал через него, но мне стало несколько легче, когда я высказался перед ним с надеждою, что он хотя сколько-нибудь передаст ей.
После обеда спал, потому что не шла работа на ум. Я решительно не мог работать. Проснулся в 6 почти, так что когда вошёл [524] на двор к Васильевым, уже стояла лошадь для Сокр. Евг., и я не пошёл. Отчасти не пошёл и для того, чтоб успеть побывать у Шапошн. для того, чтобы выпросить маменьке березовки. Мне жаль её, всего более жаль потому, что я покидаю её, которая живёт одним мною, покидаю для О. С., которая не чувствует ко мне никакой особой привязанности. Мне совестно перед ней, что я так мало люблю её в сравнении с О. С., которая слишком мало любит меня.
Но всё-таки в ней моя жизнь, в ней моя радость и скорбь.
Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Ufer's Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge vom Weinen getriibet: «Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter giebt nichts dem Wunsche nach mehr. Du Heilige, rufe dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!»
Она говорила вчера: «Теперь я желала бы умереть. Это первая потеря человека, близкого моему сердцу». —
Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf, Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust Nach der süssen Liebe verschwundener Lust, Ich, die Himmlische will's nicht versagen. Lass rinnen der Thränen vergeblichen Lauf, Es wecke die Klage den Toten nicht auf! Das süsseste Glück für die traurende Brust Nach der schönen Liebe verschwundener Lust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen[455].
О, буду плакать вместе с тобою о твоем погибшем милом, моя милая, моя милая, милая!
И я плачу в самом деле.
Писано 26 марта 11½ час. Буду короток как можно более, потому что некогда быть длинным.
Воскресенья 22 марта я дожидался с чрезвычайным нетерпением, чтобы встретить её у Акимовых. Всё-таки я не совсем рас[525]считывал на это, поэтому даже мало одевался. Но она была там. Наконец, танцуя кадриль, я ей говорю о моей скорби. Доказательства в тоне, каким я говорю, и на моём лице. После сидим с нею в гостиной, пока другие танцуют гросфатер. Она говорит мне, что теперь менее печальна, чем раньше, чем ныне поутру; и она была, правда, печальна, но всё-таки не до такой степени, как раньше. Я почувствовал, что у меня на сердце становится легче. Она, наконец, когда подали водку, начала шалить с Пригаровским, который был подле на диване (мы сидели на креслах к зале), заставляла его пить водку и грозила, если он не будет пить, вылить ему на голову, и вылила в самом деле целую рюмку. И я начал шалить: мешал ему пить, когда подавала она, и т. д. Две рюмки розлил, наконец, унёс бутылку. И продолжал шалить. Она, наконец, рассердилась, принявши это за дерзость, преднамеренную с моей стороны. Может быть я и сделал в продолжение этих шуток какую-нибудь дерзость, но не замечая сам. Когда ушли в зал, она подала руку Палимпсестову и сказала, что не хочет говорить со мною. Я несколько приставал к ней, чтоб она говорила со мною, потому что мне хотелось узнать, чем я оскорбил её, и кроме того спросить, почему она думает, что я не могу понравиться Анне Кирилловне, и что я думаю, что понравлюсь, поэтому буду у неё, если О. С. позволит. Но она не хотела говорить и наконец (это было, когда они с Палим. шли по зале к гостиной против дверей передней) — «Вы хотите быть со мною так же дерзки, как с Наташей — с нею можно, потому что она девочка, но с собою я не позволю так обращаться, потому что я девица. Я отвечу вот чем» — и она приподняла несколько руку (т. е. вы заставите меня ударить вас по щеке). Видя, что она решительно рассержена, я оставил её. Но когда (тотчас после этого) стала уезжать, я на лестнице спросил, в самом ли деле я её оскорбил.
Продолжаю писать в 9 часов, воротившись от О. С.
«Oui, je suis fâchée»[456]. — «Ну, это ещё ничего, не в этом дело — оскорбил ли я вас в самом деле?» — «Oui, je suis fâchée» — и она не хотела подать мне руки ни тут на прощаньи, ни после, когда стали разъезжаться (тут они поехали все вместе, я с Бусловским и Кат. Матв., после один). Это меня расстроило до крайности. Памятниками этого расстройства осталось недописанное письмо к ней и письмо к Саше, писанное во вторник, и ещё то, что я не хотел ничего писать об этом в дневнике, пока дела не устроятся.
Наконец настало благовещение. Я все три ночи — на понедельник, вторник и среду — не засыпал до часу, двух или более, поэтому просыпался поздно и утомлённый, поэтому проспал и обедню раннюю. Прихожу к поздней в шубе, смотрю — в левом приделе назади стоит Кат. Матв. и подле неё Полина Ивановна Рыч[526]кова. — О. С. с первого раза я не заметил, но думал, что она должна быть тут, поэтому посмотрел ещё раз — она стоит между ними, и когда я оборотился, спряталась за Полину Ивановну. О, так она перестала сердиться, потому что начинает шутить — я думал, что она серьёзно и долго будет сердиться,— о, так я подойду к ним. Когда я не видел её, я хотел подойти; когда увидел, что тут, не хотел, чтобы больше не оскорбить её своими преследованиями, теперь увидел, что не сердится, поэтому решился подойти. — Я ушёл домой, чтобы несколько одеться, потому что теперь ясно, они поедут к Патрикеевым, а Патрикеевы может быть позовут меня — воротился, стал и начал говорить с Кат. Матв., которая стояла слева. О. С. через минуту оборотилась и сказала, чтобы я не говорил. — Я отвечал, как обыкновенно, шутливо-равнодушным тоном: «Я говорю не с вами, для вас должно быть всё равно». — «Да вы мне мешаете молиться, уйдите». — «Если вам неприятно, вы можете уйти, куда вам угодно» — и продолжал говорить с Кат. Матв. Она ушла и стала сзади меня, подле О. Андр., но решительно подле меня. Я продолжал говорить с Кат. Матв., которая сердилась и смеялась. О. С. начинала говорить со мною и страшно хохотала своему разговору и моим ответам; наконец она сказала: «Что вы не молитесь?» — «Если вы приказываете, буду молиться»,— и несколько раз она велела мне становиться на колени, молиться в землю. В это время опустил мне её муфту Воронов, который стоял подле — верно, по её приказанию — я взял муфту и, поклонившись в землю, поцеловал её, потом поцеловал платье Кат. Матв. и сделал это несколько раз, пока взяли у меня муфту, тогда я, когда она велела мне становиться на колени, целовал платье Кат. Матв. и так шалил страшным образом во всю обедню, так что все, кто стоял кругом, смотрели на нас. Она шалила, спрятала в карман моего пальто свои ключи, перчатки, четки и т. д., наконец, что я заметил только, когда был у Кобылина, положила мне в карман папироску — где она её взяла, бог знает. После конца обедни я спросил её, будет ли она у Патр. вечером. Она сказала, что нет. Они поехали к Патр., я не зашёл к ним утром, хоть и думал, что может быть зайду: вместо этого пошёл к Малышеву, которого не застал дома, и потом просидел до 1½ у Кобылина. Анжелика Алексеевна сказала, чтоб я у них обедал; я пошёл домой, стал собираться, чтобы быть у них в 3½; в это время принесли мне от Вас. Дим. записку, чтоб я был в 5 ч. у Патр. Я зашёл к нему и сказал, что буду. От Кобылина отправился в ½ 6-го, Когда пришёл, у Патр. были уже все, т. е. Рычковы, Шапошникова, Чесноковы, наконец Ростислав, но её не было в этих комнатах. Она была в задних, куда ушла должно быть нарочно, увидя меня в передней. Наконец, она вышла и, проходя мимо (я сидел в гостиной с О. Андр.), только поклонилась на мой поклон, но не подала мне руки.
Когда начинали танцевать первую кадриль, Кат. Матв. сказала мне, чтоб я просил О. С., потому что она хочет танцевать со [527] мной,— я подошёл, но она сказала, что имеет кавалера. «Которую же вы хотите танцевать со мной?» — «Никоторой», но (вторую я танцевал с Афанасиею Яковлевной) в третью кадриль, когда я должен был танцевать с Кат. Матв., она сказала, что танцует со мной — потом она танцевала со мной следующую кадриль — их только я и танцевал, потому что другие кадрили она не танцевала, так что я не танцевал с Кат. Матв. Потом она сидела со мной в гостиной, сначала у окна, которое к зале, после на креслах, которые от дивана к зале — потом ушла играть на фортепиано; потом села с Лидиею Ивановной подле окна, которое к гостиной; я стоял подле, и, когда она уходила, садился говорить с Лид. Иван. Наконец, Лидия Ив. ушла, и мы сидели одни. После этого ещё несколько времени мы ходили по зале. Что тут было сказано замечательного, буду писать как можно короче, потому что недостаёт времени.
Когда мы танцевали вторую кадриль, мы сидели подле двери из передней.
Тут я начал своё объяснение относительно воскресенья. Сущность разговора была в следующих словах, сказанных с самого начала: «Вы ещё слишком молоды, я бы вас более любил, если бы вы были годом старше. Вы не понимаете значения того, что делаете, потому что в воскресенье вы сказали мне такие слова, которые имели на меня ужасное действие,— вы не понимали, как оно велико, вы ещё не понимаете всей серьёзности некоторых вещей. — Она говорила, что я был дерзок нарочно, потому что у меня всё делается обдуманно, и что она не верит моим словам, что это было непреднамеренно, что я был дерзок нарочно, чтобы показать, что могу обращаться с нею как с другими. Потом мы сидели у окна, которое к гостиной; тут она сказала мне, что я один только раз оскорбил её. — «И что ж это такое?» — «Я это не скажу, вы должны знать сами». — Я начал припоминать, что было серьёзного говорено мною ей, но не мог отгадать. Наконец, она сказала: «Когда вы были у нас и мы сидели в столовой». — Я начал перебирать весь разговор и, наконец, дошёл до места — я женюсь на вас только потому, что думаю этим сделать вам услугу. «Вы сказали «почти» — я сказал, что хочу, прямо, можно опустить «почти» — это оскорбило её (я думал, что это должно быть в высшей степени оскорбительно, но не заметил, что она этим оскорбилась — смотри этот дневник, размышления о ней) — это оскорбило её, и она так долго не доверялась мне потому, что это оскорбило её — как мало ещё она откровенна со мною. — Я стал говорить о странности моих понятий, о том, что я хотя понимаю, что это оскорбительно, но готов всегда сказать это во второй раз, если понадобится, начал говорить о том, что мои понятия во многом странны, и разговор перешёл к моим понятиям о супружеских отношениях. — «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» — «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». — «Что ж бы вы тогда сделали?» — Я рассказал ей «Жака» Жорж-[528]Занда. «Что ж бы вы, тоже застрелились?» — «Не думаю», и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занда (она не читала его или во всяком случае не помнит его идей; ныне был у Костомарова, у него нет Жорж Занда, и сказал ей нынче об этом). Наконец, подошла Лидия Ивановна и сказала, что Ан. Кир. поручила поцеловать меня и сделать выговор, что я позабыл их, а раньше этого О. С. сказала мне, что Ростислав говорил Ан. Кир. накануне, что она мне нравится и что я хочу сделать ей предложение, и что Ан. Кир. сказала, что она будет согласна, и Ростислав требовал, чтобы и она согласилась, и что когда она ушла и легла в постель, Ростислав подошёл к ней и приставал до тех пор, пока она сказала, что согласится. — «Так я буду у вас». — «Теперь можно бывать, потому что вам дано не только разрешение, даже приказание» — и наконец, когда прощались и все вышли в переднюю вместе, она сказала: «Demain, à cinq heures[457]». Итак, я был у них ныне в 5 часов и пробыл до 8½, сидел с полчаса с Сокр. Евг., 3 раза был у Анны Кирил., в разговоре с которой попадались намёки, на которые я тоже отвечал намёками. Теперь разговор с нею ныне. Я предугадывал, что она ведёт к этому и что кончится тем, что она мне говорила, но не приготовился к этому, не обдумывал этого, потому что считал это не совсем вероятным после её слов, что она не хочет этого (чтоб раньше моей поездки) — это было сказано ею мне у Акимовых.
26 марта. У неё (продолжаю писать 27-го, пятн. 6½ час. утра).
Она решительно изменила своё обращение со мною — не стесняется ничем со мною, так же, как раньше не стеснялась, напр., с Вас. Дим., и теперь сама сказала, что в субботу я должен быть у них, а в воскресенье может быть у неё будет Кат. Матв., и тогда я снова должен быть. Но сущностью разговора были слова, которые она сказала мне, когда я воротился от её матери: «Поедем в Петербург вместе». — «Я снова скажу вам — воля ваша». — «То-есть?» — «То-есть, как вам угодно, так я и сделаю, но дело в том, что это, по моему мнению, будет не совсем честно с моей стороны. Но если вам так угодно, я конечно должен сделать так, как вам угодно. Теперь некогда; когда я буду у вас в субботу, я выскажу вам неудобства этого; если вы и после захотите, я сделаю, как вам угодно». Раньше этого, когда она повела меня от Сокр. Евг. к Анне Кир., я сказал: «Если она заговорит о моих намерениях, что мне сказать ей?» — «Она этого не сделает». — «И я так думаю, но если заговорит, что мне сказать ей?» — «Что хотите». — «Но до какой степени я могу высказать ей?» — «Сколько хотите, но она этого не сделает». — «Но если она станет намекать, могу ли я говорить?» — «Даже не мешало бы». — Я сам всё-таки не намекал. Но сама О. С., когда Анна Кир. стала просить меня про[529]читать стихи, развернула «Последний поцелуй» из Кольцова и сказала: «Ну, прочитайте же «На полгода всего мы расстаться должны». Я конечно отвечал на это: «И слава богу, что на полгода». — «Т. е. не более?» — «То-есть не менее». — Потом она сказала Полине Ивановне, что скоро выходит замуж, при матери,— что и она уезжает отсюда, когда та говорила, что ей та сказала, что ей тяжело расставаться с детьми, и после уж добавила, что это она уезжает с отцом в Харьков. — Вообще она хотела заставить меня высказаться перед матерью яснее. Но я говорил только так, чтоб не опровергать намёков Анны Кир. и О. С., а сам не говорил более, чем они. Иду вниз работать.
Я говорил ей на это предложение: 1) у меня нет денег, но если вы решительно хотите, я возьму где-нибудь; 2) я всё время буду работать — что ж вам будет за удовольствие и что ж вы станете делать? Она отвечала, что у неё есть деньги и что она сама будет работать в это время. Я ей говорил потом, что она не совершенно знает мой характер и что я один из тех людей, которые «кроют чужую крышу, а свою раскрывают», что я постоянно жертвовал своими родными для чужих, и рассказал свои отношения к Любиньке: «Я не думаю, что так я буду делать и с вами, но бог знает». Но, наконец, я не мог говорить обо всём, потому что уж было поздно, и выскажу ей в субботу, когда она велела быть в 4½ час.
Что ж теперь будет? Вероятно, я женюсь до отъезда. В таком случае поедем в половине мая. А как это устроится? В субботу я буду говорить ей все: 1) денег нет; если угодно, она должна мне дать взаймы на устройство квартиры и т. п. — это будет стоить 1000 или 1200 р. сер.; 2) по приезде я буду работать весьма много, так что мало времени могу посвящать ей; 3) вообще мне не хотелось бы, чтоб она должна была беспокоиться о моих делах; мне хотелось бы, чтобы раньше, чем её судьба соединится с моею, дела мои были устроены; 4) наконец, скажу и то, что эта женитьба будет предметом, который введёт в сомнение моих петербургских знакомых относительно того, буду ли я работать как должно; 5) я не хотел бы, чтобы у неё был муж нуждающийся в ком-нибудь, неравный по положению своим покровителям.
(Но что ж такое наконец? Всё-таки я буду рад, если это так выйдет.)
Что скажет она на это? Скажет, что всё-таки она хочет выйти за меня теперь, до отъезда. Почему же? Я попрошу её быть так же откровенною и прямою, как я. Что особенного в эти месяцы, что она не хочет исполнения моего желания раньше всё устроить, потом жениться, чтобы не было у неё беспокойства насчёт возможности жить и насчёт моей честности и будущности. Что она скажет, я положительно не знаю, может быть какие-нибудь особенные факты, скорее только то, что её положение невыносимо тяжело. Чем кончится разговор? Я скажу: «Когда ж я должен [530] просить вашей руки? сейчас или на святой?» Она вероятно скажет — на святой.
Что же окончательно? Я рад, что это будет так. Все мои сомнения и щепетильности, кроме всякого расчёта о деньгах, вздор; конечно, неприятно, что я должен буду пользоваться её приданым, но что же делать? Это конечно введёт её в сомнение относительно моей честности и бескорыстия — но что ж делать? Я не стал бы просить денег у неё, если бы мог взять их в другом месте, но где кроме? Я не знаю. Всё-таки, сказавши это ей, я попробую сыскать в другом месте — только едва ли это удастся. Дело кончится тем, что я попрошу, если она почтет это возможным, у самого Сократа Евг. взаймы, и если так, то 2 000 р. сер. Сейчас принимаюсь составлять смету издержек на обзаведение.
О, моя милая невеста! Ты хочешь таких отношений, каких никогда не хотел бы я, но как тебе угодно, так и будет.
Продолжаю в 11 час, воротясь от Николая Ивановича.
Что будет? Вот что: свои противоречия не выставлю я все; я скажу только о денежных, скажу, что нужно 1000 р. сер., что если она думает, что это возможно, я попрошу их у Сократа Евг. взаймы; если нет, то у неё (хотя это мне весьма не хочется). Она скажет, что мне сделать. Прежде всего, если она позволит говорить о деньгах с Сократом Евг., я попрошу указать мне, нельзя ли занять у другого, если нет,— у него. Одним словом, дело о деньгах будет решено завтра. Но я предложу ей сутки или сколько угодно времени на размышление. После её ответа, который конечно будет: «Я хочу ехать теперь в Петербург», я скажу, что прошу позволения объявить о моих намерениях Сократу Евг. сейчас же, и скажу ему так: «Сократ Евгеньич, всматривайтесь в меня попристальнее, потому что я намерен просить руки О. С.». После этого, когда я скажу о своих намерениях своим? Я думаю, лучше это сделать через 2 или этак недели, по получении решительного согласия от Сократа Евг., потому что раньше безрассудно: к чему, если он не согласится? Он, конечно, согласится, но всё-таки нужно раньше получить положительное согласие, потом объяснить своим. В каком духе будет объяснение с нашими? Раньше скажу папеньке, и если он не заставит, то не буду входить ни в какие подробности, если заставит,— объясню, почему с нею я буду счастлив, с другою нет; объясню свой характер и то, какая жена мне нужна. Если не поймёт и не согласится, скажу своё решение; скажу как можно мягче, что я решил не пережить этого дела, если они не согласятся. Но я не думаю, чтобы не согласились. Только он дурного мнения о Сократе Евг.,— что за нужда, это не касается её — а если он слышал о её свободном обращении, и о нём объяснюсь. Одним словом, отношения к своим меня теперь решительно перестали тревожить. Они согласятся; так или иначе, но согласятся, и я думаю без большого противоречия. А если папенька скажет: «дай посмотреть нам?» Я скажу: нет, сейчас согласие; ни суток отсрочки. Пожалуй, несколько минут на размышле[531]ние, но без совета с кем бы то ни было, даже с маменькою. Со стороны Анны Кир. полное согласие уже видно приглашением бывать у них почаще, зная, зачем я бываю.
После этого объяснения с ней и вследствие его с Сократом Евг. я поговорю с нею о Николае Ивановиче и Лидии Ивановне.
Чем же кончится дело? Тем, что я поеду отсюда с О. Сокр. Поедем, если можно, прямо из церкви, но на это не согласятся; в таком случае после обеда; свадьба будет поутру; я думаю, она согласится с этим, потому что она не любит церемоний, как и я.
Каковы теперь мои мысли, мои чувства о ней?
Во-первых, какое впечатление произвели на меня её вчерашние слова? Самое успокоительное. Теперь я буду вне опасности потерять её. Теперь я буду вне своей обычной мнительности о том, что будет, будет ли так, как мне представляется и хочется.
Но мои дела в Петербурге не устроены? Да разве, говоря рассудительно, я могу сомневаться в том, что я буду иметь возможность доставить ей жизнь с такими же удовольствиями, как пользуется она здесь? Мои мысли о том, что не понравится Никитенке (да он мне не нужен) и Введенскому, что я женился? Да это вздор. Спрашивать мнения Введенского о том, когда и на ком мне жениться? Я не позволю и говорить себе об этом, скажу только: по моему характеру так было нужно, без этого я не выехал бы из Саратова. Более ничего не скажу и после этого ничего не позволю себе сказать. Помешает ли моим делам, что я приеду женатый? Разве магистерский экзамен начну я в сентябре вместо мая, да в мае трудно будет и начать; зато я не буду торопиться, и дело пойдёт гораздо лучше и основательнее. А магистерский экзамен раньше или позже несколькими месяцами всё равно, до или после каникул. Да во всяком случае он и был бы кончен после каникул, потому что защищение диссертации оставалось бы до послеканикулярного семестра во всяком случае.
Будет ли она мешать мне работать? Напротив, тут я буду решительно вне всяких развлечений и буду работать до 6 часов каждый день, сидя подле неё.
Когда будет свадьба и когда мы поедем? В конце мая или начале июня. Когда будет объяснение с нашими? Перед самою свадьбою, если они сами не заговорят раньше об этом, если до них не дойдёт решительно слухов.
Какие теперь мои чувства? Так рассудительны и чисты от всяких грязных расчётов, которых раньше я ожидал от себя, что я дивлюсь. Радость моя оттого, что мой союз с ней верен, а не оттого, что я буду её мужем несколькими месяцами раньше, не от нетерпения чувственности. Чувственная сторона теперь во мне решительно не имеет никакого влияния в сравнении со стороною душевного счастья и рассудительной, спокойной надежды на то, что моя жизнь определяется наилучшим образом, как только мог я представить. [532]
Завтра допишу эту тетрадь до того, как пойду к ним, потому что хочу начать следующую тетрадь окончательным объяснением с нею.
О моя милая невеста! Источник моего счастья! Ты будешь правительницею нашей жизни, и моя жизнь будет счастлива, потому что будет посвящена заботам о твоем счастье.
Писано в субботу в 8½ утра.
Влюблён ли я в неё или нет? Не знаю; во всяком случае мысль об «обладании ею», если употреблять эти гнусные термины, не имеет никакого возбуждающего действия на меня. Я только думаю о том, что я буду с нею счастлив и что в ней столько ума и проницательности, что она не будет раскаиваться, что вышла за меня, потому что поступки её весьма хорошо обдуманы, потому что она довольно понимает меня и чего не знает ещё в моём характере, то, я надеюсь, не изменит её мнения обо мне к худшему, потому что особенности и странности моего характера, который нельзя понять и которому нельзя верить иначе, как после долгого знакомства,— мои хорошие стороны.
Но она мне весьма нравится. Если б она была не хороша собою — а мне хорошенькими кажутся весьма немногие и, собственно говоря, никто, кроме неё, из тех девиц, которых я встречал здесь; Афанасия Яковлевна, впрочем, тоже имеет миленькое лицо,— то, конечно, я не мог бы так быть привязан к ней, как теперь: мне нужно, чтобы я мог любоваться на свою милую. Если бы она не была так хороша, я не очаровался бы ею, но всё-таки её красота, хотя весьма важна для меня, всё-таки важнее, гораздо важнее для меня качества её сердца и характера, и когда я думаю о блаженстве, которое ожидает меня, конечно, тут является и чувственная сторона этого блаженства, но гораздо сильнее занимает, гораздо более очаровывает меня сердечная сторона её отношений. А каковы будут эти отношения — она третьего дня сказала: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения». Это я и сам хотел бы так устроить, может быть думаю об этом серьёзнее, чем она; она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей, а я понимаю под этим то, что и вообще муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене. Она сказала на благовещение у Патрикеевых: «Я не буду хорошей женою, потому что не умею ласкаться»; потом часто говорила, что терпеть не может целоваться — и это у меня точно тоже — особенно моя постоянная мысль и главная черта в моём характере в этом отношении, что я не люблю выказывать свои чувства при ком бы то ни было постороннем и что единственная нежность, которую я хотел бы позволить себе при третьем лице в отношении к жене — это пожатие руки. Целоваться и я не люблю; в сильном движении нежности я готов поцеловать, но только в сильном движении нежности. Вместо этого я любил бы целовать руку, но это снова только в неж[533]ных движениях, а [не] при всяком случае, как только случится быть одному подле другого,— но и это я хотел бы почти совершенно изгнать, потому что это показывает, что с женою обращаются как светский властитель Японии с своим духовным императором — за рабское положение в сущности старается вознаградить божеским почитанием по наружности. К чему у меня есть порывы, так это к тому, чтоб прижимать к сердцу. Но и это только в порывах нежности. Но просто прижать к сердцу, как пожимают руку. Что касается до чисто чувственных отношений, она в этом отношении не знает ещё себя, как и я не знаю. Я довольно сладострастен, вероятно, но не в такой степени, чтобы требовать слишком часто,— это будет зависеть от её чувств. Судя по её темпераменту, она должна быть очень сладострастна, потому что её темперамент огненный, но вместе с тем совершенно холодна по наружности. Если можно так сказать, я представляю себе её так: решительно холодная внешность; под этой внешностью в глубине огонь чувственности, который может быть совершенно почти неизвестен и ей самой. Если она так сладострастна, буду ли я в состоянии удовлетворить ее? В моём темпераменте довольно сил, так я думаю буду в состоянии быть ей таким физическим мужем, каких немного, если понадобится. — Это тем более, что силы мои совершенно свежи: я не испытывал сифилиса, который так расслабляет половые органы. Но её будет вероятно сдерживать её нелюбовь к нежничанью.
Как это будет совершаться у нас? Я желал бы, чтоб это устроилось так, чтоб обыкновенно я бывал у неё по её желанию, чтоб инициатива была не так часто с моей стороны. Но это противно всем обычным отношениям между полами? Что ж такого? У нас до сих пор всё наоборот против того, как обыкновенно бывает между женихом и невестой: она настаивает, я уступаю. Обыкновенно говорит невеста жениху: «Друг мой, я в твоей власти; я не могу противиться тебе, но, прошу тебя, не злоупотребляй этой властью». У нас наоборот — я ей говорю: «Я в вашей власти; делайте, что хотите» — и она говорит: «Я хочу быть за вами». — «Очень хорошо, я согласен и прошу вашей руки». — «Но я не хочу откладывать, извольте сейчас». — «Очень хорошо. Я готов сейчас быть вашим женихом». — «Но я не хочу, чтобы это было в сентябре — это должно быть раньше вашего отъезда». — «Очень хорошо, раньше моего отъезда». — Почему ж не быть так и в половых отношениях? Обыкновенно жених ищет невесты, подходит к ней, заговаривает с нею — я наоборот, я дожидаюсь, чтоб она подошла ко мне и сказала: «Говорите со мною, сидите со мною». Так и тут — может быть и будет так: «Вы можете ныне быть у меня». — «Покорно благодарю, О. С.».
Как мы будем проводить день? Всё время, когда я дома, я буду постоянно сидеть подле неё, пока ей будет угодно. Я буду работать подле неё. Сколько я буду работать для своих учёных целей? Часа 3 в день, не более, потому что и теперь никогда почти не [534] работаю постольку, и всё-таки у меня столько познаний, как у немногих. А писать для получения денег? Может быть более 3 часов в день. В первые месяцы, пока у меня не будет уроков в корпусах, я буду таким образом работать часов до 2; после гулять вместе с нею, после обеда снова час — два, до 6, 6½; после снова я её собеседник. о чём мы будем говорить? Я буду её учитель, я буду излагать ей свои понятия, я буду преподавать ей энциклопедию цивилизации. Тут у нас явится курс гораздо более полный, чем какой теперь у меня в гимназии. Этого достанет на несколько лет, на 3–4 года. В материале для разговора таким образом не будет недостатка. Мы будем, наконец, вместе читать. Я сам для этого преподавания повторю многое, приобрету познания во многом, чего теперь не знаю. Так мы будем учиться вместе. Может быть она будет помогать мне и в работах, может быть она будет сама писать или переводить. Каковы будут мои отношения к ней в социальном смысле? Я желал бы, чтобы мы, наконец, начали говорить друг другу «ты»; особенно, чтобы она говорила мне «ты»; сам я лучше хотел бы говорить ей — «вы». Звать её я буду всегда полным именем, всегда буду звать её Ольга Сократовна. Она может быть захочет звать меня полуименем, но едва ли, и вероятно, если будет, скоро оставит это. Одним словом, наши отношения будут иметь по внешности самый официальный и холодный характер; под этою внешностью будет с моей стороны самая полная, самая глубокая нежность.
Теперь наши отношения к родным её и моим. Какова она будет с маменькою? Не знаю и не хочу знать. Если по внешности она обходительная дочь своей матери, тем более будет она хороша с моей маменькою. Маменька если приедет в Петербург, будет вмешиваться в хозяйственные дела; если О. С. угодно, пусть будет так. Если не угодно, нет. В характере маменьки лежит непременно вмешиваться. Но я буду твёрд, и если О. С. не захочет, не допущу маменьку говорить об этих вещах ни ей, ни мне. Я скажу, что не желаю говорить об этом, и только. И не буду говорить, и не буду слушать. И только. Таким образом отношения к маменьке не будут иметь никаких последствий, неприятных для неё. Во всяком случае я поставлю себя и её в такие отношения к маменьке, что маменька не будет никогда вмешиваться в наши личные отношения и не будет никогда говорить ни слова недовольства относительно того, что она делает и как держит себя. А как она будет держать себя? Весьма бойко, но шалить будет меньше, чем теперь; она будет держать себя несколько похоже на Анну Никаноровну, хотя не в том роде.
У папеньки такой характер, что он никогда никому не может служить помехою.
Наши отношения к её родным? Это зависит решительно от неё. Главные отношения к Венедикту. Но Анна Кирил. не отпустит его от себя, как сказала мне в последний раз; поэтому эти отношения не могут быть обременительны ни для неё, ни для меня. [535] Но вообще отношения наши к её родным будут решительно зависеть от неё.
Наши отношения к Саше? Это всё равно, как ей будет угодно. Жить вместе или врозь, всё равно, как лучше покажется для неё. Только одно,— чему весьма рада будет, конечно, и она,— Саша будет весьма часто бывать у нас, будет весьма часто обедать и пить вечером чай, всегда, когда у него свободный вечер.
Отношения к знакомым? Выбор кружка будет решительно зависеть от неё. У меня только два семейства, с которыми я буду знаком тесно — Срезневские и Введенские. С женою Срезневского она может познакомиться или нет, это смотря по обстоятельствам и отношениям моим к жене Срезневского и по тому, будет ли ей приятно это знакомство. Ал. Иван. Введенскую она будет принимать хотя изредка по вечерам, если не захочет быть дружна с нею — чего, вероятно, не захочет, потому что едва ли Введенская ей очень понравится — слишком щепетильна. Вероятно, ей понравится Городков, может быть с ним она будет знакома домами. Но остальные знакомства зависят от неё. Если ей понравится кружок Введенского, он будет бывать у нас каждую неделю. Если нет, только раз в месяц, и она может бывать при них в семейных комнатах; но, конечно, будет бывать, потому что в ней есть настолько людскости. Сама она какого рода людей наберёт в свои знакомые? Вероятно, более дам и девиц, но несколько человек и мужчин, из которых едва ли хоть один будет для неё коротким знакомым. Во всяком случае кого ей угодно и как и когда ей угодно, так она и будет принимать. Я в этом деле не помеха.
О моя милая невеста, ты будешь настолько довольна своею жизнью, насколько это зависит от моих отношений к тебе.
Итак:
Ныне решительное объяснение о том, что заставляет её хотеть ехать со мною теперь же. Объяснение о том, откуда взять мне денег. Вероятно, она согласится, чтобы я попросил взаймы у Сократа Евгеньича или попросил его сначала быть лучше только моим посредником при займе денег у кого-нибудь.
Вопрос о том, не ныне ли же объявить о своих намерениях Сократу Евгеньичу.
Вследствие всего этого поездка в Петербург вместе, как скоро путь будет хорош, т. е. около, вероятно, 10 мая. Перед этим накануне или в этот самый день свадьба. За два, за три дня становлюсь официальным женихом. Может быть за неделю. К свадьбе никаких приготовлений, если можно. У меня шафером Василий Дмитриевич и, если ему будет угодно, Николай Иванович. Но, если можно, в один день и его свадьба, если он захочет жениться на Лидии Ивановне.
Вот приближается новый решительный момент наших отношений, и я встречаю его с таким же полным спокойствием, с каким встретил объяснение девятнадцатого февраля. [536]
Я предаюсь твоей воле, моя милая. Таков мой характер. Ты властительница моей жизни и моих поступков. Управляй же мною неограниченно. Ты надеешься быть счастлива со мною. Хорошо. Твоя надежда рассудительна и справедлива. Веди меня к счастию, которого так много уже дала ты мне, и будь сама счастлива.
Желаю тебе счастья и делаю всё, что ты считаешь нужным для твоего счастия.
Вполне преданный тебе, повторяю: желаю тебе счастья и делаю и всю мою жизнь буду делать всё, что ты считаешь, что ты сочтешь нужным для твоего довольства, для твоего счастия.
1853 года 28 марта, 9 часов 50 мин. утра.
Я повинуюсь тебе.
Я жду своего счастия от своих отношений к тебе.
Я нахожу в них и теперь всё своё счастие, всю свою радость.
Ты будешь довольна и счастлива, насколько это в моей власти.
Ты будешь счастлива.
Как весна, хороша Ты, невеста моя.
И да будет — и будет, сколько это зависит от меня — вся-жизнь твоя светлым днём весны.
Прощай до вечера.
Будь счастлива.
Писано 29, воскресенье, перед тем как идти к поздней обедне, после которой объяснение с папенькой.
28-го. Долго мы сидели вместе с другими — с Лидиею Ивановною, с Ростиславом; наконец, из комнаты Ростислава мы ушли в её комнату и сели там на кровати, которая стоит у окна к комнате Ростислава. «Что ж вы скажете, О. С.?» — «Я раздумала, это не нужно». — «Почему ж?» (мне хотелось, чтоб было так, как она говорила в четверг). — «Я не хочу, чтоб вы занимали денег. Я не хочу, чтоб вы становились в затруднительное положение». Через несколько времени: «Я боюсь, что буду вам в тягость». Я сказал ей, что денег достану, что это пустяки. Что в тягость мне быть она не может. — «Как же, я буду мешать вам работать». — «Я не так прилежно работаю. Я весьма мало работаю. Если бы я работал, как другие, я знал бы не столько, как теперь. У меня одно сомнение — это то, что связываю вашу жизнь со своей, когда моя ещё не устроена», и т. д. в этом роде. «Мне бы этого даже хотелось, если б совесть не запрещала мне, потому что у меня слишком мнительный характер, что я не спокоен, пока дело не кончено решительно. И теперь меня будет беспокоить мысль, что, возвратившись, я не застану вас». — «Нет, теперь это не будет, потому что я начинаю понимать ваш характер и любить вас». Это было сказано так, как никогда ещё. И мало-по-[537]малу её головка склонилась на моё плечо. Руки наши лежали одна в другой; я беспрестанно целовал её руку. «У меня только одно сомнение — это деньги; за всё остальное я отвечаю. Хотелось бы совершенно устроить все дела, приготовить квартиру, меблировать её и тогда приехать вместе с вами к всему готовому». — «Это ничего: я готова потерпеть, пока устроится, жить кое-как, потому что у меня будет верный друг». И я, наконец, сказал: «О. С., позвольте поцеловать вас». Она отклонилась в противоположную сторону. — «Нет»,— снова наклонилась на моё плечо. «Я этого не сделаю»,— и она наклонилась снова; да, она знает, что я не сделаю ничего, что было бы неприятно ей. И почему я хотел поцеловать ее? Не из удовольствия, а чтобы это было залогом наших отношений. «Вы говорили что-нибудь своим?» — «Нет; их мнение для меня в этом деле вовсе не интересно, они не могут быть судьями по своим понятиям». И я говорил о том, что может быть они будут несколько недовольны, потому что может быть слышали что-нибудь о том, что она держит себя вольно, и потому, что не любят Сократа Евгеньича и готовы защищать Анну Кир. «Поговорите с ними и с маменькою. С папенькою я сама поговорю. Раньше со своими, потом с маменькою. Со своими завтра, в понедельник с маменькою».
Я буду говорить с папенькою, потому что его легче склонить и его согласие будет иметь влияние на маменьку. Не думаю, чтобы было такое сопротивление от него, чтобы заставил меня высказать моё намерение не пережить этого. Маменька согласится с папенькою. Поговорю после обедни, потому что не хочется волновать его перед обеднею, которую он должен служить. Итак, около 12 часов утра дело будет окончательно решено с нашими. С папенькою буду говорить весьма мягко и просить и объясняться, насколько можно объясниться. Потом он призовет маменьку и скажет ей: «Николай выбрал себе невесту, что ты скажешь?» — «А вы что?» — скажет маменька. «Я должен согласиться, стеснять нельзя», и маменька скажет то же. Иду к обедне.
2½ часа. До обеда было некогда. Поэтому говорил с папенькою только сейчас, решительно спокойно. Папенька сказал только, что будут ли у меня средства содержать её, как она привыкла. Я сказал, что думал об этом, будут. Он сказал, что не будет мне мешать. Я просил поговорить об этом с маменькою и ныне же, потому что, сказал я, если маменька станет расспрашивать, ей могут насказать бог знает что, потому что о ней говорят много дурного и многие её не любят. Я говорил с папенькою спокойно и совершенно откровенно о том, что мне в ней нравится — главное характер, твёрдый и рассудительный. Говорил о том, что её не любят мать и брат. «Да хорошо ли ты её узнал?» — «Очень хорошо, потому что такие были разговоры и главное я смотрел, как и что она делает». Не сказал, конечно, наших отношений. Просил, чтобы переговорил с маменькою ныне же. Разговор продолжался минут 20, решительно хорошо, лучше, чем я ожидал, потому что [538] то, что о ней говорят дурно, не вызвало никакого замечания с его стороны. Папенька её видел несколько раз, но решительно нисколько не знает. До сих пор всё идёт хорошо. Маменька тоже согласится с папенькою. Теперь иду к губернатору[458], по возвращении от него может быть найду их уже переговорившими. Я решительно спокоен. С моей стороны не будет нужно никаких усилий, потому что не будет несогласия и от маменьки. Маменька согласится.
Час ночи. Сейчас кончился разговор безусловным согласием маменьки. Он продолжался весьма долго. Когда я спросил папеньку, пришедши от губернатора, он сказал, что маменька не стала ничего отвечать, что поэтому я должен говорить с ней сам. Я после ужина в своей комнате начал говорить (она всё говорила, что ей хочется спать,— немного хитрила, чтобы избежать этого разговора, вообще она немного хитрит и сначала было чуть не провела меня, но я вообще не поддамся в таких случаях, потому что, несмотря на всё видимое согласие, не окончу разговора без того, чтобы не сказать: так вот что — изложу самым определённым образом своё мнение — так или нет?). Когда я сказал намерение и имя, она сказала: «Весьма рады мы, что из такого почтенного семейства, с которым хотя незнакомы, но уважаем, что твой выбор пал в хорошую сторону (это меня весьма обрадовало); чем будешь жить?» Я начал говорить; она начала говорить об обязанностях мужа, совершенно как говорила раньше, так что будет именно такою свекровью (кроме своих вмешательств, могущих быть, но которые я, конечно, остановлю), как я представлял её О. С. Потом вниз[459] — «должно переговорить с папенькою». Когда пришёл папенька, она стала говорить, что раньше хочет видеть её — она и наверху говорила: «Почему ты не хотел познакомить?» Я сказал, как радовался, когда собирались к Анне Кир., и как звал к Акимовым. — «Нет, раньше скажите, что согласны, так и увидите» — и тут-то началось длиннейшее и утомительное прение — «раньше должна видеть» — «раньше должны согласиться»,— почти только в этих словах. Наконец, она легла; мы остались с папенькою, и я ему в общих намёках сказал, что, если не согласится маменька, это будет иметь ужасные последствия для меня; я предчувствовал, что настою на своем, но если бы не настоял, если бы, как, между прочим, говорила маменька: «Переговорим ещё поутру лучше» — то я может быть для примера, как залог будущего, сочинил бы с собою какую-нибудь лёгкую операцию вроде жены Брута (и тут ядовитые насмешки над собою: не могу не смеяться над своею решимостью и над своим прежним поведением, которое сделало было то, что эти глупости могли понадобиться). Она легла, я снова начал приставать, даже намекал на то, что это будет иметь для меня такие важные последствия, каких и она не ожидает, говорил, что если не согласится, то это будет страшною печалью на всю мою жизнь, наконец сказал: «Итак, одно слово: согласны или нет? Если не согласны, я не буду больше ни слова говорить об этом деле». — «Согласна». — Тут начинаются уверения в том, что она «облег[539]чила меня от страшной тяжести». Она снова говорила о важности этого шага, что должно было посоветоваться; я сказал, что нельзя в этом деле, и т. п. Но в другой раз даже не повторил вопроса, согласны ли, и более не буду говорить и спрашивать о согласии. Может быть снова понадобится возобновить разговор в этом роде, но уже не я начну его и завтра же скажу Анне Кир. о намерении маменьки, как скоро позволит здоровье и погода, приехать к ней с просьбою в известном роде.
Теперь дело решено, и я ложусь спать спокойно. Завтра от Кобылиных возвращусь домой и из дому пойду к Анне Кир., чтоб не показать вида, что иду говорить с ней, когда маменька не ожидала — нет, она должна видеть, куда иду, и перед уходом скажу ей, что буду говорить Анне Кир. На ответ вызывать маменьку не стану. Если будет ответ сколько-нибудь несогласный, снова начну разговор и кончу его не иначе, как получением согласия, если снова вздумает колебаться.
Одним словом: хотел, чтобы ныне мне дали решительный ответ, и настоял на своем.
Я могу быть твёрд и неотступен в своих требованиях, когда захочу. Quod erat demonstrandum[460].
Теперь нет препятствий ни с чьей стороны, моя милая невеста.
Мне теперь никто не может препятствовать. Теперь ты моя невеста, невеста перед моими родными.
Расположение духа моего в этот день, который был днём ожиданий. И ожиданий большего сопротивления, чем какое было, и большей неуступчивости с моей стороны, чем я ожидал от себя. Несколько раз перед началом разговоров, лучше сказать — при ожидании минуты для разговора, билось сердце, но мало. Так у меня тверда воля, если нужно. Даже биение сердца сдерживается, если я захочу. Разговор веден совершенно спокойно, так как я постоянно в этом длинном и тяжёлом разговоре с маменькою сдерживал себя.
Зачем я так безжалостно вынуждал маменьку отказаться от своего желания увидеть раньше, чем согласиться? Так мне казалось нужно, во-первых, для обеспечения согласия, во-вторых, для успокоения себя: что я хочу как сделать, так и сделаю, вот что я хочу. Совесть мучает ли меня за эту безжалостность? Нет. Я знаю, что должен был бы совеститься этой неуступчивости, настоятельности, но так было нужно. Что же делать? Я поступил, как должен был поступить.
До завтра, моя милая, невеста перед моими родными, а уж не перед одним мною.
Завтра увижусь с Анною Кирилловною.
До завтра же, моя милая невеста.
Писано в понедельник 29 марта, 9 час. [540]
Когда стал собираться тотчас после обеда, маменька позвала меня в гостиную. — «Что же ты хочешь сказать?» — «Вот что». — «Да погоди, разве нельзя мне раньше увидеть?» И снова прежняя история, которая продолжалась более часу. Я, наконец, сказал: «Да или нет; если нет, не пойду и не буду говорить больше ни слова». И ушёл и сел писать. — «Хорошо, подожди папеньки от вечерни и попроси у него благословения». И [я] дожидался; мне было весьма тяжело, что я заставляю её ждать. Это продолжалось до 6 час. Наконец, благословение дано, и я отправился. Она в комнате Ростислава, у них Воронов. Отправляюсь через несколько времени к Анне Кирил. Когда ушли другие, кто тут сидел, я через несколько времени говорю ей: «У меня к вам, Анна Кирилловна, важная просьба». — «Какая?» — «Слишком важная». — «Да я для вас всё сделаю». — «Но вы меня слишком мало знаете». — «Говорите, нужды нет». — «Мне весьма нравится О. С., я прошу вашего согласия. Маменька хотела б сама быть у вас с этой просьбой, но ей нельзя, потому что она не выходит из комнаты, и я должен говорить от её и от своего имени». — «Весьма рада; вы говорили с моим мужем?» — «Нет, потому что ваше мнение важнее». — «Я переговорю с ним. С моей стороны полное согласие». Тут вошла Лидия Ивановна и сидела довольно долго. Когда она ушла, я снова повторил: «Так ваше согласие?» — «Я согласна». Я несколько раз поцеловал её руку и простился. Вошёл кто-то. «Желаю вам полного исполнения всех ваших желаний». Какова мать! Ни о чём не стала расспрашивать, ни о моих средствах, ни о том, когда и как, ничего.
Я вышел, и несколько времени нам мешала говорить Лидия Ивановна. Наконец, О. С. сама села подле меня, рука в руку — я рассказал ей коротко, что я говорил с Анною Кирил. «Ну, О. С., глупого парня выбираете вы себе; вообразите, с первого слова маменька сказала, что весьма рада; но прибавила, что желала бы раньше вас видеть, но мне вошло в голову — завтра непременно, и я не отстал и не согласился раньше показать её вам. Видите, я глупый человек,— не щажу никого, может быть не пощажу и вас, если так будет нужно; не думаю, однако, чтобы это простерлось на вас, но почем знать? Не думаю всё-таки, чтобы простерлось».
Она сказала, что ждала меня в 5, 6, но раньше я уж сказал ей сам, отчего так поздно: дожидался папеньки от вечерни. «Когда же, О. С., это зависит от вас — теперь или по приезде?» — «Я вам говорила». — «Т. е. теперь? Хорошо, завтра постараюсь обделать дела»,— т. е. я думал попросить у Костомарова 1000 р. сер. — «А в четверг скажите мне, потому что в среду я буду у Гуськовой». — Дружно, дружно сидели и ходили мы рука в руку. Вошли другие, и начался общий разговор. Она сняла [нагар] со свечи. «Не снимайте, не будете нравиться», сказал кто-то. «Я и не хочу никому нравиться, кроме одного». — «О. С.,— сказал я после всего,— вы будете решительно управлять моими делами; чрезвычайно [541] немного дел, в которых не от вас будет зависеть решение, и не знаю, представится ли случай к подобным делам; знайте это и готовьтесь распоряжаться моими делами. Я постоянно буду делать всё, что вам будет угодно, поэтому сама судите, что лучше мне делать, и управляйте мною». Раньше этого, когда говорил о разговоре с нашими, я сказал, что маменька действительно будет любить её больше, чем меня. «Все мои отношения зависят от вас, и даже к ним; напр., может быть маменьке вздумается поехать с нами». — «Что ж, верно, она не будет нам в тягость». — «Нет, знайте, что в наши с вами отношения я не допущу вмешиваться никого, ни маменьку, никого, кроме разве тех, кого вы сами захотите иметь советником или как угодно назвать».
Теперь совершенно спокоен. Совестно, что так вынуждал маменьку,— но что делать? так было нужно. О. С. вознаградит её своею любовью и ласковостью за минутную скорбь. О, ты будешь наилучшею дочерью, мой милый друг.
Писано 2 апреля, четверг, 10 час. вечера.
1 апреля, среда. Когда я воротился от губернатора, Сережа подал мне записку, писанную рукою Тищенки, что меня непременно ждут. Я тотчас поехал. — Меня звала Анна Кирилл., которая дала мне «будущему сыну»[461], и просила написать ответ и велела быть завтра.
2-го, в четверг, в 5 час. был у них. Мы сидели у Ростислава. Наконец, к Анне Кир. — Она прочитала мои размышления о супружеской жизни, т. е. главным образом «о приданом позвольте не говорить», что было написано в конце, и сказала, что говорила с Сократом Евгеньичем; позвала О. С. — «Вот ваша невеста». Я поцеловал у О. С. руку, Анна Кир. что-то сказала; кажется, чтобы поцеловались. Я не хотел принуждать Ольгу Сократовну и не хотел получить от неё первый поцелуй при других. «Asseyez-vous ici[462], у нас нет секретов с Николаем Гавриловичем» — потом послала за Сокр. Евг. «Вот ваш сын», сказала Анна Кирилловна. Мы поцеловались с Сокр. Евг. Анна Кир. сказала ему, чтобы он соединил наши руки. Недолго посидев, он стал уходить, я пошёл, сказав, что мне должно переговорить с ним, но собственно я хотел с Ольгой Сокр. о деньгах, готова ли она употребить свои. — «Готова». — «Так мы едем вместе?» — «Вместе». Это было в зале. Я ушёл к Сокр. Евг. и сказал, что после пасхи тотчас, и тотчас едем. Потом говорили об учёных и медицине. Наконец, снова посидел у Анны Кирилл., простился — было уже более 7 часов, пошёл в комнату Ростислава. При нём разговор не вязался, но он часто оставлял нас одних, конечно, часто нарочно.
Теперь в первый раз я, когда мы были в зале, брал Ольгу Сокр. за талью, как это делается между друзьями. Мы сели рядом [542] на диване. Мало-по-малу её головка оперлась на моё плечо, и когда один раз Ростислав ушёл, я заложил руку за талью и мы стали сидеть, я обняв её. Волнения во мне не было никакого. Но, наконец, я осмелился поцеловать её в лоб, в щеку. Наконец, снова Ростислав вышел. — «Завтра обручение. Нас заставят целоваться. Я не хотел бы получить от вас первый поцелуй при других, потому что хотел бы, чтобы он был искренний. Поэтому прошу позволить поцеловать вас». — Она ничего не отвечала. Ростислав пришёл, через несколько времени снова ушёл. Тогда я нагнулся и поцеловал её; она отвечала на мой поцелуй. — «Вам так хотелось»,— сказала она. Ростислав беспрестанно уходил и приходил. Когда он вышел ещё раз, я поцеловал её в другой раз, но она была несколько уже недовольна моею неотвязчивостью. «У вас странный жених, робкий и вялый. Другому на моём месте этого не было бы довольно». — «Что еще?» — «Еще несколько раз поцеловать вас, этого требует приличие». — «Так вы только из приличия?» — «Да, приличие непременно должно соблюдать, но я не хочу простирать соблюдение приличий до того, чтобы делать огорчение». Я всё толковал о том, что только кажусь холодным, но это только потому, чтоб не надоесть своими чувствами. — «Нет, я не привыкла к ласкам». Но я чувствовал, что мне должно больше ласкаться, и беспрестанно целовал её волосы, её лоб, её левую щеку, которая была ко мне. Раз даже поцеловал её глаза. Я снова сказал ей, что с тех пор, как я несколько узнал её, у меня была только одна мысль о ней и что теперь я живу только ею, только мыслью о ней и о её счастии. Когда тут сидел и Венедикт, я шутил над её бойкостью, говорил о мужском платье, о том, что ей теперь остаётся только стрелять из пистолета и пить шампанское. — «Что ж? Я и поеду в мужском платье». — «Только что делать с вашими волосами?» — «Обрежу их и буду носить фальшивую косу; нет, не хочу, чтоб во мне было что-нибудь фальшивое».
Она хочет, чтобы свадьба была 29 апреля поутру, чтоб на ней никого не было и чтоб мы уехали в тот же день.
Мое расположение духа? Более спокойно, чем когда-нибудь. Меня не волнует нисколько физическая сторона наших отношений. Я муж, не любовник только. А первый поцелуй? Она отвечала на него, я получил от неё залог любви. Физическая природа не волновалась во мне от него. Во мне есть сладострастие, но ещё больше сердечной любви.
Прости до завтра, моя милая невеста. Завтра наше обручение.
Прощай до завтра. Будь счастлива, как я счастлив тобою.
Писано 4 апреля в 8 час. утра, суббота. Описание пятницы, день обручения.
Поутру я пошёл за кольцами; взял для Ольги Сокр. 3 кольца, чтоб можно было выбрать, но когда шёл оттуда, она меня встретила на дороге; самое маленькое кольцо приходилось ей впору. [543] В 10 час. отправился к ним сказать, что папенька хотел быть раньше; приехал вместе с папенькою; папенька через несколько времени уехал за маменькою, чтоб воротиться к 12 часам, потому что к этому времени должна была отойти обедня, но ждали-ждали — их всё нет. Наконец, Ольга Сокр. послала меня за ними в ½ 2-го, но на дороге они встретились. Маменька держали себя всё время по обыкновению чопорно, как женщина, не бывавшая в обществе, но желающая показать себя тонною. Ольге Сокр. это показалось строгостью и недовольством. Когда маменька входила, Ольга Сокр. подошла к ней, а она уж успела сказать, что вовсе не годилось: «Покажи же мне, которая». Когда вошла в гостиную, Ольга Сокр. подала ей скамейку и снова подала, когда она перешла к Анне Кирил. и села там; этого я не ожидал и потом сказал Ольге Сокр., что это уже слишком, что этого не должно быть, но на первый раз так и быть можно. Я тотчас взял Ольгу Сокр. и спросил, как ей нравится маменька. — «Ничего». — Но после молебна, обручения и обеда, когда мы сидели у Ростислава, она мне сказала: «Я боюсь вашей маменьки. Она должно быть очень строгая». Я чувствовал и раньше, что ей неловко, что она опасается, и потому говорил ей, что не позволю никому вмешиваться, а за обедом взял и сломал свою вилку. — «Посмотрите, Ольга Сокр. Вы понимаете, что я этим хочу показать?» За обедом маменька держала себя чопорно. Когда она будет у них в другой раз, я попрошу маменьку быть ласковее. За молебном Ольга Сокр. молилась очень усердно, и мне стало грустно за неё бедную, у меня показались слёзы. И потом, когда мы сидели после обеда у Ростислава одни, я несколько раз плакал о том, что она грустит. Я много любезничал с нею после обручения. Наконец, проводил своих домой и через час, около 8 часов возвратился к ним; что было в этот вечер, напишу после обеда, перед тем, как идти к ним.
Папенька, когда ложился спать, на мой вопрос, как ему нравится Ольга Сокр., сказал, что она слишком резва. — Я сказал, что другого характера жена не может ужиться со мною и что это пройдёт. Но для меня всё равно, и скоро (тотчас после свадьбы) и для неё будет всё равно, каковы бы ни были отношения к ней моих родных, потому что она увидит, что это для меня всё равно. Кто не любит её, тот и не может вмешиваться в наши отношения с ней.
Нынешнюю ночь я провёл довольно беспокойно, потому что от страстных сцен вечером кровь моя волновалась. Она, бедная, не спала почти в эту ночь накануне обручения.
Теперь вниз к маменьке, за работу.
До 3 часов, моя милая невеста. В 4½ я снова буду с тобою.
Итак, я пришёл к ним; они готовились идти гулять. Сначала нам все мешали. Приезжала Гуськова с женихом. Я должен был оставаться у Ростислава, но Ростислав сказал, что меня вызывают, [544] и я вышел. Ольга Сокр. вовсе этого не хотела. Они уехали. Рычковы вышли гулять. Ольга Сокр. была очень грустна. Я всё доспрашивался, отчего? Она никак не хотела сказать; наконец, когда я сказал, что для меня всё легко сделать для неё, потому что люблю её,— она сказала, в том-то и вопрос, люблю ли? Мы остались одни в ростиславовой комнате и заперли её, чтоб не входили. Сначала Венедикт всё заглядывал в окна, наконец перестал. Я, наконец, убедился, что я могу вести себя свободнее, чем до сих пор, что это не оскорбит её, что, наконец, должен же я выказать свою нежность. И вот я начал ласки и уверения в любви. Слова мои были холодны по тону голоса, потому что сначала я старался сдерживаться, но внутренний жар их был в самом деле велик и всё усиливался, и наконец я начал говорить в самом деле страстным языком, хоть не совсем давал себе волю. Наконец, она сказала, отчего она грустна. Гуськова сказала ей: «Он не дворянин, кто будут твои дети?» — Я стал растолковывать ей, что это пустяки, что этого никогда нельзя считать препятствием или вещью, стоящей размышления. — «Вы слишком молоды, вы моложе, чем я думал». Вчера я в самом деле убедился во время своих ласк, что она робка, очень робка. Ласки ей приятны, но она не смеет, стыдится вызывать на них. Я сначала всё говорил, что чувствую, что мало нежен, но потому, что я боюсь оскорбить её. «Больше я не хочу; я не привыкла к ласкам». Тогда-то я, наконец, при всей своей глупости понял, что я должен быть нежнее, и стал ласкаться к ней. Сначала она села на диван с ногами, так что я сидел [у] её ног; потом, когда моя нежность более стала свободна, я, наконец, сказал ей: «Садитесь ко мне на колени» — и хотел посадить её. — «Я сама сяду» — и села. И я начал ласкать. Я покрывал её лицо поцелуями. Несколько раз поцеловал её в губы. Она несколько раз сама поцеловала меня, даже раза два отвечала на мой поцелуй в губы. её щёки разгорелись от моих поцелуев. Ныне я, если можно будет, позволю себе больше: я буду крепко обнимать её, я хочу непременно поставить её ножку на свою голову. Бог знает, до каких нежностей дойду я. Я сказал, что я могу сдерживаться, но если дам себе волю, она увидит, что я человек пламенный, и нынче я дам себе несколько воли. Моя чувственность начинала вчера волноваться, и я сказал, наконец, от чистого сердца: «Нет, О. С., с вами опасно оставаться наедине». Кровь моя волновалась. Мой жар воспламенил и её личико. Она хочет любви, но она слишком робка, застенчива, стыдлива. Я должен быть смелее. Посягнуть на неё я не хочу, она этого и не позволит. Но я буду очень нежен, я буду пылок, хотя не так, как бы мне хотелось, но во всяком случае очень пылок, до такой степени, как только она позволит, до такой степени, чтоб только не оскорбить её. «Неужели вы любите меня, Ольга Сокр.? Я вижу, что в самом деле любите больше, чем говорите. Теперь пока эта любовь не заслужена, потому что вы или мало понимаете, или не совсем верите тому, чем в самом деле стою я вашей любви. [545] Но вы любите меня». Да, она ещё никого не любила и теперь любит в первый раз.
Прощай, моя робкая, моя нежная подруга, прощай, до свидания через час, всего только через один час. Пора сбираться к Тебе.
Писано 5 апреля, 7 час. утра. И ныне моя ночь была очень беспокойна. Она не давала мне уснуть.
Вчера её долго не было — она уехала в лавки, воротилась около 7 часов. Перед этим я сидел большею частью с Анной Кир. — Какой, в самом деле, странный случай: 15 марта 1833 г., в самый день её рождения, получил Сократ Евг. перстень от государя. Сидел и с Сократом Евг. — Анна Кирил. ужасно любезничает со мною. Я её терпеть не могу. Сократа Евг. я люблю.
Наконец, она приехала. И снова мы в комнате Ростислава одни, и снова я ласкаюсь к ней. Положить голову под ногу её она не допустила. Но я скажу ей ныне: что для других бог, то для меня вы — и помолюсь ей. Снова она сидела на моих коленях, снова её щёки разгорелись от моих поцелуев. — «Я ошибся в вас; я думал, что вы в самом деле смелы, а вы робкая, стыдливая, застенчивая девушка». Ныне она будет у обедни в нашей церкви и после будет у маменьки с Дарьей Кирилловной. Обедать буду у них. «С вами не всегда могу я оставаться без опасности для вас, я не буду более оставаться с вами один,— сказал ей раньше,— но я всегда предупрежду вас, когда будет опасно, потому что забыться пред вами я не хочу».
Прощай, моя нежная, милая робкая подруга, прощай, до свидания через 2 часа.
Писано 6 апреля, понед., в 11 часов, перед отправлением к ним.
Утром, по приказанию Анны Кирилл., я отправился к ним в 8 часов, чтоб ехать за серебром. Поехали в 10 часов, раньше дожидались долго лошадей. Она выходила ко мне в белой блузе и сидела рядом со мной у Ростислава. Она была весьма мила в ней. Раньше заехали в старый собор; это было моё первое появление вместе с ней, при котором нас видели другие, потому что раньше за кольцами, но тут не видал никто. — Оттуда (от Алпатовой) она поехала к Патрикеевым, я слез у своего дома. У нас был Сократ Евг. Потом, как я оделся, отправился за ними, чтобы вместе с ними явиться домой; она с Дарьей Кир. хотела приехать к нам. Я просил маменьку быть ласковее, она держала себя чопорно. Но Анне Ив. она понравилась. Я уверял, что маменька более всех будет её любить, что это только глупость. Когда уехали, я долго говорил маменьке, чтобы была ласковее с ней, и, наконец, начал с горя плакать. К ним отправился в час, маменьку уговорил ехать к ним пить чай. После обеда отправились гулять. Ольга Сокр. устала потому что много гуляла. Во время прогулки говорила о приготовлениях к свадьбе и о том, как ей хочется [546] устроить свадьбу. Теперь уж нельзя, чтобы никого не было, поэтому она шьет себе подвенечное платье. Она хочет, чтоб я сделал ей шкатулку, и ныне я всё хлопотал об этом. Но некогда. Воротясь от Палимпсестова, я нашёл маменьку у них — послушна,— и она была несколько ласковее, ныне просила пить чай. Любезничал также. Наконец, расстегивал сначала 2, после 3 пуговицы на её мантилье и целовал её в грудь, но в верхнюю только часть. И это её оскорбляло несколько. Наконец, становился перед нею на колени и говорил ей: «Что для других людей бог, то для меня вы».
6, понедельник (писано во вторник, 7 час.) был у них до Кобылиных, не застал её — потом от Кобылиных, не обедавши — голоду не чувствовал нисколько. Мы сидели с ней в комнате Ростислава несколько времени одни, и я сказал, что не буду целовать её в губы, потому что это ей не нравится, и не целовал. Вообще целовал только в щёки и шею. Потом ездили к нам пить чай. Маменька была ласковее, чем раньше, но ей всё-таки не понравилось. У нас собрались Фёдор Степ. с внуками, чтобы смотреть её; она сказала, что ей это ничего, не очень неприятно. Сидели втроем наверху с Алекс. Яковл. Тут она велела мне надеть кольцо, и я надел и ношу его. Потом снова у них и снова, несколько времени вместе с ней наедине, но весьма мало. Ныне поутру побываю у них и с 6 часов снова у них.
7, вторник (писано в среду, 12 часов).
Был у них от 10 до 11 утра, пока Ольга Сокр. [не] поехала в лавки. После снова у них; с 6 часов снова у них. Шёл сильный дождь почти весь день, и когда она провожала меня, [то] сказала: «Мне жаль вас»,— и я при Сереже сказал: «Вы знаете, что мне гораздо более жаль вас». Весь этот день я провёл совершенно без всяких насильных любезничаний с нею; сказал себе, что не буду целовать её в губки, потому что она этого в самом деле не любит, а не то, чтобы только стыдилась, и буду очень скромен и почтителен. Она была нежна и при встрече каждый раз сама первая целовала мне щеку. Несколько шутила и шалила. Маменьку я оставил больную, поэтому воротился [на] ½ часа раньше обыкновенного. Когда приехал за мною Сережа, он ушёл к Ростиславу, мы остались в зале. Она села ко мне на колена. Я посмотрел на неё, и у меня в глазах навернулись слёзы,— да и теперь навертываются. — «Мне жаль вас, что вы принуждены любить меня. Не такой бы должен быть у вас жених. Мало у нас порядочных людей. Нет, не таким должен был бы быть у вас жених». Я был всё время совершенно скромен. Только поцеловал её колено, когда рассантиментальничался. Ныне хотел быть у них в обед, не знаю, можно ли будет,— верно можно, потому что с маменькою посидит Фекла Никифоровна, но во всяком случае буду вечером. Я всё более и более привязываюсь к ней, и моя любовь становится чище и целомудреннее. [547]
Дополнения[463] к моему дневнику о той, которая теперь составляет моё счастье
Писано в 7 час. вечера, 7 марта, суб.
1. Перед своим описанием отношений моих к ней до 19 февраля я должен, однако, написать, что когда за несколько дней до этого я говорил с Ник. Иван, с тем, чтобы развлечь его, утешить, заставить бывать в обществе (это было у Мелантовича, который тогда жил уже у нас; он с Евг. Ал. Беловым играл в шахматы в зале, мы с Ник. Ив. ушли в гостиную), то я ему сказал, что он наверно нашёл бы невесту, если бы посещал общество, потому что вот я гораздо холоднее его, а всё-таки ж на-днях побываю у Стефани и если у меня нет аневризма, то я на-днях сделаю предложение. Из этого видно, что и до среды (18 февраля) я был уже в таких отношениях, которые вовсе нельзя назвать простым любезничаньем.
2. Палимпсестов сказал мне: «Вообрази, Николай Иван. уверяет меня, что ты влюблён». Я уверял его, что это самая невероятная вещь. — «Господи помилуй! Да каким же это образом? Вот видишь, как это было: мы после „Вильгельма Телля“ приехали к нему; я был решительно взволнован „В. Теллем“, даже плакал, и тут в волнении пошутил и стал уверять, что я влюблён; конечно, волнение, искренность чувства, вызванного „В. Теллем“, отразились и тут, и он мог представить, что я взволнован любовью». Действительно, раньше, чем я в самом деле влюбился, я любил уверять, что я влюблён, как трезвый иногда любит притворяться пьяным. А вот и вышло из смеха дело, из невероятного — действительное. На вечере музыканты. Вечер продолжался до 4½ часов.
3. моё поведение было так странно и смело, что после она говорила (танцуя) Палимпсестову: «Странный человек этот Чернышевский; требует от меня случаев доказать свою любовь, хочет, чтоб я требовала от него доказательства любви» (это сказал мне Палимпсестов в разговоре 28 марта у него на квартире).
4. У Чесн. нашёл я Фёд. Дим., который только что возвратился со свадьбы Ал. Порфир. Иванова и был в восторге от сестры невесты и говорил, что если бы поставить её рядом с Ольгою Сокр., то вот были бы две соперницы, из которых было бы трудно выбрать. «Ого, как она хороша,— думал я с восхищением: — влюблён и всё-таки говорит, что не знает, которая лучше». Он продолжал: «И какая добрая девушка; прислуга любит её, а это лучшее доказательство, что хороший характер и доброе сердце». — «А Ольгу Сокр. любит прислуга?» — «Любит; особенно один старик-лакей решительно души в ней не чает». Как это меня успокоило, однако я знал, что это должно быть так. [548]
5. «Венедикт мой любимый брат». — «Я его не люблю». — «За что же?» — «За то, что в нём нет того, за что я люблю вас (т. е. демократического направления)».
6. Она сидела на диване в бабушкиной комнате, Катерина Матв. у второго окна на улицу. Итак, сначала я сидел подле. Кат. Матв., после пересел к Ольге Сокр.
Писано 14 марта в 12 часов вечера.
7. Мне, наконец, сказал Палимпсестов, что хозяева (собственно Бусловская) находят, что я уже слишком зашалился. Да и в самом деле, кажется, уж я очень шалил.
8, лист 1. Она после говорила мне, что это было чрезвычайно странно, что это даже показалось ей слишком дерзко прямо в первый раз объясниться в любви, но что она подумала: «Оскорбиться мне или не показывать этого? обратить в шутку? лучше обращу в шутку!» О, как она мила, добра и умна!
9. 2 лист, 1 стр. Она в самом деле приняла это за оскорбление, как я теперь вижу после этих слов её, которые записаны в 8 примечании.
10. … Вы требуете от меня, чтобы требовала от вас доказательства любви; если так, сказала она, прежде всего бросьте вашу папироску. Я загасил её.
11. … Неужели вы считаете, что я так глупа, что могу этому верить? — Почему же? То, конечно, я шутил, когда уверял вас в моей пламенной любви, но теперь я не говорю ничего такого.
12. … Она, кажется, принимала это и в этот раз за слухи о том, что она держит себя слишком свободно, потому что и раньше уж говорила несколько раз на мои подобные выражения, что я люблю её за то, что слышал о ней. — Отвечала на это, что она знает, что о ней говорят очень много дурного.
Теперь прочитал 1 страницу 2 листа. Ложусь.
Дневник. Март, 1853.
Писано 4 марта, 8½ час. утра.
Жизнь моя с 19 числа [февраля] стала так богата, что я хочу, чтобы можно было всегда мне припомнить день за днём события, которые все перемешаны, все просветлены мыслью о ней. Через эту мысль о ней и они становятся для меня милы.
4, среда. В гимназию не пойду, потому что не совсем ещё прошла охриплость и боюсь, что напряжение голоса в гимназии увеличит её. Утро всё буду заниматься поверкою своего словаря (теперь я поправляю пропущенные и неправильно отмеченные цифры, это ныне кончу). Вечером должен к Николаю Иван., чтобы быть у Стефани. Вчера был вечером у Анны Никаноровны, ко[549]торая меня приняла по прежнему; не знаю, хитрость ли это, чтобы не высказать нашей новой дружбы…[464] и матери или — скорее — моё предыдущее посещение не разрушило её подозрений против меня. А утром отнёс переплетать Кольцова для О. С., которой имя велел выставить (О. В.). Должно будет заплатить вероятно 3 руб. сер. (а думал, что будет стоить не более 2), готово будет в субботу. Завтра думаю быть у Малышева, к которому ездил было вчера, но не застал дома. Вечером сидел Евгений Алекс. до 10¼ часов. 3 часа убито.
5. Утро всё писал дневник и разбирал листки. К 4 час. кончил разбор листков совершенно, после стал думать о диссертации. Решился прежде всего отделить места, писанные не напыщенным языком, от напыщенных, и написал несколько строк предисловия. Вечером недоволен, потому что с 7 до 10½ просидел у Мелантовича, который присылал записку с просьбою помочь на экзамене одному поляку. — Как это меня взбесило! Видно не почел за нужное идти сам! Не считает меня достойным личного посещения! И моя жена будет иметь такого мужа, который доставит ей положение в обществе такое незавидное! Нет, это несносно! Мало-по-малу сообразил, что это вовсе не от гордости, а потому, что я не просил его к себе, и потому, что я живу не один, а с семейством. Но как можно потерять 3½ часа, когда минуты так дороги! Однако я не думал, чтобы было 10½, я думал 9. И ещё глупость: пригласил Ник. Ив-ча, который был там! Снова потеря времени. В гимназии не был и завтра не буду. Принимаюсь за главный дневник, чтоб написать там страницу. Нет, не хочу, чтобы не кончить описанием сомнений. Завтра лучше окончу свои сомнения и начну описывать свои впечатления.
О. С.! О. С.! О. С.! Нет, я люблю вас, потому что во мне в самом деле перемена. Я не теряю времени ни минуты без сожаления. Деятельность, деятельность!
«Я скоплю казну, сберегу казну».
6, пятница. Всё утро (в гимназии не был) писал дневник. После обеда был у Чеснокова; оттуда, как воротился, прислали Кобылины, чтоб играть в карты с Катер. Никол. Воротился, уж был Николай Иван., которого я вчера просил к себе. Уехал сейчас, в 12 часов. Ложусь. Дневника о ней написал 5 страниц.
Благословенна да будешь ты! Жду с нетерпением воскресенья.
7, суббота. Как встал, сел писать (это написано в 1 час. после окончания 1 стр. 36 листа её дневника). После чаю поеду к Малышеву, на минуту к Никол. Иван., после в ряды купить для Стефани стакан, после к переплетчику посмотреть Кольцова.
В 11 час. ходил к переплетчику (Смирнов против Полиции) посмотреть, что делается с Кольцовым. Он его окончательно зо[550]лотил. Золотой обрез вышел хорошо. И я пробыл более часу, чтобы всё это кончил под моим надзором. При мне он отзолотил корешок и положил заглавие. Всё это вышло хорошо. Книга любви чистой, как моя любовь, безграничной, как моя любовь; книга, в которой любовь — источник силы и деятельности, как моя любовь к ней,— да будет символом моей любви (это писано в 3 часа).
После обеда писал и докончил свои впечатления и описание действия на меня того, что я стал её женихом.
Теперь примусь за свою диссертацию. Вечером жду Николая Ивановича, чтобы ехать к Стефани.
½ 2-го ночи. Вместо диссертации сел за перечитывание дневника для его дополнения. Приехал Ник. Ив., чтоб ехать к Стефани. У него просидел до сих пор и довольно не скучно, но, наконец, всё-таки даже подобное общество теперь потеряло для меня свою прелесть. Стефани человек решительно порядочный. Там был Сорочинский, тоже порядочный человек. Ложусь. Завтра увижусь с нею.
8, воскресенье. Отправился к Чесноковым, с Вас. Дим. к Ольге Андр. Патрикеевой, которая приглашала в пятницу у Чесноковых (спор с маменькою из-за этого), хотел быть в прошлое воскресенье, но не успел. Там посидел около ½ часа и был весьма доволен, что был, потому что там буду видеться с О. С. Потом был у Малышева, который сказал, что место в Кузнецке будет дано и что нельзя от него отказаться. Потом у Кобылиных, к которым теперь иду обедать, но раньше занесу книги к О. С., потом к ним, от них к Анне Никаноровне.
У Кобылиных скучал; когда время стало подходить к 6, у меня билось сердце. [У] Анны Никаноровны сначала разговор никак не вязался. Потом снова я вовлек её в откровенность, и она стала говорить о том, что в её жизни есть гнусная сторона — что она не была ни дочерью, ни супругою, ни матерью; я опровергал эти мысли в известном роде. Когда при эпизоде о положении женщины и о том, что должно быть не так, и о том, как, должно быть, будет, она сказала: «Да будут ли эти времена?» — «Будут», сказал я, и слёзы выступили у меня от радостной мысли о том, что будет некогда на земле,— да и теперь текут слёзы, и о том, что всё это будет, когда нас уж не будет, и когда после этого она стала говорить о том, что вообще жила даром на земле, у меня снова показались слёзы. «Нет, на других вы имели больше влияния, чем на меня, потому что я уже несколько установился, когда узнал вас, всё-таки видел кое-что, и наши темпераменты слишком различны; но если бы, наконец, и никто кроме меня не знал вас, и тогда вы жили бы недаром, потому что следы знакомства с вами не изгладятся и во мне». И я беспрестанно брал и с чувством истинного участия, симпатии целовал её руку. Когда мы прощалась, я сказал: «Нет, нет, вы жили недаром, если б и я один знал вас». [551]
Какое различие: раньше этот разговор имел бы на меня чувственное действие, теперь я говорил с нею как с сестрою. И я говорил совершенно искренно. У меня были и насмешливые фразы, но не ядовитые, а тёплая насмешка. Я был решительно искренен, но мягок, тепел. И всё это совершила ты, о моя милая! Да будешь ты благословенна!
С завтра начинается диссертация. О, если бы в начале мая мог я кончить ее!
Писано 10, в 10 часов.
9 марта. — Был в гимназии. С некоторым удовольствием потому что в охоту. Воротясь в 3¼ от Кобылиных, думал о своей диссертации и словах ее: «Уезжайте в апреле, воротитесь в июле». — Решился ехать в конце апреля. Если к 15 числу не будет готова диссертация о Ипатьевской [летописи], в 10 дней напишу что-нибудь другое, напр., теперь думаю — о заслугах Гумбольдта для теории сравнительного языкоизучения.
Вечером обещался быть у Николая Иван. Не желая терять ещё вечера (он хотел быть у Анны Никан.), устроил так, чтобы быть в этот же вечер. Был. Посидел до 11 часов почти. У меня была одна мысль: «я теряю время». Ныне начал писать диссертацию. Может быть и будет кончена к 5 апреля, и тогда можно будет отдать переписывать. В конце апреля постараюсь уехать и чем скорее воротиться сюда.
Писано 11-го, в 11 час. вечера.
10-го, вторник, занимался работою по диссертации — глава о согласовании слов; увидя её трудность, и многосложность, решился оставить до после, а покуда отделать главу об управлении слов; этими двумя главами я ограничился; о сочетании предложений не хочу, потому что это нельзя по памятнику, писанному с таким неискусством, таким плохим языком, как Ипатьевская летопись. И вот 5 часов, и я собираюсь. Боже мой, собираться начал ещё поутру, раздушился и т. д. и — «уходите поскорее и до воскресенья меня не увидите». Боже мой, как мне было грустно, грустно! Я даже заходил к П. Я. Ефр., чтобы рассеяться несколько! Его не было дома. Даже пошёл, воротясь домой, к Мелантовичу, у которого посидел с полчаса (по делу об экзамене юнкера Ремишевского). И было так грустно, что просидел бы гораздо более, если бы не заставила меня уйти мысль: «Я не должен терять времени». Грустно было мне. Да и теперь не совсем хорошо.
11-го, среда, в гимназии не был, потому что ещё не поправился голос. Весь день писал материалы для своей диссертации: об управлении слов. Завтра «обстоятельства». На первый случай я разбираю 24 стр. до княжения Изяслава, по ним составлю первую черновую и потом буду приписывать остальное. Работал довольно прилежно. Верно часов 8 в сложности сидел. Что-то будет в воскресенье? Не знаю, как оправдаться перед Анною Кирил. Что-то будет в воскресенье? [552]
О, как она благородна, как добра!
Но некогда терять времени. Ложусь, чтоб завтра раньше приняться за работу. Начинаю работать с удовольствием, потому что должен работать, должен спешить для неё, и потом вижу, что может быть будет что-нибудь интересное для науки. Во всяком случае теперь я вижу, что хорошо и основательно выйдет о двойственном числе. Начинаю пересматривать и свой словарь, чтобы его переписка не задержала меня.
Сообразил, что печатание диссертации не может задержать: в 3–4 месяца, конечно, успеют напечатать.
Милая моя! если бы ты любила меня!
12, четв. Встал в 6½ и прямо за работу.
(Писано 13-го в 9 час. перед гимназиею.)
После того как воротился от Кобылина, да и раньше, и вчера вечером, тосковал страшно, так что не мог приняться за работу после того, как пришёл от Кобылиных. Письмо. Вследствие этого 6½–8 у них, после у Палимпсестова до 10½. Говорили о различных вещах, я был весьма разговорчив, оттого что мне было легко на душе и для того, чтоб не дать завязаться продолжительному разговору об О. С., потому что я тут высказался бы (у Палимпсестова [был], потому что он звал, говоря, что будет Николай Иванович).
13, пятница, утро работал, теперь в гимназию. Потому что нужно пройти по программе; в классе буду работать. Теперь мне легко, потому что переговорил с нею. Хотя не о всём, но во всяком случае о том, чтò у меня в письме, и увидел, что она верит мне. Опишу свидание после обеда. Утром ныне работал. Вечером буду снова.
Писано 14-го, суббота, 12 час. Только что уехали Николай Иванович и Евгений Александрович.
13-го, пятница, после обеда к Корелину, который сказал мне через Пескова, что болен, но ему нужно говорить со мною. Я хотел эти дни работать, но нечего делать. В самом деле должно спешить. Поехал, его нет дома; несчастный, несмотря на свою болезнь, он отправился в ростепель от Сенной площади к Покрову продавать краски. Воротился к Николаю Ивановичу, от которого поехал к нему, должен был дожидаться. Не совершенно напрасно потратил время, потому что написал письмо к брату. После к Корелину, к сапожнику, наконец к Николаю Ивановичу. Переговорил о метрическом свидетельстве Корелина с Прудентовым,— добрый человек — и с каким восторгом рассказывал о том, как строил дом. Да, умиление, умиление, которое приятно трогает слушателя. После этого поехал от Николая Ивановича, воротился домой в 9½ часов — работать некогда. Но всё-таки я не жалел об этом вечере, потому что употребил его на пользу ближнего.
14-го, суббота. Разговор с директором, который, по его мнению, [553] поступил благородно, отказавшись доносить на меня в Казань[465]. Конечно, благородно с его точки зрения. Я хотя не разделял её, но был растроган. Инспектор много смеялся нашей дружбе. Я не был бы в состоянии вести себя так раньше, когда не был уверен в своей силе и в том, что я не трус и не малодушен. Но теперь я был спокоен и мягок и просил его, а не требовал, чего раньше не мог сделать. Вообще я доволен собою в отношении этого: не уступил и не струсил, но был чрезвычайно мягок и даже нежен. После того, как пришёл из класса, я устал. Пошёл к Чесн., потому что Вас. Дим. заходил вчера, и узнал, что он приходил, чтобы звать к себе, потому что у них будет Катер. Матв. Я пожалел несколько, потому что славная девушка и мне было бы приятно поговорить с нею — вовсе не любезничая; теперь я перестал любезничать с кем бы то ни было, кроме неё, кроме неё.
Пришедши, стал пересматривать свой дневник за петербургскую жизнь и нашёл место о вечере у хозяек Ивана Вас. Писарева. Это место таково, что я захотел прочитать его Ольге С. и прочитать завтра, если будет можно. А теперешний дневник кончить уж после. Стал работать — приехал Ник. Ив., послал за Евг. Ал., и они просидели с 7½ до 12. Итак, и ныне я почти не работал. Ничего, работа довольно спорая.
Завтра, в воскресенье, я должен быть у Корелина, может быть у инспектора, у Акимовых (О. С. сказала, что неловко не быть, потому что как будто бывал раньше только для неё), у Город., если достанет времени; раньше хотел к директору, чтобы высказать ему, что я оцениваю его поступки со мною, но теперь не буду, потому что недостанет времени. Это можно будет высказать и пред отъездом и будет гораздо лучше.
Вечером буду у неё. О моя милая невеста! Ты делаешь меня счастливым, ты дала мне мир с самим собою, ты дала мне счастье теперь, ты даешь мне надежду на счастье во всю нашу жизнь.
Да будешь ты счастлива.
Но перечитаю несколько дневник о ней для дополнений.
Писано 17-го, во вторник, в 8½ веч.
15, воскресенье., был до обедни у Корелина, после у Город., которому должен был заплатить визит, после у Акимовых, потому что ей так казалось нужным. Любезничал, т. е. шалил, с Вороновой. Пав. Вас. принял меня радушно и спросил наконец, правда ли, что я женюсь на О. С. — «О. С. прекрасная девушка, но я через 1½ месяца уезжаю, тотчас после пасхи, и когда я приеду в Петербург, у меня останется всего 20 р. сер.,— тут нельзя жениться». Вечером был у неё. Как мне было прискорбно, что она не хотела, чтоб я был поутру поздравить её. Вечер у неё описан в дневнике о ней.
16-го, понедельник, как пообедал, был у Колесникова, после к ней, отвёз два первых номера «Современника», которые взял у [554] Колесн. От неё заехал к Чесноковым, где застал Шапошникова, который смеялся, что я украл из гимназической библиотеки Кольцова. Вечером Вас. Дм. был у меня. Я его приглашал, чтобы поговорить об О. С., но скоро (при моей помощи — так я привык лицемерить и вести разговор вовсе не о том, что мне хотелось бы, а говорить о чём хочется только как бы потому, что другие сами говорят об этом) разговор перешёл к политическим вопросам и продолжался так до самого конца. Когда он стал вставать, я удерживал его: «Поговоримте об О. С», но он сказал: «Теперь я занят не тем». — В самом деле славный человек и искренно предан высоким мыслям об общественных делах.
17-го, вторник. Утром написал письмо к Введенскому, которое вечером отнёс Сережа вместе с письмом к Саше, написанным у Николая Иван. Когда пошёл к Кобылиным, встретил на лестнице Анжелику Алексеевну, которая сказала, чтоб я обедал у них. Так пришёл домой в 6 час. Жаль было терять время. Идя туда, занёс книгу, которую нужно было купить, Василию Дм., в Казенную палату; сказал ему, что в четверг буду у Сокр. Евг. Он сказал, что он любит шутливый разговор и что я должен шутить, он будет хохотать и будет доволен мною. После баня. После бани сел за дневник о ней, тотчас после пишу это. Теперь принимаюсь за работу. Окончил выписки, теперь должен буду писать и дополнять их. После разбирать и составлять. К воскресенью эти предварительные работы будут кончены. Посмотрю ещё до того времени несколько своего словаря, который скоро должен буду отдать снова переписывать. Завтра нигде не буду, если не будет крайней надобности. После завтра буду у Сокр. Евг., т. е. увижусь с ней.
18-го, среда, 10 час. веч., после того, как писал в дневнике о ней. Из гимназии пришедши — устал. Как отдохнул — к Чесноковым. Там Вас. Дим. говорил мне, что будет просить её быть завтра у них, потому что именинница бабушка Дарья Гавриловна. Это меня оживило. Может быть и будет — едва ли однако. Но я хочу надеяться. Как пришёл оттуда, отправился снова к нему, чтобы идти вместе к Евг. Алекс., который присылал за мною, у которого был Николай Иван. и Максимов. Там просидел до 10. Работал весьма мало, потому что беспокойство некоторое от моей любви и от того, что бог знает, увижу ли завтра её, как думал. Однако начал разрезывать и завтра начну писать. Если бы завтра увидеть её. Я решительно влюблён, мало того, что люблю. Мне совестно за себя. Ну как же такому серьёзному человеку, как я, быть влюблённым — воля ваша, Ольга Сокр., вы довели меня до глупого состояния. Как можно с нетерпением дожидаться: «когда я увижу ее!!» Как можно волноваться от мысли: «а если моя надежда увидеть её не сбудется?» Но — влюблён, так влюблён, от этого я счастлив, от этого я тверже, решительнее. Люблю вас, Ольга Сократовна, люблю вас. Любовь моя решительно, реши[555]тельно справедлива, решительно оправдывается рассудком, но сильна до нерассудительности.
Писано в пятницу, 20-го марта, после как писал в дневнике о ней.
Четверг, 19-го. И вот я сбирался видеться с ней, и какое безутешное было свидание! Как грустна была она![466] Более ничего не хочу писать. О, какая скорбь поразила ее!
Пятница, 20 марта. Когда я сбирался идти к Сокр. Евг., маменька ужасно кашляла, поэтому я, не успевши застать Сокр. Евг., пошёл к Шапошн. спросить у А. Ив. березовки. Я был расстроен так, что это заметил и Сергей Гавр. и Серафима Гавриловна. Я был расстроен и озлоблен. Наконец, я не выдержал и сказал, когда меня спрашивали всё, о чём я задумался: «Я думаю о девице, и, если угодно, скажу, что я думаю, а потом, если угодно, скажу, о ком думаю. Я думаю вот что: некоторые находят, что эта девица недурна. Я нахожу, что это неправда. Многим кажется, что она хорошо себя держит. Я знаю, что она кокетка. Многим кажется, что мне было приятно говорить с ней, я даже имел какие-то намерения относительно её. Я говорю, что это неправда, что мне всегда была она противна. Вот что я думаю о ней. Теперь, если угодно, я скажу её имя. Я начну поодиночке и поочередно и скажу Конст. Петровичу» (он сидел подле меня, мы играли в вист). Я встал, нагнулся и сказал ему на ухо: «Это Серафима Гавриловна». «Теперь,— сказал я вслух,— вам предоставляется, Конст. Петрович, решение, можно ли передать это другим». — «О, как вы злы, как вы никого не щадите — не говорите с ним, пожалуйста; я таким злым никогда его не видел». Серафима Гавр, всё упрашивала его, чтобы он сказал — глупая, гадкая! Она думала, что это я говорю об О. С., да мне весело было вводить её в это обольщение, хоть потому, что говорилось раньше (что Конст. Петровичу очень приятно играть вместе с Сер. Гавр., и потому что я после говорил, чтобы он не увлекался, как, кажется, увлекается этою девицею, о которой я говорил, и вообще по ходу предыдущего и следующего разговора было весьма ясно, что я говорю о Серафиме Гавр. — глупая, скверная девчонка! Мне опасно подвертываться под руку. Я не хочу ударить тебя, как мог бы и как хотелось бы мне ударить тебя,— но я, насколько мне вздумается, не пощажу). Потом я через несколько времени засмеялся. «Что вы смеетесь?» — сказала Сераф. Гавр. «Я смеюсь некоторым предположениям, которые имели о моих намерениях и может быть имеют до сих пор. Когда меня на-днях спрашивали, справедливы ли эти предположения, я сказал, что они оскорбительны для меня (я говорил это Воронову, когда мы ехали с ним и с Вас. Димит. 15 марта от Васильевых; говорил Катерине Матв., когда был у них в первый раз; писал это брату и показывал это письмо Василию Димитр.), что я обижаюсь ими и что мне совестно за тех, которые их считают сколько-нибудь вероятными». Она верно поняла снова об О. С. — [556] «Вы говорили слишком ясно»,— сказал Конст. Петр., когда мы пошли вместе. — «Она не поняла»,— сказал я. Это скверная девка.
Серафима Гавр.,— когда стали говорить об Анне Кирил., о чём я с нею говорил — о Венедикте, что ему должно ехать в университет,— вклеила так: «Как ему теперь ехать, он ещё молод, он двумя годами моложе Ольги Сократовны; впрочем, это уж не значит, чтобы он был молод». Мне хотелось сказать, что это правда, потому что это потешало меня — как будто я не знаю её лет и как будто я думаю, что ей 16 лет!
Глупая девчонка! Ты думаешь ещё, что это я говорил о ней, а не о тебе.
Глупая девчонка! Гадкая, злая, мерзкая девчонка.
Суббота, 21-го марта, 11 час. вечера.
Утро пробыл в гимназии, между классами сходил (лошадь несколько дней назад пропала) к Елене Вас. Акимовой поздравить с причащением, потому что хочу подольститься к ней, чтобы не мешала нам и не озлилась на меня. Из класса к Чеснокову и Белову, после ко всенощной, где думал иметь возможность переговорить с нею, но кругом стояли гимназисты, главное Воронов, поэтому я тотчас ушёл к Палимпсестову, где застал Пригаровского. Меня весьма радовал разговор с Сераф. Гавр., и я рассказал его Фёдору Димитр. и Палимпсестову. Завтра буду у них, чтобы просить Сократа Евг. к маменьке, которой здоровье весьма расхилилось.
Завтра увижу её непременно. Если не удастся, буду у них в понедельник.
В церкви она стояла у печки в маленькой комнате, в которой дверь направо от входа в переднюю.
О, моя милая, как я люблю тебя!
Палимпсестов показывал два списка девиц с выставленными баллами их достоинства. Один был составлен по алфавитному порядку, и О. С. стояла первая под В, и против неё поставлено 5. В другом списке, который был составлен не в алфавитном порядке, она стоит самая первая и снова против неё 5, а в списке по алфавитному порядку из 200 девиц всего против четырёх стоит 5, не более и в другом списке. Она решительно первая по общему мнению. Это меня обрадовало за неё. Я горжусь ею. О, моя милая, да будешь ты счастлива! Но я теперь в горести, потому что ты горюешь. И я до сих пор не имел возможности облегчить твою грусть! Я похудел от тоски из-за неё. Это мне все замечают — и ныне в гимназии, и Палимпсестов тоже.
О, моя милая! Как чиста моя любовь к тебе!
Я не мог работать от тоски. Но эта тоска сладка, потому что я тоскую твоею тоскою, мой милый (как мне хочется употребить слово ангел, но не буду употреблять его, потому что не хочу осквернять её этим пошлым названием), о, мой чистый, мой нежный, благородный друг! [557]
Писано 27 марта.
Не хотел ничего писать раньше объяснения её гнева на меня в воскресенье у Акимовых. После было решительно всё время занято, и только теперь по окончании вписывания своих чувств в дневник о ней принимаюсь за этот дневник.
22-го, в воскресенье. Утром был у Патрикеевых, не застал там ни её, ни Катер. Матв. Поэтому пошёл к Малышеву, которого не застал дома, и после к Кобылину, у которого и обедал. Вечером прямо от Кобыл. к Акимовым.
23, 24, утро 25, был ужасно расстроен, не был у неё и не писал ей, чтобы более не оскорбить её.
23-го поэтому не был и в гимназии. Ходил к Николаю Иван. После обедал у Кобылиных. Вечером был так расстроен, что не хотел идти даже к Евгению Алекс., чтобы несколько уйти от себя. Но пришёл он и просидел до 11. Все эти ночи воскресенье, понедельник, вторник не спал до двух или трёх [часов], потому что слишком мучился.
24-го, вторник, утро работал, после Кобылина снова работал, в 6 часов к Евгению Алекс. и с ним и Максимовым к Василию Дим., у которого до 10. Максимов говорил несколько о ней.
25-го, утром в церкви. После у Кобылиных, к Патрикеевым не хотел зайти, чтобы не заметили слишком, что я только для неё. Обедал у Кобылиных. После у Патрикеевых, где довольно много говорил с Лидией Ивановной — славная девушка. После Патрикеевых Василий Дим. зашёл ко мне; тут, когда я просил его зайти ко мне, он сказал: «Я привязан к вам, Николай Гаврилович, как собака». Сначала говорил о мне и ей, после он стал говорить о себе. Мне было совестно не войти в его положение после такой привязанности, и я говорил о том, что ему следует ехать в Петербург. Просидел до 12.
26, четверг, в гимназии не был. Вечером у неё. Сократ Евг. говорил умнее, чем я ожидал. Он умный человек.
27, пятница. — Был в гимназии, ничего особенного не было там. Вечером у Николая Ивановича.
Да, в четверг был именинник Шапошников — отец. Я долго сидел у них и дочь сидела и говорила со мною с удовольствием. Глупенькая, неужели она до сих пор не поняла смысла моих слов? Я зол на неё и ругаю её везде, где есть её знакомые. Я не прощаю ей этого. «Венедикт двумя годами моложе Ольги Сократовны, впрочем, уж он не так молод». У Николая Иван. (пятница, ныне), наконец, предложил ему Рычкову и завтра поговорю об этом с О. С.
Милый мой друг, милый мой друг!
28, суббота. — Писано в перемену в 10 час. (до этого времени всё писал дневник о ней).
Когда стал одеваться, принесли от Николая Иван. записку, чтоб не говорил о нём у Васильевых; тотчас сел писать ответ, что [558] не должно обращать внимания на толки матери, и по-немецки написал, что я, напр., ныне говорю с отцом моей невесты: может быть мне вздумают мешать, тогда я скажу, что лишу себя жизни. И после не позволю ни одного слова, ни одного намёка на отношение между мною и женою. Теперь он может понять, кто моя невеста, оттого что я сказал ему, что завтра буду у Васильевых. Но что же делать? Скажу ей, впрочем, об этом.
Писано 30 марта, вторник, в 5 часов утра.
Как оделся после обеда,— к О. С.; от них в 9 час. к Евгению Алекс., где не застал, однако, Николая Ивановича.
Воскресенье, 29-го, был у поздней обедни, после всё дожидался, когда можно переговорить с папенькою; потом обедать к губернатору. Оттуда к Мелантовичу, чтобы дать время несколько пройти шуму в голове, потому что я слишком много пил и несколько шумело; потом полежал для этого же несколько времени наверху, и, наконец, разговор с маменькою. Я готов был на самоубийство. И верно решился бы.
30, понедельник, из гимназии и после от Кобылиных в 3½ час., после обеда тотчас одеваюсь; разговор с маменькою. Наконец, в 6¼ час. у них; после снова разговор, но уже в мирном духе с маменькою и папенькою. Лёг в 10 час. «Надо достать денег», эта мысль не давала мне покоя, и она разбудила меня в 4 часа. Теперь всё думаю об этом. Прежде всего к Ник. Иван., если не даст — что делать? Посоветуюсь с кем-нибудь — может быть с Вас. Дим. — после переговорю даже со своими о деньгах. Мне нужно 1 000 руб. сер. Верно, когда он настаивать хотел[467] заплатить этот долг. Но это всё равно. Где бы то ни было, достану денег. Наконец, если ничего не удастся, обращусь к Сократу Евгеньевичу.
Принимаюсь за работу.
Писано 1 апреля, среда, после гимназии.
31-го, вторник, утром был у Николая Иван. Только вошёл я, как приехал Фрейман просить денег. Николай Иван. не дал ему и сказал, когда он уехал, что не даст без залога. Потом я сказал ему о том, что сделал вчера предложение. Он спросил меня о деньгах, но не предложил своих; поэтому я и не стал ему говорить; не стану говорить и со своими, потому что не хочу одолжаться кем бы то ни было и потому что, кажется, они немного на меня дуются, а скажу ей, что если она не усомнится расходовать свои деньги на переезд, обзаведение и первое время жизни, то так, если нет — мои надежды на Костомарова разрушились, но, если угодно, я постараюсь достать в другом месте. [559]
Писано 3 апреля, в 6 час. утра, пятница.
В среду я пошёл к губернатору, чтоб доставить удовольствие маменьке, воротился оттуда — записка от Тыщенки: у Васильевых была Катер. Матв. и просила послать за мною. Но главное, Анна Кирилловна меня ждала и поручила сказать это Венедикту в классе, тот по обыкновению не сказал. Я пришёл от губернатора почти в 8 час. Маменька была недовольна: «Зачем ты окольными путями?» — «Какими окольными путями?» — Снова разговор, снова неприятности. Наконец, у них. Анна Кирил. дала мне своё «будущему сыну» и велела написать о супружеской жизни. Я пошёл к стоянию, чтобы угодить маменьке, «о мне хотелось прочитать поскорее, что она пишет, и поэтому я ушёл из церкви и стал читать под лампою на губернаторском подъезде; воротился домой, сказал, что это посылала Анна Кирилловна и посылала сына, тот послал Тыщенку. Маменька успокоилась.
2 апреля, четверг, утром был у Кобылина, после в гимназии (Палимпсестов был накануне советоваться о поездке в университет, я ему отнёс программу), в 4½ к Анне Кирил. Там был Вас. Дим. Разговор с О. С. не вязался при других; я ей дал впрочем прочитать свой ответ Анне Кирил. и отдал её «будущему сыну». Анна Кирил., кажется, в ужасной радости, что избавляется от О. С. По крайней мере, со мною чрезвычайно мила. Сократ Евг. весьма просто, весьма холодно, но он мне нравится. Вот, наконец, нам объявили, что мы жених и невеста. Ворочаюсь домой в 9 час, прошу папеньку завтра [поехать]. Сначала не согласился, потому что всё недоволен: ему кажется неблагоразумно, я ему говорю о своих расчётах, хвалю себя и т. д. Наконец, согласился ехать завтра, т. е. ныне поутру. По его мнению, должно сказать Фёдору Степан., и Ан. Иван. — Ан. Иван. и так узнает. — Ольга Сокр. хотела приехать вечером к маменьке. С папенькою у меня были довольно искренние объяснения.
Теперь отправляюсь за кольцами, потом к ним, к Фёд. Степ. После домой, вместе со своими снова к ним. В гимназии не был. Завтра скажу директору о разрешении. У Сократа Евг. обедаю. Может быть, и папенька обедает. Кажется, и папенька и маменька перестали почти быть недовольными, особенно папенька, кажется, теперь успокоился. Всё идёт хорошо, и я умею уговаривать людей, потому что и папенька, и даже маменька сбираются делать по-моему. Папенька доволен.
Писано 4 апреля, в 12 час. утра, между классами.
Был у Фёд. Степ. Потом с папенькою к ним. Потом папенька за маменькою, чтобы воротиться к 12 часам. Я остался, они долго не приезжали. Я предчувствовал это и предчувствовал, что сделал глупость, что не поехал с папенькою. Наконец, О. С. послала меня за ними, но я встретил их на дороге. Маменька после обедни вздумала пить чай — как это нехорошо! Ольгу Сокр. ужасно тяготило [560] ожидание — наконец, когда я воротился с ними домой, у меня сидел Палимпсестов, который дожидался меня. С ним я посидел с час, между прочим чтобы дать время пройти голове, в которой немного шумело, потому что я выпил 3 рюмки хересу и 3 бокала шампанского. Снова к ним. Вечером маменька была со мною ласкова и, кажется, довольна мною. Папенька сказал, что резва. Должно быть не совершенно нравится. Но маменька по обыкновению хитрит. Я спрошу О. С., хочет ли она быть у них и просить ли маменьку снова к ним ехать.
Ночью всё время был в некотором волнении физическом, было напряжение, но только напряжение и больше ничего; мысли оставались целомудренны.
4 апреля, утром был у директора; право разрешения[468] у него, это хорошо. Две недели можно не ходить, это хорошо. Несколько успею поработать в это время и буду бывать только в 7 классе. Потом к Чеснокову, которому сказал это. Вечером у них.
Писано 8 апреля в среду, в 11 час.
Маменька больна[469], и я всё сидел в её комнате и только, когда уснула крепко, ушёл на минуту.
В субботу вечер просидел у них, был в 7 классе.
5-го, воскресенье. — Снова у них весь день. Был у Палимпсестова в 6 часов, пока О. С. ездила в ряды.
6-го, понедельник, в гимназии быть некогда было, потому что должен был заказывать шкатулку. По этому случаю был у Паля снова. Паль не берётся. Вамсганц[470] взялся и дал чинарового дерева на пробу. Пусть будет чинаровая. Мне пришло в память: «У Чёрного моря чинара стоит молодая»[471],— так роскошна ты, моя милая.
Взяли с папенькою на фрак, отдам Мейендорфу. Был у Кобылина, Анжелика Алексеевна очень рада и хвалит её.
7, вторник. — Снова у Вамсганца, У Кобылиных обедал, потому что её не было дома в это время. Она говеет и от вечерни в ряды. Вечером страшно больна маменька, просидел у неё до часу, тогда она успокоилась. В 6 час. снова разбудили меня.
8, среда. — До этого времени просидел у маменьки в комнате; во время обеда, может быть, удастся побывать у неё. Нужно ещё купить погребок и конфет для Рычковых. Иду к маменьке, если не проснулась, запишу вчерашний день в её дневнике[472]. [561]
Приложения
I. Отрывочные записи 1846 и 1848 гг.
1846 г. мая 13
Пётр Никифорович Каракозов, священник церкви при Александровской больнице, первый пожелал мне именно того, желанием чего исполнена вся душа моя: говоря о поездке близкой моей в Петербург, он сказал: «Дай бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время поседеем».
Н. Чернышевский.
Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но всё-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении.
28 мая 1846 года.
Ныне встретился нам отец диакон села Баланды Михаил Семёнович Протасов, разговаривал много о Воронеже и поездке туда и, наконец, попрощался после больших пожеланий счастья, здоровья и проч., прибавив мне: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России». Вот второй человек!
Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству.
Маменька сказали: «Это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери». — «Нет, это ещё очень мало,— сказал он; — надобно им быть полезным и для всего отечества».
Я вечно должен их помнить.
Николай Чернышевский.
18 IV/3 48
Прочитав это (которое подано в субботу на шестой неделе великого поста), Фрейтаг сказал, что «весь год я подавал ему переделки или переложения из древних писателей, а это более лёгкое дело, и поэтому хоть он это не осуждает, но вперёд ждёт своего», и кроме того здесь нашлось две или три ошибки (cuiquam, a должно cuique строка 1, condemneretur, а должно condemnaretur и veneverint, а должно venerint — ужасные промахи, это главная причина, а не слова Фрейтага), и я целый этот день и несколько следующих был взбешен на себя за эти глупые ошибки и за то, что не предугадал мнения Фрейтага о лёгкости переделывать из древних, и на него зато, что не сказал этого раньше. Но, главное, за ошибки на себя. Мне неприятно даже было на товарищей, которые, мне казалось, должны спустить теперь на несколько градусов мнение, которое раньше имели, если имели, обо мне. Ужасно бесился. [562]
II МАТЕРИ[473]
О религиозных отношениях между женою и мужем, как христианами, я не буду говорить — понятия об этом установлены учением церкви о таинстве брака; учение церкви подробно объяснено великими учителями церкви, и с этой стороны между христианами не может быть никакого разномыслия, никаких недоразумений, и потому даже излагать свои понятия об этом предмете отдельному лицу — вещь лишняя; христианин должен только сказать: я сын церкви и понимаю отношения и обязанности к жене так, как предписывает понимать их церковь.
Но совершенно другое дело житейские, земные отношения между мужем и женою. Конечно, и они во многом определяются учением церкви и её пастырей; но весьма многое в этих отношениях зависит и от характера и образа мыслей каждого человека, в частности. Я человек малоопытный в жизни. Уже по этому одному многое в моём образе [мыслей] должно быть незрело. Но я надеюсь, что в сущности мой образ [мыслей] хорош и честен.
Если во всех тесных отношениях между людьми для доброго согласия и довольства друг другом необходимо нужна взаимная снисходительность и уступчивость, тем более нужна она в супружеской жизни, самом теснейшем союзе, какой только есть на земле. Эта снисходительность и уступчивость легка, когда есть сердечная привязанность.
В моём характере — о привычках я не говорю, они все могут измениться и, если понадобится, изменятся без всякого особого усилия с моей стороны,— но в моём характере, изменить который и изменить вдруг не всегда и не во всем зависит от собственного желания, есть довольно много такого, что нуждается в снисходительности, есть много слабых и странных сторон. Я уверен, что Ольга Сократовна примирится с ними, потому что в ней много доброты и снисходительности. ещё более даёт мне права ожидать этой снисходительности моя привязанность к Ольге Сократовне. Чем более мы будем жить вместе, тем более Ольга Сократовна будет убеждаться в том, как сильна эта привязанность. И, я уверен, из-за безграничной привязанности к ней жена всегда легко простит мужу многое странное и слабое в его характере, особенно когда будет видеть, что всё в его жизни и поступках подчиняется одной мысли — сделать её, насколько у него достаёт сил и возможности, довольною и счастливою, потому что он находит главным своим счастьем счастие и довольство жены. А такова была бы моя супружеская жизнь с какой бы то ни было женою, тем более с Ольгою Сократовною. [563]
Нужна ли будет с моей стороны снисходительность к ней? Не думаю. По крайней мере, до сих пор, как ни внимательно наблюдал я за нею, не было ею ни сказано, ни сделано ничего, чем бы я когда-нибудь в каком бы то ни было расположении духа мог быть недоволен — мало того, я не заметил в ней ничего, о чём бы мог думать: «Лучше было бы, если б этого не было или если б это было иначе». Уступчивость с моей стороны понадобится во многом,— но она не будет мне нисколько тяжела, потому что, насколько я могу судить о себе, уступчивость и предупредительность составляют одну из существеннейших сторон моего характера. Противоречить без крайней необходимости, сделать что-нибудь не так, как хочется это другим,— не в моей натуре. Есть вещи, в которых я непреклонен, но это вещи, не касающиеся нисколько житейских отношений, это мои убеждения относительно различных теоретических вопросов, их я не изменю ни для кого, потому что не в моей воле, но или они не будут интересны для моей жены (чего бы я, однако, не желал и не ожидаю от Ольги Сократовны при её любознательности и её уме), или Ольга Сократовна сойдется со мною в этих убеждениях. Но во всех житейских отношениях, во всех домашних делах, во всём, что касается образа жизни, я всегда рад уступить, если только это принесёт больше удовольствия людям, которых я люблю, потому что главное моё наслаждение — видеть, что мною довольны, а чьим же довольством дорожить, если не довольством жены?
Это естественно приводит меня к объяснениям о том, от кого в семействе должен по моим понятиям зависеть домашний образ жизни.
Мне кажется, гораздо более, чем от мужа, должен зависеть он от жены, потому что муж занят весьма многим кроме своего домашнего быта: и своими служебными делами, и своими собственными работами, и поэтому для него домашний быт — не единственная сфера, в которой живёт он. А для жены образ жизни — домашний, и семейный порядок составляет всё. А мне кажется, что для кого важное дело, мнение того и должно быть решительным в деле. Само собою, отдавать дело на суд можно только тому, в ком есть довольно рассудительности и благоразумия, чтобы решать его хорошо. Но — перехожу от общего вопроса к своим личным делам — если бы я не видел в Ольге Сократовне весьма много благоразумия, я и не решился бы никогда просить вас дать её мне в подруги жизни. Я могу очень любить, могу даже уважать людей неблагоразумных, но разделить с ними жизнь я не решился бы никогда. Я совершенно полагаюсь на Ольгу Сократовну,— может быть более, чем на себя,— а полагаться я могу очень на немногих. Поэтому, между прочим, и кажется мне, что я буду с нею счастлив, поэтому-то думаю, что и она будет мною довольна. —
Я дописал это набело, когда пора уже было идти, поэтому я приписал прямо набело ещё ½ страницы и пишу теперь на память. [564]
Я далеко не кончил, но время не ждёт.
Оканчиваю несколькими словами:
Мне кажется, муж должен гораздо больше заботиться о том, чтоб им была довольна жена, чем жена о том, чтоб ею был доволен муж, потому что у мужа много других занятий, кроме семейного быта, для жены отношения к мужу обыкновенно единственная жизнь, поэтому для неё тяжелее переносить.
О приданом позвольте не говорить ни слова (это-то главное и было).
Доходы в Петербурге, на которые я рассчитываю — 2000 р. сер., на это можно жить в Петербурге, как в Саратове на 1400—1500 р. сер.
Автобиография
Из автобиографии
[1] Воспоминания слышанного о старине
Священник или дьякон Иван Кириллыч с женою Маврою Перфильевною, у которой на руках была маленькая, чуть ли не грудная, дочка Полинька, переселялся из прежнего «прихода» в новый. Как была фамилия Ивана Кириллыча, не знаю; откуда и куда он переселялся, тоже не знаю; но должно быть, что переселение было в какое-нибудь село Саратовской губернии, потому что после Мавра Перфильевна представляется уж очень старинною, если не коренною гражданкою Саратовской губернии,— и переселялся из какого-нибудь села тоже Саратовской губернии или разве южных уездов Пензенской,— потому что не помнится мне ничего похожего на упоминание о дальности родины Ивана Кириллыча или Мавры Перфильевны. Переселение было летом. Ехали на телеге; Иван Кириллыч сам заменял себе кучера. Сам же приделал и кибитку к телеге для защиты жены и малютки от солнца. Происходило это около 1775 или 1780 года, вот почему: Полиньке (Пелагее Ивановне Голубевой) было около 1840 года лет 65, побольше или скорее поменьше, и она не помнила сама этого переезда.
Итак, в начале последней четверти прошлого века дьякон или священник неизвестной фамилии переселялся неизвестно откуда, неизвестно куда, только неподалеку от Саратова,— вот моё первое генеалогическое сведение о том корне моего родословного древа, по которому родословная длиннее,— Пелагея Ивановна, Полинька этого переселения, была матушка моей матушки. Этот древнейший факт восходит в древность лет на 45 дальше того года, в который родился я, лет на 15 дальше того года, в который родился мой батюшка.
Генеалогические мои сведения со стороны моего батюшки начинаются тем годом, когда он родился — 1793,— я запомнил это по его послужному списку, который перечитывал сотни раз, пере[566]листывая «Клировые ведомости» города Саратова, постоянно лежавшие на его рабочем столе. Но, перечитывая этот список сотни раз, я не потрудился запомнить, как звали по батюшке отца моего батюшки и кто он был, дьякон или дьячок,— кажется дьякон, но не ручаюсь. Итак, вот моё родословное древо:
| 3 — прадед — священник неизвестной фамилии Иван Кириллыч. | 3 — прадед неизвестно кто. |
| 2 — его дочь Пелагея Ивановна, уже с известной мне фамилией, Голубева. | 2 — дед неизвестный по отчеству, дьякон или дьячок, Иван. |
| 1 — моя матушка | 1 — мой батюшка.[474] |
Мой батюшка скончался в октябре 1861,— я прожил в семействе до 18 лет, потом два с лишком года, бывши учителем в Саратовской гимназии; потом два раза приезжал на месяц, на полтора к батюшке и в эти посещения большую часть вечеров проводил с ним. Кажется, было время пополнить генеалогию с его стороны, хотя спросив, как звали дедушку,— не пришло в голову спросить,— и ему не пришло в голову сказать.
И теперь можно бы навести справку по послужному его списку,— но так и быть. Так буду писать и дальше — что случилось слышать и запомнить хорошо, но чего не знаю, хоть и нужно оно бы для связи или ясности рассказываемого, о том не навожу справок,— так и легче писать, да и лучше для моей цели,— а цель этой первой части моей автобиографии — дать читателю понятие о том, как и что влагала жизнь в голову и в сердце мне в молодости,— а это понятие я хочу дать затем, чтобы можно было по мне приблизительно заключать о том, под какими впечатлениями и с какими понятиями вырастало то поколение среднего сословия, которое родилось на белый свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых, в тридцатых годах XIX века.
О переселении, с которого начинается древнейшая история древнейшего корня моей родословной, я знаю из рассказа, который несколько раз повторяла мне бабушка Пелагея Ивановна:
«Вот, Николинька, как нерассудительны бывают люди, я тебе расскажу какой случай. Едут мой батюшка с матушкой в новый приход, и все сначала едут одни,— встречные попадаются, и то редко, попутных нет никого. Только, вот в один день и слышут они за собою тоже телегу. Поровнялась она с ними. На телеге сидят двое молодцов, будто мещане, в синих армяках, в хороших. А батюшка идёт подле своей телеги, лошадь жалеет, потому что ведь всем хозяйством переселяются, клади много: и посуда, и сундучок с одежею,— вот, эти молодцы поровнялись с ним,— здравствуйте и разговорились. И едут рядом версты две, три. Потом говорят: ну, Иван Кириллыч, до свиданья,— он уж им и имя сказал,— нашей-то лошади что таким шагом идти, она и рысцой по[567]бежит,— с ними-то клади нет, налегке едут,— а после догоните, опять поговорим. И уехали вперёд. Только слышит матушка потом: пу! пу! — из ружей стреляют. Проехали ещё с полверсты,— стоят знакомые, с телегой на дороге: «Мы, говорят, всё поджидали, Иван Кириллыч, вместе-то веселее, с разговором». Опять едут вместе, они сидят на своей телеге, батюшка всё больше идёт, так оно и вовсе близко разговаривать-то — и совсем с ними подружился. Опять уехали вперёд, говорят: до приятного свиданья, Иван Кириллыч, мы опять подождём вас,— опять матушка слышит: пу! пу! — стреляют из ружей. Матушка говорит: Иван Кириллыч, это твои знакомые пукают,— смотри ты, на беду себе ты знакомых завел. — А батюшка: что ты, Мавруша, чего бояться, они люди хорошие. — Ну, смотри, Иван Кириллыч, хорошие. А я тебе говорю: не надо с ними вместе ехать, дорога пустая. — Ну вот, говорит (батюшка-то). Я их спрашивал, что это они больно расстрелялись. «От скуки,— говорят,— забавляемся». — Хороша забава! Опять догнал их, они ждут, опять едут вместе. Дело к вечеру подходит. В матушке души нет. На счастье, уж видно село, где надобно ночевать-то. — Приехали в село, знакомые едут в ворота на постоялый двор, и батюшка за ними. — Иван Кириллыч, подойди ко мне, говорит матушка (чтоб не слышно им было, что она ему скажет),— ступай на другой двор, с ними вместе не останавливайся. — Не слушает, туда же поехал. И такая у них дружба вечером, разговор такой. Уговариваются завтра выезжать вместе. Опять матушка отговаривает батюшку, опять не послушался, выехали вместе. И опять то же, что вчера. То рядом едут, говорят, то знакомые вперёд уедут, и как отъедут вперёд, опять пу! пу! — из ружья палят. И опять ждут нашу телегу. Так весь день матушка без души была, а батюшка не слушается её. Только, опять дело к вечеру, опять в село въезжают, опять батюшка на одном дворе с ними становится, уговариваются поутру вместе выезжать. Ну, тут матушка видит, не совладает добром с батюшкой, и говорит ему: как ты хочешь, Иван Кириллыч, а я с ними не еду. Убьют они нас. И себя жаль, и младенца своего не хочу губить. Коли тебе с ними мило, ступай, а я здесь остаюсь, не сойду с двора, коли ты с ними едешь. — Этим только и урезонила батюшку, потому что он её знал, что хоть она тогда ещё молода была, но напрасно слов не говорила, а что скажет, то сделает. Ну, поутру говорит им: моя Мавруша с ребёнком-то устала, отдохнуть надо, не попутчик я вам, господа, потому что до завтрего здесь остаёмся. Очень жаль, говорят, Иван Кириллыч, что расстаемся, потому что вместе веселей было и нам и вам, а ждать не можем. — Ну, видят, что догадались батюшка с матушкою, кто они и какие мысли у них на уме,— так и уехали. А батюшка с матушкой пообедавши выехали, а утро простояли, чтобы уж не встречаться по дороге с знакомыми-то. Разбойники были. Вот как безрассудны мужчины-то, Николинька: кабы матушка этого не сделала, как есть и её, и батюшку, и меня с ними укокошили бы». [568]
Замечательно то, что бабушка была женщина умная и хорошо знала, что такое значит охотиться. Как же объяснить, что она совершенно не догадывалась, что прабабушкины разбойники были действительно честные мещане, стрелявшие от скуки по воронам,— а быть может находившие и бекасов или встречавшие зайцев? Да и прабабушка, которую я хорошо помню, тоже была умная женщина. её страх я объясняю тем, что вероятно в то время в тех местах в селах ещё мало слыхивали об охоте за утками, куликами и подобною мелюзгою, а, вероятно, мужики и их сожители знали только охоту за волками, да господскую видывали псовую охоту. Да, вероятно, и вообще ружье было не совсем обыкновенною вещью. Но как бы ни объяснять ошибку прабабушки, бабушка могла не замечать её ошибки единственно только по слишком сильной привычке принимать взгляд старших родственников за истину, над которою уж нечего думать, которую остаётся только повторять. Я не вижу другого объяснения. А подтверждением этого мнения об отношении мыслей бабушки к тому, что слышала она от старших родственников, служит мой собственный пример: бабушка повторяла мне рассказ о безрассудстве дедушки, когда мне было уж лет 12, а я был мальчик и учившийся, и читавший,— кажется, мог бы понять, но нет: как что представлялось бабушке, так оставалось и в моём представлении,— и чуть ли уж не брил я бороду, когда, случайно вспомнив бабушкин рассказ, вздумал догадаться, что попутчики прадедушки не злоумышляли на жизнь его и прабабушки с бабушкой.
Но если во времена молодости прабабушки не догадывались в селах, что простые люди могут охотиться с ружьем за утками, бекасами, тетеревами, то охота с ружьем на волка была не только тогда, а и много после, слишком сильною надобностью. Уж я был не маленький мальчик, когда каждую зиму всё ещё случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу — огромное село на другом берегу, несколько повыше города. Расстояние между слободою и городом, вероятно, версты 4, много 5; каждый день летом плывут, зимой идут туда и оттуда сотни людей, значит, эта недальняя дорога слишком не пустынная. А всё-таки волки резали на ней. И тоже, я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки. Должно быть были очень большие стаи, когда вой переносился через реку версты в 2½ или 3 шириною. Колокольный звон из Покровской слободы едва слышался,— и то не во всякое время,— на нашем дворе. А волки были не многим ближе.
Бабушка рассказывала о каком-то своём старшем родственнике, вроде дяди, много приключений по охотам его за волками. Особенно помнится одно. Этот охотник придумал обзавестись средством вроде того, которым снабдил Мери своего героя для избиения бенгальских тигров в романе «Гева»[475]. Очаровательная Гева, думаю[ #569]щая, что муж её растерзан тигром, объявляет герою (невообразимо благородному сэру Эдуарду), что отдаст своё сердце и руку только тому, кто отомстит тиграм за погибель её мужа. Сэр Эдуард велит сделать и перевезти в любимую тиграми пустыню огромную клетку из толстых железных полос, привязывает подле клетки быков или свиней, а сам забирается в клетку с целым арсеналом ружей; сбегаются десятки тигров на крик добычи, он бьёт их, они нападают на клетку, но [не] могут достать его лапами, просовываемыми сквозь решетчатых стен, а он всё бьёт и бьёт их и приобретает до 30 или 40 шкур [для] получения руки Гевы (но муж Гевы оказывается не растерзан тиграми, и шкуры оказываются добытыми понапрасну). У бабушкина родственника, сельского дьякона или дьячка, не было таких богатств, как у сэра Эдуарда, и он сам состроил себе на полянке среди леса маленькую бревенчатую избу,— вместо окон были только прорезки, служившие амбразурами; толстая маленькая дверь засовывалась изнутри толстою дубиною; кровля была из частых бревен, покрытых толстыми досками. Он привязывал у этой засады поросенка или гуся, а сам с двумя ружьями входил в деревянную крепостцу и ждал волков. Долго он побивал их по 3, по 4 штуки в один сеанс, без всякой опасности себе. Но вот волки сговорились,— потому что волки умеют сговариваться между собою, волк тоже умный зверь, как медведь или лиса,— и целая, быть может, сотня их собралась штурмовать избушку. Охотник побил их много, но остальные всё только больше свирепели и сильнее ломились в избушку. Терзали и жрали убитых товарищей и всё яростнее ломились на своего истребителя. Дверь выдерживала хорошо,— волки стали пробовать кровлю,— сорвали доски, потолок остался решетом из бревен, но решетины были слишком мелки, чтобы пролезть всему волку,— всовывались только головы до плеч. Заряды у охотника вышли, да и слишком близко к нему были морды волков, меньше, чем на длину ружья,— стоячего, его хватали бы волки лапами за голову,— потолок избушки был, разумеется, немного выше человеческого роста,— охотник, сидя, махал по мордам и лапам топором, но стал выбиваться из сил,— осада продолжалась чуть ли не больше суток, а волки стали пробовать, не выворотят ли какого бревна из потолочной решетки. Избушка скрипела от их напрыгивания. — Но мужики в селе стали опасаться, не случилось [ли] именно такой истории, какая действительно происходит, не осаждает ли охотника большая стая, потому что иначе давно пора бы ему возвратиться; мужики пошли толпою на выручку и выручили, когда охотник уж не чаял спасения. Часы, может быть, целые сутки, проведённые в полутора аршинах от волчьих оскаленных на него зубов и сверкающих глаз,— «глаза были страшны, говорил он, по словам бабушки,— больно страшны, страшней воя, а и вой был страшный», это долгое смертельное томление так перевернуло всю душу в нём, что он зарекся охотиться и с той поры не брал ружья в руки. [570]
Прабабушка сочла за разбойников честных мещан, паливших из ружей по птицам; разумеется, сочла только потому, что слишком не в диковинку были тогда настоящие разбойники. Они не были диковинкою в наших местах и на моей ранней памяти, но лишь как отдельные удальцы, поодиночке, вдвоем, много втроем-вчетвером скитающиеся по лесам, или как хитрецы, под видом простых воров имеющие приют в обыкновенных мошеннических берлогах. Солидных больших шаек формальных разбойников не было у нас уже и в 30-х годах, которые я помню. Но во времена прабабушки, в конце прошлого века, такие шайки были, с прочными, укрепленными жилищами — вроде городков или деревянных фортов, в лесах нагорной (западной) стороны Волги,— впрочем, это одна сторона и имела тогда население; левая, степная сторона тогдашней Саратовской губернии, нынешняя южная часть Самарской губернии, стала населяться нашими обыкновенными русскими почти уже только на моей памяти; прежде там были только немецкие колонии да полоса малорусских поселений, основанных правительством (при Петре?) для возки соли с Елтона в Камышин, из Камышина в Саратов, да раскольничьи монастыри на Иргизе, ещё и во времена Александра Павловича высовывавшиеся в степи очень далеким аванпостом, дорога к которому была через степь, и селились подле этих своих знаменитых монастырей раскольники, да селились тоже по Иргизу молокане пользоваться отдаленностью от регулярного административного действия.
Это были только оазисы среди степи. Да и правая сторона Волги, которая одна имела сплошное население, была даже и в начале XIX века населена слишком не густо[476]. Люди, родившиеся около 1790 года, ещё помнили, что мужик разъезжал по полю куда глаза глядят, выбирая место какое распахать; мой крестный отец, о котором я буду говорить довольно много, представлял себе мужиков своей молодости (1795–1800 г.) не пашущими много десятин в одном куске,— нет, говорил он, мужик засевал десятину, полдесятины на солнечной покатости одного холма, тоже десятину, полдесятины на другом особенно хорошем месте за версту, за полторы, и таких кусков пашни было у него много. Свой рассказ об этом он делал отчасти тоном идиллии, показывая сам, что мы должны понимать его очерк тогдашнего быта как идеализацию; но идеализация эта не была чрезмерно выше того, как жили тогда на самом деле.
По степям и лесам были изредка разбросаны большие села, да на многие версты, иногда на десятки верст от такого села и друг от друга, были разбросаны хутора (не в малорусском смысле, а в смысле группы 3-х, пожалуй и 10 изб,— то-есть очень маленькие деревни), выселки из этих больших сел. К югу, нагорная часть губернии, суживаясь, шла, быть может, и тогда открытым полем, как теперь, а быть может, и там ещё было много лесного пространства, а в большей, северной половине нагорной стороны губернии лесное пространство преобладало. И в этих лесах шайки имели [571] прочные, известные окольным жителям оседлости. Рассказов об этом было довольно много; все теперь уже спутались в моей памяти, кроме одного, тоже бабушкина, как и о мнимых разбойниках переселения.
«На новом месте (т. е. на новой должности, на которую переселились из прежнего прихода) батюшка с матушкой жили, Николинька, хорошо. Только кругом были разбойники, и главный атаман у них был Мезин, старик такой почтенный, видный из себя. Этот Мезин уважал батюшку. Вот, раз работник говорит батюшке поутру, что лошадей из хлева увели ночью. У него была пара хороших лошадей. Батюшка так рассердился, говорит: «Еду к Мезину жаловаться». Матушка не пускает: «Лучше пропадай они, лошади, а у Мезина тебя убьют»,— говорит. — «Пусть убьют, говорит, коли убьют, а я не могу так перенести этого дела». Ему и лошадей-то жаль, Николинька, и обидно. У Мезина дом был большой, и двор тоже большой, обнесен высоким забором; забор был из брусьев, стоймя, с завостренными концами, а двор крытый. Повели батюшку к Мезину в дом. Мезин сидит в красной шелковой рубашке — это летним временем было. «Зачем, говорит, пожаловал ко мне, батюшка? Тебе ко мне ездить не след»,— сердитый тон подает, чтобы запугать. Батюшка не пугается: «Твои молодцы, говорит, у меня пару лошадей увели. Вороти лошадей», назвал Мезина по имени-по отчеству. «Нет, говорит, мои твоих лошадей не уведут; это, видно, не мои; и я об твоих лошадях ничего не знаю». А сам хмурится. Батюшка всё свое: «Вороти лошадей; не уйду без них от тебя. Либо убей меня, либо лошадей мне отыщи». Долго спорили. Мезину не хочется. А батюшка не отстает. Ругался, ругался Мезин,— не то что батюшку ругает, а с досады ругается, в своих словах. «Нечего делать, говорит, не отвяжешься от [тебя], поедем твоих лошадей искать,— хоть мне больно не хочется». Закричал, чтоб ему подали кафтан, опоясал саблю. Большие дроги ему подали, сел на них с батюшкою, четверо своих разбойников с собою взял; поехали. Ехали долго. Пошли поляны по лесу. Приехали на одну поляну,— не очень большая поляна, в лесу,— Мезин свистнул,— кругом из лесу люди повыскакали, голые[477] все, в руках сабли. Стоят кругом, подле деревьев, не на средине поляны, а по краям, Мезин их стал расспрашивать. Они на него кричать стали. Он видит, дело плохо,— надо за вино приниматься, угощать,— а он знал, что нужно, взял с собою вина. Налил им ведро, либо два. Они подошли. Ковер постлали на поляне, сели все, стали пить. Эти голые сами пьют, [572] и Мезина поят, и батюшку — те отказываются, однако, не смеют, тоже пьют. Выпили разбойники, тогда стали мягче, стали посылать Мезина с батюшкою дальше,— у нас, говорят, твоих лошадей нет, батюшка, а спросите у тех, дальше. Поехали Мезин с батюшкой дальше, опять выехали на другую поляну, и эта поляна как будто лощиною[478] выходит и промежду гор и вроде барака (буерака, оврага). Тут опять Мезин свистнул,— и тут опять повыскакали голые с саблями. Опять стал Мезин спрашивать батюшкиных лошадей, и эти тоже стали ругаться. Тут, батюшка говорил, сам Мезин перепугался. Они начали саблями махать, убивать его хотели. Он перед ними на колени стал,— Мезин,— плачет, упрашивает, чтоб они его не убивали. Вина им налил. Три раза так принимались: они всё его и батюшку убивать хотят — он на колени станет, и потом пьют вино. Когда в третий раз напились, совсем сжалились: «Ну, говорят, хорошо, уважим вам»,— что же ты думаешь, Николинька? — ведь привели, отдали лошадей батюшке. А матушка дома сидела, всё плакала: не думала, чтоб он живой воротился. И точно, не только ему, самому Мезину смерть была. Но только не знаю, как тебе сказать, в самом ли деле они хотели убить Мезина, или это было от него же, притворство, чтобы батюшку больше запугать,— должно быть, что так. А может быть, и в самом деле те разбойники уж не его шайки были и озлобились на него».
Отношения Мезина к прадедушке показывают, что прадедушка был тогда священником; был ли Мезин его духовным сыном, или так питал уважение к его священному сану и, без сомнения, честной жизни, этого не видно из рассказа; неизвестно также, где и как был крытый, огороженный заостренными брусьями дом Мезина,— в лесу, как дом человека, формально живущего вне покровительства законов, или в селе, где, может быть, и угощались у него местные чиновники,— я хочу сказать, что остаётся неизвестно, на каком основании занимал своё атаманское положение этот Мезин: только ли избегал он наказания ловкостью, храбростью шайки и, быть может, содействием окрестных жителей, уведомлявших его о всякой опасности,— или он был выше, сильнее мелких местных властей? — Это второе предположение я делаю потому, что аккуратно каждое воскресенье во всё моё детство видел своими глазами спокойно молящегося в нашей церкви человека, под командою которого производились грабежи его подданными. Если в 30-тых годах действия таких шаек с явно живущими в обществе и также явно атаманствующими главами должны были ограничиваться воровскими формами грабежа, то в конце прошлого века натурально было им действовать шире, с формами настоящего разбоя. Этот знакомый мне в лицо атаман, наш прихожанин, точно так же уважал моего батюшку, как Мезин прадедушку. [573]
Я всё рассуждаю о том, священником ли был дедушка в своём новом приходе или дьяконом. Это обстоятельство заинтересовало меня уже долго спустя после того, как прекратились мои беседы с бабушкою, и заинтересовало уже не как ребёнка, слушающего анекдоты, а как взрослого мальчика, прочитавшего где-то, что количеством сахара, употребляемого в стране, с точностью определяется мера её принадлежности к новой цивилизации. Священничество прадедушки и сахар были, по мнению моего детства, связаны очень натурально. Бабушка рассказывала так:
«В старину, Николинька, жили гораздо проще, чем теперь. Батюшка с матушкою жили уже хорошо, когда я была маленькая, а чаю всё ещё не пили,— вот как не пили. Когда батюшка поехал ставиться во священники в Астрахань[479], стал он советоваться, надобно ли поднести что-нибудь на поклон архиерею; с кем он советовался, не знали сами, надобно ли, а то знали, что если надобно, так приличнее всего поднести голову сахару. Вот батюшка и купил в Саратове голову сахару, везти с собою в Астрахань, только с каким же условием? — Чтобы, если архиерей не примет, скажет: «Незачем, я не беру», то купец опять взял бы назад сахар у батюшки. «Потому что, говорит ему батюшка, мне самому некуда этого девать». Купец был знакомый, согласился».
Неизвестно, принял ли архиерей поклон от прадедушки, и потому неизвестно, проехала ли эта голова в попечении у [пра]дедушки только 1100 верст вниз по Волге, или проехала тоже и вверх те же 1100 верст.
Итак, в молодости прадедушка и прабабушка вовсе не пили чаю, и гости тоже,— когда бы они сами пили хоть по праздникам или подавали гостям, то купленная голова сахару не была [бы] вещью вовсе ненужною для своего хозяйства, и не было бы заключено такого условия с купцом. Но когда я стал помнить прабабушку, старушка пила чай точно так же, как её потомство, два раза каждый день и очень любила его.
Вообще, сколько я видел на старых и молодых людях, среди которых рос, новые обычаи, имеющие существенный характер, принимаются и легко и быстро,— сопротивления им нет, если кто долго не принимает их, то лишь по недостатку средств, по каким-нибудь непреодолимым внешним причинам, а не из упрямства к старине; если он и прикрывает невозможность мнимым нежеланием, то это делается только для утешения себя и из амбиции перед другими. Так на моих глазах в нашем слое общества гусли заменились фортепьяно, фанты танцами, старые одежды новыми, весь образ жизни в нашем семействе был вовсе не тот, какой был привычен ещё менее богатым родным, приезжавшим к нам из деревень,— и никто из этих родных, остававшихся и по большей бедности, и по [574] своей деревенской захолустности при прежних порядках, не возмущался новым, которое видел у нас. Совсем иная вещь перемены, которые состоят главным образом только в словах. Здравый ум и практика не показывают, чтобы от них жизнь делалась удобнее, легче или веселее, потому суждение о них остаётся на произвол воображения,— оно разыгрывается в пользу воспоминаний, т. е. старины, и является сопротивление, ожесточение на новое, которое и действительно неправо перед стариною, когда в сущности сходно с нею: если перемены в самом деле нет, то из-за чего же оно нарушает привычку? Оно в таком случае только лишние хлопоты, только тревожный вздор. — Так по впечатлениям детства и юности я сужу о людях старого века тех слоёв общества, в которых вырос. Пожилые и даже старые люди этих слоёв,— невысоких слоёв среднего класса,— вовсе не враги новизны, лишь бы перемена, ею вводимая, была хотя настолько путною, насколько путна была замена прежнего способа проводить вечера в гостях или с гостями,— замена его новым способом, состоявшим в картах и танцах. Кто из старух и стариков не стал играть в карты, кто мешал детям своим учить внуков и внучек танцам? — Но и я, при всей моей молодости и при всем прогрессизме, не восхищался тем, что в приходо-расходных книгах церквей вместо прежнего: «доход 115 рублей, расход — 114 рублей, в остатке 1 рубль» — надобно стало писать: «приход 32 р. 855⁄7 коп., расход 32 p. 571⁄7 коп., остаток 284⁄7 коп.»[480]. В этом случае я, 12-тилетний человек, был человеком старого поколения. Дело в том, что прогресс, хотя бы самый ничтожный, вроде карт и танцев вместо совершенного бараньего уныния или дикой гульбы, даже такой прогресс и путаница — две вещи разные.
Судя по этим трем рассказам бабушки, жизнь прадедушки с прабабушкою шла, постепенно улучшаясь: из одного прихода он перешёл в другой,— и в рассказе нет следов того, чтоб он или прабабушка были недовольны переселением,— значит, перемещались по собственному желанию, значит из худшего прихода в лучший; из дьякона он сделался священником,— это ещё важнейшее улучшение средств к жизни,— а потом из сельского священника он сделался городским,— это не всегда выигрыш в материальном отношении, но вообще это — почетнее, значит, тоже улучшение. Счастье в жизни было. Но ещё до перехода в Саратов подвертывалось было не такое, а очень большое счастье, такое большое, что мы с бабушкою не могли и определить границ ему. Вот как оно подвернулось было и ушло:
«Матушка была, Николинька»…
Пишу я это слово «Николинька» и грустно становится и теперь, как прежде, каждый раз, когда писал его: умер и последний, самый милый из тех, которые так звали меня, но и хорошо сделал, что умер: во-время, а то слишком много было бы ему тревоги и горя. Но к рассказу[481]. — [575]
«Матушка была, Николинька, хорошая мать, заботливая, умывала нас, приглаживала головы, смотрела, чтобы рубашоночки на нас были чистенькие, опрятно держала нас, хорошо. А нас было тогда то ли три, то ли только две, только ещё две ли, три ли, все маленькие; я старшая была, а этого не помню, что тебе рассказываю, только от матушки слышала после. Только вот, видят батюшка с матушкой, едет по селу карета на полозьях[482] (зима была) и останавливается против их ворот. Входит человек и говорит: „Батюшка, можно ли попросить у вас остановиться пообедать, барин прислал просить“. — Можно, ему говорят[483]. Карета въехала на двор, вошёл барин. Молодой, красивый, важный, но приветливый, ласковый. Очень разговорился, и с матушкою тоже разговорился. Вот батюшка видит, что матушка его конфузится, а он её об детях расспрашивает, она ему нас показывает,— мать, нельзя: спросили о детях, она и рада говорить; батюшка видит это, а ему давно хочется посмотреть поближе на карету, потому что очень хороша,— он возьми да и уйди от гостя,— говорит, посмотрю, как вашим лошадям корм дают, так ли, как следует (потому что, Николинька, лошадям корм давать надобно умеючи, а то испортишь). А сам, взглянувши на лошадей, к карете; ходит кругом, рассматривает, что очень хорошо сделана,— ну, стекла в карете, только занавески у стекол спущены,— он снаружи смотрит, ходит. Только вся утыкана медными шпильками[484], он возьми одну шпильку за головку и потянул, а она стала вытаскиваться; только, только потянул он, из кареты голос,— женский, ласковый, такой приятный: „Батюшка, не шалите“. — Ей-то стало, видно, заметно, как шпилька-то стала тянуться,— а он думал, в карете никого нет. Ну, он отошёл, воротился в горницу. А гость всё с матушкою и с нами занимается, её об нас всё расспрашивает, и нас ласкает, и всё осматривает нас. Только потом и стал говорить: „Батюшка и матушка, как теперь я вижу, я о вас правду слышал, что у вас в доме всё в порядке, и что вы добрые люди и хорошие, и что вы, матушка, рачительная мать и хорошо о детях заботитесь. Вот какая будет моя к вам просьба: не согласитесь ли, батюшка и матушка, принять к себе на воспитание младенца? Про его содержание нечего говорить: будет вам присылаться достаточно. И если уход за ним от вас, матушка, будет хороший, как я теперь не сомневаюсь, то я буду об этом знать. И если вы этого младенца воспитаете, то вы навек будете счастливы, и дети ваши“. — Позвольте с матушкою посове[576]товаться,— говорит батюшка. — Пошли в другую горницу. — „Не трудно ли тебе будет, Мавруша?“ — батюшка спрашивает. — „Нет,— говорит: — для своих я бабу возьму для подмоги, а за тем сама буду ходить“. — Посоветовались,— взять. Воротились в ту горницу, к нему, говорят: мы согласны. Он так обрадовался. Сказал, что по пяти золотых в месяц будет им присылаться на содержание младенца, и когда воспитают, больше будет награды,— много что-то сказал, матушка и не разобрала, сколько,— потому что, Николинька, ведь они об тысячах и понятия не имели,— и что детей их пристроит (нас), и батюшку в люди выведет, и всё — много наобещал. И можно видеть, что не обманывал: не прежде обольщал, а уж когда и так согласились, тогда стал много-то обещать.
Вот как переговорил с ними, пошёл в карету, несет оттуда младенца. Подушка обшита кружевами, рубашоночка обшита кружевами, холст самый тонкий. Человек принёс много белья, такого же, очень хорошего. Барин простился с младенцем, опять попросил ухаживать, давал обещания, простился с младенцем, расплакался, долго прощался, сел в карету,— проводили, уехал со двора. Ну, Николинька, говорила матушка, уж как я ухаживала за этим младенцем, куда больше, чем за своими детьми; и так, говорит, привязалась к нему, просто души в нём не чаяла. Так прошло с год, благополучно, и деньги присылались, и подарки присылались кроме того, сверх обещанного. Только не угодно было богу такого счастья для батюшки с матушкою и для нас: занемог младенец и скончался. Уж как, говорила матушка, я убивалась по нём, да и нельзя было: и красавец-то он был, и милый такой, точно херувим,— так убивалась, что легче бы мне двоих своих похоронить, чем его. С ума сходила. Тем и кончилось, Николинька. Получили от барина письмо,— писал, что „не осуждаю вас в моём несчастии, батюшка Иван Кириллыч и матушка Мавра Перфильевна,— знаю, что не было вашей нерачительности, а так было богу угодно“. Значит, не винил их. Но только тем и кончилось».
Теперь этот рассказ занимает меня своею поэтическою стороною: видно, что было тут какое-то похищение, бегство и нежная любовь,— и кто эта женщина, сидевшая в карете? И почему её любовь должна была скрываться? И почему она должна была расстаться с своим сыном или дочерью,— ведь, наверное, она любила его или её ещё больше, чем отец? И как она «убивалась» и «сходила с ума», когда узнала о смерти малютки,— верно побольше, чем прабабушка. Но тогда нас с бабушкою занимало не то, а исключительно только то, что подвертывалось счастье прадедушке и прабабушке, да ушло от них. А теперь мне, кроме романических симпатий к этим молодым людям, так поэтически мелькнувшим с своим блеском в истории моих предков,— кроме этого идиллического, отчасти смешного сочувствия к молодым людям, которые уж давно в могиле, если сошли в неё и очень старыми, приходит в голову смешное размышление: зачем же это я тогда жалел, что [577] счастье ушло от Ивана Кириллыча с Маврою Перфильевною? Ведь если б оно не ушло от них, то мне никак не пришлось бы существовать на свете. Бабушка не сочеталась бы тогда браком с семинаристом Голубевым, поступающим на священническое место,— ведь ясно, что по её и прабабушкиным расчётам она вышла бы за генерала,— и что же тогда? — нет детей и внуков Пелагеи Ивановны и Егора Ивановича Голубевых, в том числе и меня нет. Значит, если бабушке было основание жалеть, то я, напротив, должен был радоваться, что счастье ушло от её семейства.
Но вот ещё что открывается теперь мне из этого рассказа. Мы с бабушкою были люди очень строгих нравственных понятий, беспощадно строги к уклонениям даже и мужчин (не говоря уж о женщинах) с пути добродетели. Мы распространяли своё отвращение и на плоды, рождающиеся от таких уклонений. Бабушка не называла эти незаконно происшедшие существа иначе, как словом, которое было бы более эффектно, нежели прилично в печати. И ведь мы очень понимали, что эти барин и барыня ушли с пути добродетели, и «младенец», драгоценный нам, порожден недобродетельно. Что ж это мы совершенно не хотели замечать этой возмутительной для нас стороны дела? Несправедлив к нам был бы тот, кто приписал бы это шопоту нашего корыстолюбия или честолюбия: «закрывай глаза»,— нет, мы не закрывали глаз, наши глаза, совершенно открытые и очень внимательно смотревшие, не видели, не могли видеть того, что следовало бы, кажется, заметить. Наши нравственные принципы допускали наше зрение видеть тут только почтенное. Как так? Вот как: да разве могли мы судить таких важных людей, как этот барин и женщина, ехавшая с ним? «Такие люди ничего дурного не делают»,— это был наш твёрдый принцип: чем ниже, тем хуже; чем выше, тем лучше, и на известной высоте всё прекрасно,— мы были тверды в этом.
В воспоминаниях бабушки о старине её семьи был ещё рассказ, выходящий из порядка случаев обыденной жизни.
Чья-то семья, прадедушкина ли, или прабабушкина, была многочисленна, жила в коренном своём селе, и уж не все её члены были духовные, а некоторые, может быть и большая часть, не бывши в училище и не получив мест, сделались мужиками. Один из этих родных был захвачен «корсаками» (киргиз-кайсаками), когда работал на пашне, далеко от села; через несколько времени корсаки захватили ещё одного. Один из этих увезенных в плен через много лет приезжал навестить родных уже богатым и важным человеком: он попал в милость к тамошнему (неизвестно какому, хивинскому или какому другому) царю и был у него большим начальником, женился там, имел детей. Он привёз родным подарки и звал их ехать с собою. Натурально, никто не согласился. Мусульманином ли он приезжал, или сохранил христианскую веру, это неизвестно, бабушке не думалось, что это интересно, не упомянула. её и меня интересовало собственно то, что был важным человеком у тамо[578]шнего царя, под которым разумелся, быть может, и какой-нибудь мелкий улусный начальник, и что рассказывал о себе, что живёт богато и сделает счастливыми людьми тех родных, которые поедут с ним. Впрочем, мы не осуждали родных за то, что они не поехали быть счастливыми людьми, по-нашему, нельзя было им ехать к нехристям. Судьба другого пленника была иная. Ему не случилось попасть в милость ни к какому царю, он жил обыкновенным пленным рабом где-то в Хиве, Бухаре, Кокане, и ему, как и следовало ждать по нашим понятиям о «корсацких» обычаях, подрезали пятки, чтоб он не убежал; подрезывание пяток состояло, по нашим сведениям, в том, что делали на пятках глубокие прорезы и всовывали туда порядочные комки мелко изрезанного конского волоса или свиной щетины, потом заживляли разрезы. После этого, человеку надобно было ходить, не ступая на пятки,— если же ступать на пятки, то от волоса или щетины делается нестерпимо больно. Стало быть, пленник может ходить на недалёкие расстояния, медленно, и годен к работе, но к бегству неспособен. Однако ж, и с подрезанными пятками наш родственник решился бежать и ушёл ночью. Всю ночь шёл, как стало светать, лёг в траву; так шёл по ночам и лежал по дням ещё несколько суток, с первого же дня часто слыша, как скачут по степи и перекрикиваются отправившиеся в погоню за ним. Они употребляли, между прочим, такую хитрость, вероятно часто удававшуюся им с беглецами, не имевшими силы сохранить спокойствие в своей страшной опасности: кричали «видим! видим!» — чтобы беглец попробовал переменить место, перебраться из открытого ими приюта в другой; тогда бы они и увидели его над травою или распознали по колыханию травы, где он ползет. Наш родственник не поддался, выдержал страхи. Особенно велика была опасность, когда он уже дошёл до какой-то реки и пролежал день в её камышах. Ловившие его много раз бывали очень близко к нему, иной раз чуть не давили его лошадьми, но всё-таки он уберегся незамечен, добрался до русских, пришёл домой цел и стал жить по-добру по-здорову. Эта картина его прятания и ловли в камышах довольно сильно действовала на моё воображение. Не скажу, чтобы я много, часто и сильно переносился к ней в своих мечтах. Но всё-таки она, бывшая темою моих грез довольно редко, рисовалась в них чаще всего остального чрезвычайного, необыденного, что случилось мне слышать в детстве за правду, бывшую с людьми мне известными или известными кому-нибудь из известных мне. А вообще бабушкины рассказы о старине её семьи, которых почти только и было всего, сколько я пересказал теперь,— эти рассказы были важнейшим, почти единственным материалом сколько-нибудь фантастического содержания, полученным мною от живых впечатлений в детстве. Из всего, что давала мне жизнь в первую, очень важную эпоху развития, эти рассказы были самым чудесным, самым далеким от обыкновенного скромного и рассудительного порядка жизни. А и в них есть ли что-нибудь противоречащее или законам здравого смысла, или [579] законам природы, или хотя сколько-нибудь неправдоподобного, требующего принятия по доверию к авторитету?
— На пустой дороге встречаются люди, в которых умная женщина открывает разбойников. — Охотник попадает в большую опасность от волков. — Какие-то богатые люди, которым почему-то неудобно воспитывать своего ребёнка при себе, поручают его женщине, о которой узнали, что она добрая женщина, умеет и любит ухаживать за детьми, и обещают наградить её за труды. — Степные наездники уводят двух мужиков из степи в плен, один успевает хорошо пристроиться у этих полудиких людей, благодаря тому, что он всё-таки образованный человек сравнительно с ними, другой успевает бежать из плена, когда перестали опасаться, что он убежит, и начали оставлять его на свободе без надзора. — И при этом видишь и слышишь, что разбойники [существуют] ещё и теперь, а прежде их было ещё больше, что волки очень упрямы в драке, когда сильно разозлятся, что детей часто отдают на воспитание чужим людям, даже подкидывают,— что хивинцы или кто-то там за степью до сих пор хватают русских в плен. — Что же тут сколько-нибудь развивающего легковерие, возбуждающего верить неправдоподобному?
Если б эта черта первых впечатлений жизни,— отсутствие элементов, располагающих рассудок портиться привычкою к неправдоподобному,— если б она была случайною исключительностью моего детства, она, быть может, имела бы важность для объяснения моих личных тенденций, моего образа мыслей и моих общественных отношений, и только. Но, сколько я знаю, это преобладающий характер впечатлений, даваемых жизнью всему нашему племени, а в особенности юго-восточному отделу нашего племени, недавнему поселенцу своего нынешнего края, и в числе местностей, где сильнее всего преобладание этой черты, одно из первых мест — Саратов. Саратов совершенно не имеет живой мифологии. В нём не было никаких неимоверных историй, которым бы верили его жители. Первый рассказ, имеющий живое мифологическое содержание, созданное саратовскою головою, я слышал, когда был уже учителем в гимназии, слышал от своего приятеля, в числе анекдотов, которыми характеризовал он уморительную оригинальность своего слуги, страстного отыскивателя кладов. Вот эта история. Доказывая существование кладов своему молодому барину, старавшемуся образумить его, слуга рассказал следующий случай.
Обоз приближался к Саратову с одной из тех сторон, где близко от [него] дорога проходит по горам с ущельями. Смеркалось. Выходит на дорогу человек и говорит мужикам: «Не хотите ли разбогатеть?» — «Как не хотеть!» — «Так идите за мною, я вам покажу столько денег, что возьмёте, сколько захотите». Повёл их в ущелье; из ущелья ход в пещеру; пещера вроде комнаты; середи этой комнаты котел с золотом. У котла стоит квартальный, в мундире, со шляпою и при шпаге, как следует. «Берите, сколько хотите»,— говорят мужикам квартальный и проводник. А тем вре[580]менем мужики оглядывались и видят, в углу стоит старик. Они спросили проводника, что ж этот старик тут стоит в углу, а не идёт к котлу брать деньги. «Он уж взял,— говорит проводник,— это купец NN[485], это его душа тут осталась у него в закладе». — «Как так? Значит, если взять деньги, душа остаётся тут?» — «Да». — «Ну, когда так, мы не хотим»,— сказали мужики и ушли. А душа-то купца NN уж стала старая и поседела и длинной бородой обросла[486].
Я не слыхивал в Саратове никакого местного мифологического рассказа, сколько-нибудь приближающегося к этому по обстоятельности и способности оставить сколько-нибудь занимательное впечатление. Но и этот сам обнаруживает крайнее невежество своего автора в мифологических занятиях. Единственное идущее к делу обстоятельство тут — то, что деньги лежат в котле,— черта, взятая из рассказов о кладах, которые, как бы ни были неопределённы, всё-таки упоминают, что клад лежит в котле; стало быть, достаточно было самого поверхностного знакомства с преданиями о кладах, чтобы вставить эту черту; но все остальные подробности свидетельствуют о неопытности изобретателя. Он даже не знал, что душу, оставленную в закладе, следовало бы мужикам видеть на цепи или на какой-нибудь привязи. Черти поступают совершенно несообразно своему характеру в наших преданиях: они не предупреждают мужиков об условиях,— такой недобросовестности никогда не приписывалось им, они всегда объясняют всё по чистой совести. Но тут они даже и не то что недобросовестны,— они просто сами не знают, как им следует держать себя; когда мужики спрашивают их, кто ж это такой стоит в углу, они тотчас объясняют условия своей помощи,— прежде они не высказали их просто по забывчивости, просто потому, что не слыхивали о порядке заключения подобных сделок. Хорошо и то, что чёрт, стоящий у котла, одет квартальным,— что это колкость на счёт полиции? — подумается вам сначала. Нет, рассказ не имеет никакой язвительной замашки, это не выражение неприязни к полиции, автор просто думал, что так следует: он знал, что при выдаче денег из какого-[нибудь] ведомства находится чиновник,— ведь [581] он и выдает, без него кто же выдаст? — и ведь выдача денег — служебное дело, стало быть, чиновник должен быть в форме. В других присутственных [местах], кроме полицейских, автору не случалось быть, других чиновников, кроме полицейских, он не видывал в мундирах,— и вот употребил в дело единственный знакомый ему мундир по воображаемой необходимости мундира. Видно, что автор, при своём усердии к фантастическому миру, знал исключительно житейский мир и не мог ни на минуту оторваться мыслью от его порядков. Словом, этот рассказ обнаруживает точно такую же степень знакомства с своим предметом, какую видим во французских повестях из русской жизни, начинающихся такими манерами: «Княжна Феклинька Анфимьевна, позвольте представить вам моего друга, графа Лукьяныча Диячкова,— почтительно сказал молодой и изящный князь Петруша Иваныч блистательной княжне Феклиньке Пономарьевой».
У слуги, рассказ которого я передал, была, как видно, «охота смертная, да участь горькая»: он жил в местности, слишком далекой от мифологической жизни. Его рассказ, дошедший до меня уже как до учителя гимназии, был, как я сказал, единственным сколько-нибудь живым мифологическим фактом, какой случалось когда-нибудь получить из саратовской жизни. А всё, что я видел и слышал в детстве, было совершенно лишено этой стороны. Значит ли это, что я хочу сказать, будто в понятиях и словах людей нашего [круга] было мало суеверий? Вовсе нет, суеверия был очень порядочный запас, и оно выливалось по временам разными историями. Помню, например, бабушка как-то сказала старухам, беседовавшим с нею, что один её родственник,— человек пьющий,— шёл из далекого конца города домой, и путь ему лежал через место, ещё остававшееся чистым полем; дело было поздно, вечером, встречается нашему родственнику знакомый мещанин: «Отец дьякон, пойдём ко мне в гости». Пошли. Хозяин поднес гостю стакан вина, гость перекрестился и увидел, что сидит не на стуле у знакомого мещанина, а на берегу Волги, свесив ноги на обрыве над «яром» (омут, начинающийся прямо от берега) — «как бы он выпил этот стакан не перекрестившись, столкнул бы его чёрт-то в омут-то». Но, перекрестившись, наш родственник благополучно возвратился домой, совершенно трезвый: «с перепугу-то хмель как рукой сняло»; но не исправился и имел вторую такую же встречу, около тех же мест,— но в этот второй [раз] знакомый пригласил его не в гости к себе, а «бродить рыбу», и пьяный опомнился, когда вода стала уж плескать ему в лицо: перекрестившись от страха, он увидел себя зашедшим, во всей одежде, в воду уже выше плеч и едва мог выбраться. Оба эти приключения и действительно могли быть. — Значит, были кое-какие личные мифологические истории, и, может, я слышал их до десятка от знакомых о их родных и знакомых. Были и кое-какие общие городские истории,— впрочем, уж очень скудны и плохи. Сколько могу припомнить, только и было две их, и обе совершенно одинаковые: на площади Нового Собора стоял в моё [582] детство заброшенным и разваливающимся довольно большой каменный дом; говорили, что в этом доме живут черти; слышен иногда по ночам крик, и даже летят камни из окон на запоздалого прохожего. Точно то же говорили и о другом таком же доме, который стоял среди большой площади, образовавшейся от того, что обвалился и был растаскан деревянный забор дома, занимавшего целый квартал (потом этот дом купила казна, он был поправлен, и в нём поместился приказ общественного призрения). Важнее этих рассказов были живые люди, производившие тоже фантастическое впечатление на наш город. Из них мне в лицо были известны двое: слабоумный мальчик, бродивший в длинной холстовой рубашке вместо всякого платья, босой и без шапки, и настоящий юродивый, Антонушка. Слабоумный мальчик заходил к нам два раза, оба раза не надолго, стоял, рассматривал вещи, какие попадались ему на глаза, был, бедняжка, и смирен, и приличен, не сказал ничего важного, да и говорил очень мало, только отвечал двумя-тремя словами на вопросы, которые делались ему в самых коротких, лёгких, известных словах,— вопросы были исключительно такие, с какими и следовало обращаться к бедному мальчику, зашедшему в дом: «Поесть не хочешь ли?» — «Нет». — Да ты, чай, голоден?» — «Да». — «Так вот, возьми-ка пирожка, покушай». — «Ну, хорошо»,— кажется, только в оба раза. Если бы видеть только эти его посещения, то и нельзя было бы предположить никакого другого взгляда на этого бедняжку, кроме хорошего человеческого взгляда на бедного слабоумного мальчика. Но около этого времени, как были эти его посещения, раза три, четыре я слышал, что он предрек пожар в каком-то доме,— с азартностью, какой вовсе не было в нём обыкновенно, он побежал взбираться по лестнице на кровлю,— дом был одноэтажный, низенький, так что он легко взлез на него, стоял на крыше и несколько раз прокричал петухом. — Через день или два дом загорелся. Из этого поняли, что мальчик предрекал и предостерегал: своим петушьим криком он хотел объяснить то, чего не умел, по слабоумию не мог выразить словами: «будет у вас на крыше красный петух», то-есть пожар. Это было тем летом начала 1840-х годов, когда выгорело что-то много больше городов и сел, чем обыкновенно (кажется, потому, что была очень сильная засуха, и вся труха, солома, сено,— всё было особенно готово с успехом принимать искры, кусочки горячих углей, обломочки горящих щеп, которыми в таком изобилии посыпают русские люди свои полы, крыльца, дворы, клети, сенники и все). Весь край находился в пожарном страхе, и Саратов тоже. Поэтому несколько месяцев попадались в разговорах упоминания о предрекшем пожар мальчике, пытались узнать от него, выгорит ли Саратов или спасется от беды; одни из них говорили, что получили от него ответ, некоторые,— что Саратов сгорит, некоторые, что уцелеет,— а другие искренно признавались, что не добились никакого ответа. А когда, с наступлением сырого времени, слухи о горящих городах и селах прекратились и пожарный страх прошёл, то мистическое значение [мальчика] заглохло, и вероятно [583] все саратовцы стали видеть в нём опять только то же самое, что видели прежде: бедного слабоумного крестьянского мальчика, который из своего села (какого-то недалёкого) заходит иногда в город, потому что родные не усмотрят за ним по своему рабочему недосугу, или и вовсе не смотрят за ним, оставляют брести куда хочет, в надежде, что никто не захочет обидеть его, бедняжку, такого смирного, а может быть, и сами, по бедности, рады, когда он уходит с их скудного хлеба на хлеб добрых людей, из которого ещё, может быть, и принесёт им иной раз две-три краюхи «калача» (т. е., по-нашему, хорошего белого хлеба, какого бы то ни было).
Итак, этот мальчик приобретал мистическое значение лишь очень не надолго, да и в это недолгое время занимавшее лишь немногих, да и тех слабо. Точно так же очень немногие говорили и говорили чрезвычайно [мало] о другом существе, которое должно было производить собою мистическое впечатление. Это была девушка, во время моего детства уже не молодая, высокого роста, видная собою, ходившая круглый год только в обыкновенной женской рубашке обыкновенного крестьянского холста, по своей толстоте очень достаточного и в виде одной рубашки на удовлетворение требованиям приличия, босиком и с непокрытою головою. Мальчик, о котором я говорил, занимал собою только одно — да и то не всё — лето, и его длинной рубашки было довольно для этой поры года, а как он ходил в холодное время и ходил ли, я не знаю, а вероятно, если родные его выпускали из родной избы зимою, то обували и одевали в тёплое, какое могли,— иначе интересовавшиеся им во время его известности городу вероятно упомянули бы о босом в одной рубашке по морозу. Но эта девушка ходила так круглый год по саратовскому морозу, когда иную зиму недели две-три сряду термометр стоит между 20° и 30° мороза,— это, конечно, было потрясающее зрелище. Мальчик, о котором я говорил, только бродил по городу из дома в дом. Эта девушка не бродила по домам и редко соглашалась посетить кого из звавших ее: она ходила только по церквам, на все службы дня, каждый день. Младшая сестра моей бабушки Анна Ивановна, знакомая с нею, говорила, что ужасно смотреть на неё, неподвижными ногами стоящую на каменном полу церкви полтора-два часа,— на полу нетопленной церкви, который почти так же холоден, как открытая паперть. Анна Ивановна, кажется, и познакомилась с нею по обстоятельству этого рода: часть пола в одной церкви, где они бывали, чугунная, и девушка, стоявшая на чугуне, не могла выдержать своей неподвижности,— по временам переступала ногами, и на лице её было видно страданье. Анна Ивановна после службы заставила её зайти к себе (Анна Ивановна жила тогда подле этой церкви), заставила вытереть ноги вином. Разумеется, такой рассказ запоминается, но только я не уверен в том, с этого ли случая началось знакомство Анны Ивановны с девушкою, или девушка и прежде уж бывала у неё. Мальчик мало говорил, но потому, что был слабоумный, и сколько умел, столько говорил. Девушка была совершенно умная, и очень умная, но совер[584]шенно молчала. Никто не навязывал ей никаких предречений или символических предуказаний будущего, не навязывал ей ни значения святой, ни чего подобного, считали её подвижницею,— и только, и говорили о ней очень немногие очень мало. Кажется, только от Анны Ивановны мне и случалось слышать сколько-нибудь длинные рассказы о ней, и от Анны Ивановны мы узнали, чтò она и что это она делает над собою. Анна Ивановна была знакома с крестьянскими семействами, знавшими её.
Она и сестра остались сиротами из небедной крестьянской семьи, были в это время уже взрослые девушки и продолжали жить одни, по крестьянскому быту не бедно. Старшая сестра была или младшая, не припомню, но только управляла хозяйством она, потому что была очень дельная и бойкая девушка; и говорить была мастерица. Стал сватать её сестру жених. Сестра не хотела идти за него,— не потому, что жених не нравился, а так, сестра что-то боялась его, сама не знала почему. Она уговорила сестру и выдала за него. Но он вышел негодяй и жестокий человек, истиранил и очень скоро забил в гроб сестру. Тогда-то эта девушка, в мучении сердца, что погубила сестру, наложила на себя такое страшное наказание и перестала говорить — язык её погубил сестру. Так она провела много лет,— быть может 15,— но, конечно, свалилась ещё в молодых летах. Последнее, что я слышал о ней, было, что она безнадёжно больна ногами: они были поражены, вероятно, гангреною.
Но, чтобы не оставаться теперь долго под впечатлением этого своего воспоминания, стану рассказывать о другом подвижничестве, которым занимался один из родных наших,— не припомню, кто именно. Это фамильное сведение было мне сообщено случайно. У двери в нашей передней лежала плетенка из пакли для обтирания ног. Кто-то из старших нашего семейства, взглянув на неё, припомнил, что некогда лежала на этом месте с тою целью власяница. Какая власяница? спросил кто-то из нас, младших. Бабушка рассказала нам. Кто-то из её старших родных,— вероятно, отец или дядя моего дедушки, её мужа, жил у них в доме, и был уже старичок, и выпивал иногда. Как подопьёт, кричит: «подайте власяницу, спасаться стану»,— и надевает; как пройдёт похмелье, власяницу долой, велит опять положить у дверей для обтирания ног; опять подопьёт — опять подавай ему власяницу. Зачем же, когда так, её клали для обтирания ног? Он сам так хотел, думал, что её грязность помешает ему надевать её, когда подопьёт, потому что сам смеялся над этою фантазиею своего хмеля. Мы уже смеялись над старичком, вспоминая о котором улыбалась бабушка; но мы сидели в комнате, окно которой смотрит на запад, а был вечер, и хороший вечер — бабушка взглянула в окно на пурпуровое небо и призадумалась,— долго любовалась и продолжала: «Вот, бывало, и он так смотрел,— он, дети, уж перестал выпивать,— станет к окну, когда солнышко заходит, и всё смотрит, и говорит нам: Какое хорошее оно, Полинька и Егорушка, солнышко-то! Весело на него [585] смотреть! Полюбуюсь я на него, пока глаза смотрят,— уж недолго им смотреть на него (он уж был слаб, дети), посмотрю, порадуюсь на него, покуда жив. Любил он это. Добрый и хороший был старичок, дети».
Мои воспоминания, капризно соединившиеся на этих последних страницах, хорошо передают своею последовательностью общий характер той стороны впечатлений моего детства, от которой будто отвлекли меня: то, что было трагического или ужасного в малочисленных впечатлениях, имевших фантастический колорит, быстро сглаживалось впечатлениями, в которых фантастические тенденции представлялись со смешной стороны, и над всем этим господствовало впечатление, что люди, близкие ко мне,— добрые и хорошие люди. Но об этом после. Теперь надобно докончить очерк соприкосновений моего детства с живыми людьми фантастического мира, надобно рассказать о важнейшем для моего детства из этих людей, Антонушке или Антоне Григорьевиче.
Благородную подвижницу, подвиг которой я уже и тогда понимал, как чисто человеческий подвиг, не фантастическое стремление, а страдание о действительном несчастии нашей простой человеческой жизни, эту девушку я никогда не видал сам, только слышал о ней изредка. Бедного мальчика, не надолго и слабо выданного за прорицателя без всякой вины его самого в этой чужой глупости, я видел мельком только два раза, и в оба вовсе неинтересным ни для моей фантазии, ни для окружавших меня. И обое они, и подвижница, и бедный мальчик, мало кому были известны, нисколько не составляли общего достояния городской жизни. Юродивый или блаженный Антонушка был известен всему городу, очень интересовал собою тысячи людей из саратовцев много лет, имел сотни горячих чтителей и (конечно в особенности) чтительниц, был очень часто нашим гостем, часто сидел по долгим часам, много раз и ночевал у нас, раза два-три даже имел дня по два, по три приют у нас от гонений за свои подвиги. Те двое занимали бы мало места в моём детском дневнике, если бы я вёл дневник в такие годы, когда никто не ведёт дневников, Антонушкою было бы наполнено довольно много страниц.
Антонушка в начале 1840-х годов был человек не молодой, но далеко ещё не старик, небольшого роста, сухощавый, с очень тёмными или и вовсе чёрными волосами и бородою, в которых при начале моего знакомства с ним не было ещё ни одного седого волоска, с карими или и вовсе чёрными глазами, очень живыми, острыми, и лицо его, довольно красивое, поддерживало своею выразительностью производимое его глазами впечатление, что он человек умный, быть может, человек большого ума. Он и не хотел прикидываться дурачком,— нисколько: юродство его состояло в том, что он пренебрегает условиями житейской формалистики для назидания своих заблуждающихся или слабых в вере ближних по Христу, отрекся сам от благ мирских для душевного спасения, находит полезным излагать свои назидания аллегорическим языком, делает [586] иногда и поступки, имеющие аллегорическое значение,— вот, только и всего юродства в нём. Но дурачком он не хотел казаться, и никто не принимал его за дурачка. Были люди,— немногие,— которые говорили, что он плутоват, что он просто лентяй, которому стало лень пахать землю или управлять своим хозяйством, понравилось жить на чужой счёт, ничего не делая, но и немногие говорили это больше только так, для лёгкого остроумия, почти что только в шутку или насмешку, а не серьёзно. Кое-что такое, очень немножко, могло быть в Антонушке,— настолько, насколько вольная жизнь без обыденной прозаической работы имеет свою долю прелести почти для каждого даже из очень трудолюбивых людей. Но я уверен, что Антонушка если и находил в этой беззаботной воле некоторое вознаграждение за хлопоты и неудобства своего призвания, то принял на себя юродство вовсе не по тунеядским наклонностям, а действительно по призванию, по искреннему влечению служить на пользу ближним и тем спасать свою душу. А предполагать его плутом — чистая нелепица. С такими глазами он мог бы быть плутом, если б захотел,— у него достало бы ума на плутовство. Но он был совершенно честный и благородный человек; я говорю: «был» — быть может, ещё и «есть» — он ещё не так стар, чтобы уж пора была предполагать его умершим.
Происхождение его юродства вот какое. Он был очень зажиточный или и вовсе богатый мужик. Занимался своим хлебопашеством или своею сельскою торговлею,— не умею сказать в точности, но, кажется, хлебопашеством,— старательно и успешно, коротко сказать, был дельный мужик. Но в какой-то тяжёлый год,— какой именно, не припомню определённо: в холерный ли год (первой холеры, она важна в народной памяти, вторая, как все знают, далеко не произвела такого впечатления, хотя была едва ли не сильнее первой[487]), в голодный ли год,— его совершенно увлекла жалость к людям: он всячески помогал всем в своём селе и кругом, израсходовал на это все свои излишки и так пристрастился к деятельности «брата милосердия», что, когда крайняя всеобщая нужда в материальном пособии прошла с народным бедствием, он обратился к подаванию нравственной помощи: бросил хозяйство, сдав, его жене, бросил жену и детей и пошёл бродить по саратовскому свету. Но забота о подавании нравственной помощи, в которой, с его точки зрения, нуждались, конечно, все, не заслоняла от него понимания, что следует оказывать и материальную помощь несчастным. В первые годы его знакомства с нашим семейством, когда карьера его юродства была наиболее успешна, он [в] своей избушке,— у него была тогда нанята особая избушка,— поместил одного, потом двух, а может быть и троих, неизлечимо больных и бесприютных бедняков, то-есть устроил у себя больничную богадельню, какую мог по своим средствам, и ухаживал за помещенным или помещенными в ней, как следует доброму человеку, взявшему на себя уход за больными. С этой стороны в чём состояло его юродство? — он выражался о своих больных фигуральным язы[587]ком, называл их «жемчужинами» или «перлами», или «сокровищами», что-то в этом роде, называл их также «подарочками, которые послал ему бог»,— эту метафору я помню хорошо. Но тем не ограничивалось юродство: раза три-четыре приходилось нам узнавать, от него или по слухам, такие выходки. Антонушка приходит к зажиточному хозяину или хозяйке и ведёт свои речи, половину которых не могут хорошенько разобрать слушающие, потому что аллегоризм очень преобладал у него и сам по себе уже часто бывал туманен, а кроме того, он любил иронические юмористические обороты, и они, усложняя аллегоризм, ещё более затрудняли ум слушающих, вообще, конечно, людей не бойких в мышлении. Очень часто они даже не знали, как решить: шутит он или говорит серьёзно, хвалит или порицает. Такова, разумеется, и должна быть речь юродивого. Вот, в этой речи Антон Григорьич и вставит обещание, что он завтра, послезавтра «привезет подарочек»; если догадаются, скажут: «Нет, Антон Григорьич, не надобно, у нас своих хлопот много»,— он примет оговорку; но не всегда же догадывались, особенно сначала. Антонушка в это время часто разъезжал на ломовом извозчике, а по временам бывала у него и своя тележка и лошадь: он собирал иконы для некоторых церквей в селах, собирал старое платье, собирал всякий хлам для бедных и, принимая подарки этого рода, иногда получал понемножку денег, сам часто оплачивая за них подарками: иконами, маленькими образами, ещё чаще просфорами и т. п. — поэтому легко было не предположить особенного умысла ни в «привезу», ни в «подарочек» — и если говорили: «Привези, Антон Григорьич, очень благодарны будем»,— он на другой, на третий день рано поутру привозил больного старика или дряхлую старуху на ухаживанье напросившимся, конечно, те отказывались, сердились, выходили истории, в особенности, когда Антонушка не сам привозил «подарочек», а нанимал ломового извозчика и отправлял с ним больного, уверив ничего не подозревающего извозчика, что там уже ждут этого гостя, или когда он, привёзши сам на рассвете, летом, в тёплую погоду, оставлял «подарочек» на пустом крыльце, а сам уезжал. Он всячески делывал. Помнится, я раза четыре слышал такие истории, значит, их было не очень мало. Кончалось, разумеется, тем, что его заставляли брать больного опять к себе и долго на него сердились.
Еще больше юродства было в его проделках над монахами и монашенками; он любил бранить и тех, и других,— и натурально было, что человеку с восторженными понятиями о нравственных обязанностях особенно досадно было находить обыкновенных людей в классе, которому, по его мнению, следовало вести самую суровую жизнь и отличаться ангельскими качествами. Мужской монастырь Саратова, находящийся за городом и очень скудный и средствами, и числом живущих в нём, меньше занимал собою Антонушку, чем женский,— да и наше семейство почти вовсе не имело отношений ни к монастырю, ни к его жителям, и слухи оттуда [588] слишком плохо доходили до меня; но всё-таки я слышал раза два, что Антонушка, во время службы, когда монахи в церкви, забирался в их кельи, разливал и разбрасывал по двору небольшие запасы съестного и тому подобного, какие находил. Вероятно, и это не обходилось без неприятностей. Но главным предметом его проделок был женский монастырь. Он стоит в середине прибрежной полосы города; в нём тогда жило, если не ошибаюсь, до сотни монахинь и послушниц (больше послушниц; число монахинь,— то-есть лиц, уже давших торжественный обет монашества,— было сравнительно невелико); они часто встречались на улицах, бывали во многих домах; монастырь имел порядочные средства, постоянно шли в нём постройки и пристройки,— значит, была возможность; мать игуменья и некоторые из сестёр играли довольно заметную роль в некоторых, немногих и не бог знает как важных, но всё-таки почетных провинциальных кружках. Следовательно, нельзя было Антонушке не заниматься женским монастырем усердно и постоянно.
Был ли саратовский женский монастырь особенно достоин его преследования? Сколько я знаю,— а я всё-таки не мог не знать его довольно порядочно,— он не был хуже других женских монастырей. И я полагаю, что характер всех женских монастырей одинаков,— не только русских между собою, но и католических женских монастырей всех стран. Между мужскими есть большая разница, от какого-нибудь сен-бернарского до тунеядного римского; от антипатриотического французского с иезуитским духом до простодушного и пламенно патриотического сицильянского; и русские обыкновенные мужские монастыри имеют особый характер, собственно русский, а кроме их есть особенные монастыри, каждый с своим индивидуальным характером. Но женские монастыри почти все во всей Европе одинаковы, и потому мне нет нужды описывать тогдашней жизни саратовского женского монастыря,— по крайней мере, здесь; в следующих главах быть мо[жет]. Всякий и не слышавший никогда о ней знает её по многочисленным описаниям совершенно подобных учреждений. Те из саратовских православных, которые занимались этим монастырем, вообще находили его хорошим.
Но Антонушка был гонителем женского монастыря. В том же роде, как два-три раза в мужском, он гораздо чаще юродствовал в женском. Особенно эффектна вышла одна его проделка: также во время обедни, забравшись в пустые кельи, он в довольно многих успел выпустить пух и перья [из] перин и подушек, а в них вместо прежнего положил кирпичи, которых заранее натаскал с другого конца двора, где что-то строилось. Они должны спать на камнях, какие они монахини, когда у них подушки и перины? — говорил он, когда его потом порицали за это. Народ, выходя из церкви, изумлялся, видя весь монастырский [двор] усыпанным перьями и пухом. Когда монахини возвратились в кельи и увидели, что такое это сочинено, они тотчас догадались, что это дело Анто[589]нушки, стали ловить его, но он успел убежать и несколько дней прятался.
Конечно, ему нередко приходилось бегать и прятаться. Я не припомню, чтобы в его проделках бывало что-нибудь сальное или дрянное; полагаю, что рассказанная мною — самая резкая из [них], по крайней [мере], о ней только и говорили, когда по какому-нибудь новому, менее важному юродству вспоминали прежние. Но, конечно, полиция была совершенно права, не одобряя и таких подвигов. На него жаловались,— жалобы были основательны,— полиция искала его, иногда и отыскивала; поступала с ним мягко,— разве иногда, кажется, бывала принуждена подержать его под арестом двое-трое суток, только и всего, но главное — старалась выжить его из города,— несколько раз отсылала в родное село — кажется, где-то около Петровска. — Кстати о Петровске: один из моих бывших приятелей, а нынешних противников по литературе и прочему вздору очень мило доказывал, что действие «Ревизора» происходит именно в Петровске: и точно, это очень вероятно, по соображению маршрута Хлестакова, и пусть Петровск пользуется хоть этою известностью, при совершенной невозможности иметь никакой другой[488]. — Итак, Антонушку иногда высылала из Саратова в Петровский уезд, но он опять появлялся. Хорошо, когда обижавшиеся жаловались полиции, а иногда и сами расправлялись и бивали его сильно; несколько раз он лежал не по одному дню от побоев.
Но всё это я рассказываю по рассказам его самого и других. А каков он был в обыкновенном своём занятии юродством, за исключением этих экстренных проделок? Бывая у нас по временам очень часто и очень подолгу, он всегда бывал вот каким. Когда ему не мешали говорить, он говорил своим аллегорическим языком; когда хотели не слушать его, а рассказывать, он слушал, как и всякий обыкновенный человек на его месте; когда не хотели ни слушать, ни говорить с ним, а занимались разговором между собою, мимо него, он иногда и подолгу сидел молча, как сидят в подобных случаях обыкновенные неважные гости у хозяев, важных сравнительно с ними; часто он не выдерживал этой безмолвной почтительности, вмешивался в разговор, когда другой простой человек не вмешивался бы, но эту смелость не столько брал он на себя сознательно, по праву юродства, сколько увлекался природною живостью характера и бойкостью языка: он был из людей «неугомонных», как у нас говорят.
Самое резкое из его назиданий в нашем семействе,— и чуть ли даже не единственное назидание, по крайней мере, я решительно не припомню никакого случая, чтобы он высказал кому-нибудь из нас неодобрение за что-нибудь,— итак, едва ли не единственное, а во всяком случае уж самое [резкое] его назидание было следующее. Моя матушка и тетушка очень много шили (и шили отлично). Чугунных наперстков тогда ещё не видывали в Саратове, были только медные, плохие, тоненькие, хиленькие, скоро прокалывав[590]шиеся от работы. Часто меняли их, а всё-таки часто кололи руки,— ведь нельзя же менять, как прокололся хоть в одном месте: неэкономно было бы, ещё послужит, только нужно остерегаться, не подставлять под иголку проколотое место,— итак, часто кололи; и наконец вздумали вот что: и матушка, и тетушка заказали себе серебряные наперстки с железными верхушками, служащими под иглу. Эти наперстки, безвредно для себя и для рук служившие потом множество лет (думаю, не служат ли ещё и теперь тетушке и старшей моей кузине), были одной из величайших прихотей роскоши моих матушки и тетушки; оба они вместе обошлись чуть ли не больше трёхрублевого (75 коп. серебром), но меньше целкового, это я помню, что меньше. Вот, однажды, Антонушка, проходя через гостиную, увидел на столе у зеркала один из этих наперстков, приостановился на секунду, будто взглянуть в зеркало, и тотчас же пошедши дальше, шага через два-три произнес: «а вот я хочу себе серебряный кочедычек[489] сделать».
Только и всего было. Больше он ничего не сказал,— да этот упрёк в роскоши, как дипломатично он сделал? — Я уже сказал, что не помню не только случая более прямого назидания, но и вовсе никакого другого случая назидания.
Итак, Антонушка был дипломат, очень и очень тонко соблюдавший границы в своём юродстве. И как следует умному, он держал себя к разным членам нашей семьи в разных отношениях, смотря по тому, кто какие отношения хотел допускать. Батюшка мой, человек занятой и по своему характеру не любивший видеть никаких выходок, совершенно связывал его юродство своим присутствием,— хотя тоже, по своему характеру, никогда не делал ни словом, ни выражением лица никакого намёка в смысле того, что «не нравится это мне, Антон Григорьич». — Антон Григорьич без всяких намёков соображал, что не нравится моему батюшке, и старался не делать этого. И не потому, чтобы боялся его,— мой батюшка был не такой человек, да и Антонушка не стесняясь входил к нему в кабинет, когда батюшка сидел (как сидел большую часть каждого дня) за работою,— подходил под благословение, обменивался несколькими словами, без всякой робости. Нет, он не боялся, а просто понимал, что его юродствование не нравится моему батюшке, что моему батюшке и некогда, и скучно заниматься с ним,— потому и ограничивался обменом недолгих и неважных разговоров с ним, как делает всякий гость относительно тех членов знакомой семьи, собственно к которым не относятся его посещения. Почти так же держал он себя с моею матушкою, тетушкою, дядюшкою (мужем тетушки),— он бывал не у них,— они были не его компания, они были тоже ласковы к нему, как и мой батюшка, но он очень хорошо понимал, что эта ласковость происходит, во-первых, от уважения их к Пелагее Ивановне, их матери, во-вторых, оттого, что все они вообще люди ласковые и добрые, но что напрасно было бы [591] надоедать им; он и не надоедал. — Даже с нами, детьми, он не позволял себе бесцеремонностей,— был ласков, шутил, как всегда взрослый добрый и неглупый гость считает нужным заниматься детьми хозяев,— да он и по правде любил детей, как почти всякий добрый человек,— но, лаская и говоря шутки, он не фамильярничал с нами, детьми. Вот пример его дипломатичности относительно даже нас, детей. Мы, когда не были заняты делом или играми, больше всего бывали в комнате бабушки, между прочим, уже и потому, что в те годы она была столовою, в ней все собирались пить чай,— она была, так сказать, самою жилою из всех жилых комнат. А он, как гость бабушки, сидел почти все только в этой комнате. Когда бывало удобное ему время, он устраивал молитву: становился поближе к образам и начинал петь церковные гимны своим звонким тенором; бабушка стояла и тоже молилась. Мы, дети, большею частью уходили, как начиналось это; я не припомню, чтоб он когда или удержал, или хоть заметил, что не следует уходить, а надобно оставаться и молиться. Но попадавшихся ему под руку детей прислуги он брал за руки и ставил молиться вместе с ним и бабушкою. Мало того, что он не хватал нас за руки или не старался замечаниями остановить для моления; он и вообще не навязывался нам, детям, даже простыми разговорами: он видел, что мы — не то, что не любим его, а не охотники быть его собеседниками,— и этого было ему достаточно, чтобы соблюдать очень большую умеренность в количестве своих ласковых разговоров с нами.
Итак, он был собственно приятелем только бабушки Пелагеи Ивановны. Из того, как он держал себя относительно остальных наших старших, уже понятно, как они смотрели на него,— как на человека доброго, стремящегося делать хорошее, но в стремлении бросившегося на странную дорогу, которого нельзя порицать за ошибку, потому что он человек безграмотный,— что с него требовать в тонком распознавании удачного и неудачного морализованья? — но и только, то-есть, что сам по себе он хороший человек, и не надобно судить о нём строго. Снисходительность к странностям экзальтированного, честного, но невежественного стремления — вот взгляд на Антонушку, который сообщался мне, ребёнку, отношениями моих батюшки, матушки, тетушки, дядюшки к Антону Григорьичу и суждениями о нём. Но он бывал собственно у бабушки, из уважения к ней ласково принимали его другие наши старшие,— каковы же были отношения к нему бабушки, его приятельницы? — Она была большая приятельница ему; мало того, что она потчевала его и чаем и обедом,— это делали все наши, это было в тогдашних провинциальных нравах — не оставлять без участия в своей, всё-таки более хорошей, пище бедного человека, попадающего в комнаты незадолго перед временем чая или обеда,— и я скажу, что в этом старом хлебосольстве, неудобные и пошлые стороны которого я осмеиваю уж наверное не хуже кого угодно, вредные стороны которого я могу расписать так, как едва ли кто [592] другой,— не потому, что мне или моим близким приходилось испытывать их — нет, оно не имело вредного влияния ни в нашей семье, ни вообще в Саратове, а потому, что мой идеал человеческого быта слишком различен от быта, элемент которого составляет хлебосольство,— итак, я скажу, что в этом хлебосольстве главным элементом было хорошее, доброе человеческое чувство: его не следует выводить из праздности, из того, что съестные припасы были дёшевы или ничего не стоили,— всё это вздор: где хлеб стоит 25 коп. сер. пуд, там 25 коп. ценнее 5 рублей Петербурга или Лондона; расчётливым хозяевам, то-есть большинству хозяев, угощение везде составляет одинаковый по размеру их средств расчёт, а дела у дельных людей, т. е. опять у большинства людей, везде довольно и праздного времени мало, и в провинциальной глуши забот и работ не меньше, чем у хлопотливейших и замкнутнейших петербургских людей,— но дело в том, что глухая жизнь захолустья имела стороны, развивавшие добродушие, и эта сторона её выразилась хлебосольством. Опять замечу: эта жизнь едва ли имеет в ком-нибудь более безусловного противника, чем во мне,— я на неё смотрю так, как из сотни читателей 99 могут смотреть разве на жизнь чукчей и бурят, но не в том дело: на Шпицбергене бывают часы тёплого времени, и в самом дрянном быте есть что-нибудь тёплое и милое,— из этого не следует, что на Шпицбергене сносный климат, не следует также, что не должно всеми силами стремиться к заменению дрянного быта более хорошим. Ну-с, итак, дружба бабушки с Антоном Григорьичем доказывается не тем, что бабушка поила и кормила Антонушку, это ещё не велика важность; но Антонушка считал наш дом одним из вернейших своих приютов от гонений,— вот это уж значит, что у него было мало таких надёжных друзей, как бабушка. И точно, она давала ему убежище от преследователей — давала с готовностью, с удовольствием. Иногда это имело достаточно забавный характер. Уже известно из прежних страниц, что Антонушка навлекал на себя преследования в особенности своими выходками в женском монастыре. Монахини жаловались — и основательно; нельзя было начальству не дать хода их претензии, не подвергнуть Антонушку преследованию. Кто ж был это начальство, бывшее посредствующим звеном гонения, воздвигавшегося женским монастырем и действовавшего руками полиции? — Мой батюшка. Он был благочинный женского монастыря. Ему жаловались монахини. Он, если мог, обязан был предать Антонушку в руки карающей власти, а если не мог сам, то подвигнуть эту карающую власть не [только] к покаранию пойманного Антонушки, но и к предварительной поимке его для покарания. И не раз случалось, что в то время, как мой батюшка жалуется полиции на Антонушку, и ни батюшка, ни полиция не знают, где отыскать Антонушку, Антонушка живёт у нас в «людской», по распоряжению, отданному бабушкою прислуге: «Спрячьте Антона Григорьича в людской, да не говорите Гаврилу Ивановичу, что он у нас». Значит, была дружба. Конечно, [593] гонители не были ожесточенными врагами — у полиции и у моего батюшки были дела важнее антонушкиных проказ, да и у самих монахинь тоже,— через три-четыре дня монахини готовы были бы и сами простить его, а мой батюшка и полиция забывали о нём. Итак, просидев два-три дня в людской, он безопасно являлся опять в свой свет. Но всё-таки, мне помнится, раза два-три батюшка, узнавая после всё дело от самой же бабушки, говорил ей: «Матушка, зачем вы у себя-то прячете его? Нехорошо, пусть прячется где в другом месте; а то скажут: да благочинный-то ему и потатчик». — «Ну, всего не переслушаешь, что будут говорить: я прятала, а не ты»,— отвечала бабушка. — «Э, матушка, вы всё так»,— отвечал батюшка, и тем кончалось объяснение. Из этого видно, что не могло быть важных размолвок между бабушкою и батюшкою из-за Антона Григорьича; но всё-таки бабушка знала, что поступает неловко относительно зятя, скрывая Антона Григорьича, а семья наша была дружная, никто в ней не любил делать неудобного для других. Значит, дружба бабушки к Антону Григорьичу была сильна. Как же бабушка смотрела на него?
Но вот что: как бы ни судила бабушка об Антоне Григорьиче, хоть бы выставляла его за святого, а нам, детям, в том числе и мне, из этих историй преследований Антона Григорьича моим батюшкою, прятания его моею бабушкою и следующих затем объяснений между гонителем и покровительницею видно было, что всё это пустяки: если бы дело Антона Григорьича было важное, то бабушка не стала бы его прятать, когда батюшка ответчик за её прятанье,— стало быть, Антонушку преследуют из-за пустяков, следовательно Антонушка занимается пустяками, следовательно, что бы ни говорила бабушка об Антоне Григорьиче, а мне, её внуку, ясно было, что в сущности и она, подобно всем нашим старшим, понимает, что Антонушка занимается пустяками.
Но нечего было мне самому доискиваться этого — это я не только слышал в разговорах других старших между собою, это говорила сама бабушка самому Антону Григорьичу, своему приятелю. Старушка была охотница поговорить и послушать, у ней было довольно много неважных старух и стариков, которые годились для её развлечения разговорами, и Антонушка занимал место между ними, и далеко не первое место по уважению бабушки. Как так? — Пелагея Ивановна принимала Антона Григорьича не за человека, заживо причисленного к лику святых, даже не за особенного просветителя духовной жизни? — Да, и до такой степени, что не он ей читал, а она ему читала мораль: «зачем же ты это делал, Антон Григорьич»,— «этого не надобно делать, Антон Григорьич»,— «это нехорошо, Антон Григорьич». — А что ж Антон Григорьич? Антон Григорьич защищался, оправдывался, извинялся, признавался, винился,— но больше увертывался своими аллегориями, а бабушка, не обращая внимания на их высокий смысл, настаивала на своих советах обыкновенного здравого смысла. [594]
Легко теперь рассудить, была ли мне опасность очароваться фантастическим элементом в лице Антона Григорьича, или была ли хоть возможность придать какое-нибудь важное значение этому элементу из-за личности Антона Григорьича.
Во мне, как в ребёнке, только заметнее выражалось то отношение к нему, в какое стал к нему я по примеру своих старших — матушки, тетушки, дяди,— они сторонились от интимности с Антонушкою, а я и вовсе сторонился от него,— по тем же причинам, как и они: он чудак, он занимается пустяками, он говорил бог знает что, потому что хоть и умный человек, но не за своё дело взялся,— что он понимает в нравственности? — он сбивается с толку по своей необразованности; с ним скучно и неприятно. Неприятно потому, что он всё говорит ломаным языком, который приторен; и ещё потому, что он не совсем опрятен.
Да, уж и этого одного было бы довольно, чтобы он производил на нас, детей, впечатление, не располагающее ни к интимности, ни к благоговению. Не то, чтобы он щеголял неопрятностью, напротив, он заботился о благовидности, как следует: мазал и причесывал голову, старался о чистоте своих сапогов, умывался, всё, как следует; но стараясь быть совершенно как следует, он всё-таки оставался неудовлетворителен на мой взгляд: от его полушубка пахло кислою овчиною, как от всякого полушубка, а он не всегда снимал его (этот полушубок был засален, как обыкновенно); он брал стакан, захватывая пальцем внутрь стенки, не замечая, что другие так не делают,— и много таких мелочей. Словом, он был мужик из глухого села, куда не проникла утончённость городов и сел, лежащих на бойких местах. У нас бывали и сельские родственники, очень незнатные, у бабушки бывали и городские гости и гостьи, такие же незнатные, которых я находил приятными для себя, но это были уж другого образования, светские благовоспитанные люди сравнительно с Антонушкою. Мне было приятно сидеть с чистенькою, деликатною «иерусалимкою»[490] Прасковьею Ивановною, я не чувствовал разницы между нею и собою, и разговоры её были достаточно деликатны, и ветхий капот хорош и всё хорошо, а Антонушка был неприятен.
Когда я был уже взрослым мальчиком, лет 12, Антонушка стал часто и надолго пропадать из Саратова,— сначала только по случаю удаления полициею в свой уезд, а потом и по собственному желанию: карьера его суживалась год от году, всё яснее он видел, что его считают в Саратове чудаком, всё меньше находил он сочувствия; да, вероятно, ему самому стало по временам надоедать юродство, и я полагаю, что он удалялся в свою глушь не столько для того, чтобы подкрепить свою ревность в кругу более ободряющем, сколько для того, чтобы в безвестности отдохнуть от принятого им на себя подвижничества. — Но как бы то ни было, звезда его юродства померкала.
В последние годы перед отъездом моим в университет Антон Григорьич получил официальное положение, очень мало гармони[595]ровавшее с юродством. Когда он, явившись после долгой отлучки, объявил нам, что «теперь Антон Григорьич купец 2-й гильдии, вот как», долго никто из нас не хотел принимать этого иначе, как за шутку. Но действительно было так, он стал купцом 2-й гильдии. Его дети,— два сына,— вышли дельные, умные люди и пошли служить по откупам; стали получать хорошее жалованье, по их служебным расчётам оказалось полезно причислиться ко 2-й гильдии, и они записали в неё отца. Они упрашивали его бросить подвижничество, которое, конечно, считали дурачеством; он тогда ещё не слушался их вполне, но перестал делать выходки, не одобряемые полициею, и ограничился аллегоризированьем в речах. — Как следует всякому, не бывавшему дальше губернского города, он имел вражду к Петербургу, называл его «дьявол-город» за его безверие (совершенно напрасно: в Петербурге гораздо больше набожности, чем в Саратове; совершенная напраслина также считать Петербург только полурусским городом: наша национальность в массе его населения господствует нисколько не слабее, чем в Саратове; а высшие классы везде имеют в себе очень много иностранцев. У нас любят видеть особенную черту русской официальной жизни в том, что она представляет очень много немецких фамилий; во французских списках чиновников и сановников наберётся, конечно, почти такая же пропорция итальянских, английских и особенно немецких фамилий; в немецких списках неисчислимое множество французских фамилий. Особенного тут мало. Люди высших сословий имеют больше средств переезжать из одной страны в другую, потому высшие классы везде получают много иноплеменных элементов, и это прекрасно; надобно желать, чтоб и массе становились доступны эти удобства сближения племен). — «В дьявол-город, за рябу (рябую) реку поехал»,— с сильным порицанием отзывался, бывало, Антон Григорьич об отправлявшихся в Петербург; но его сыновья вслед за откупщиком или управляющим откупа, своим патроном, переселились в Петербург, и я не слышал от Антона Григорьича, чтобы он огорчался этим, считал людьми, губящими свои души,— да, кажется, следовало бы ему и вообще скорбеть о том, что сыновья погрузились в житейские заботы, пекутся о благах земных и забывают о душевном спасении, сидя над счётными книгами и производя ревизии,— нет, он от души радовался, что его сыновья и вышли дельные люди, и служат хорошо, и теперь живут в благосостоянии, и зарабатывают себе кусок хлеба на старость, утешался этим, как утешался бы всякий обыкновенный отец.
Купец 2-й гильдии, отец, утешающийся успехами детей по службе,— это уж такая проза, что из рук вон; но и прежде её наступления Антон Григорьич, как я полагаю, очень видно, не был интересен для моей детской фантазии, не играл никакой роли в моей детской жизни,— да тоже и в жизни города Саратова, даже и в жизни той части горожан, которые принимали его. Зачем же я посвятил ему столько страниц? — Это потому, что [596] я хочу вывесть великие философские истины из его роли в городе Саратове, хочу возвести в тип всемирно-исторический. Но ещё надобно повременить с этим, это уж будет в общем выводе, которым стали выражаться впечатления моего детства в образе моих мыслей, когда я стал искать для себя убеждений более удовлетворительных, чем смесь Голубинского и Феофана Прокоповича с Ролленом в переводе Тредьяковского и всяческими романами, журнальными статьями и учёными книгами всяческих тенденций сочинений Димитрия Ростовского до Диккенса и Белинского. А теперь пока надобно ещё докончить очерки живых отношений моего детства к живым людям фантастического направления.
Антонушка был человек далекий мне, хотя и бывавший часто на моих глазах. Но было другое лицо, от близости с которым нельзя было отказаться,— наш родственник, в какой именно степени родства, не знаю, но звавший прабабушку тетушкою, следовательно, по всей вероятности, двоюродный брат моей бабушки,— Матвей Иванович Архаров. Он был очень богомолен и благочестив, говорил о божественном и простирал своё усердие к спасению душевному до того, что Антонушка оказывался перед ним холодным рационалистом и однажды даже произвёл раздрание его вицмундирного фрака для удержания его на земном поприще. Эта сцена произошла таким манером, что однажды Антонушка, частый гость Матвея Ивановича, сидел с ним поутру,— кажется, переночевав у него,— и Матвей Иванович, служивший где-то столоначальником, контролером или архивариусом, стал одеваться: сначала он пойдёт, простоит обедню,— Матвей Иванович бывал у обедни каждый день,— а потом,— день был будничный,— пройдёт и в должность. «Нет, ты к обедне не ходи,— стал говорить Антонушка: — у тебя церковь в будни — служба твоя, тебе на неё пора, в должность тебе пора, ступай в должность». — Заспорили; Матвей Иванович пошёл, Антонушка за ним, Матвей Иванович идёт в церковь (он жил у самой ограды Ильинской церкви, ему и Антонушке нужно было пройти лишь несколько шагов, чтобы достигнуть развязки, которая произошла). — «Не пущу, ступай в должность»,— твердил своё Антонушка и загораживал ему дорогу, когда он повернул к церкви; Матвей Иванович отсторонил или обошёл его и шёл себе к паперти, Антонушка за ним; «не пущу», «не послушаюсь» — и побежал от Антонушки,— Антонушка пустился вслед и поймал за фалды фрака, развевавшиеся на бегу; Матвей Иванович рванулся, фалды отлетели,— и Матвей Иванович пошёл домой отдать Александре Павловне пришить оторванные фалды.
«Но, значит, Антонушка не был фанатик, если рассуждал, что Матвею Ивановичу душеспасительнее будет сидеть в должности, чем заставлять других работать за себя?» — Значит.
Матвей Иванович прежде был горьким пьяницею. Если бы он пил запоем, это было бы [не] порицанием ему, а только его несчастною судьбою. Не знаю, всем ли ныне так твёрдо известна раз[597]ница между «пьёт запоем» и просто «пьянствует», как была известна она в моё детство в простом народе и в среднем классе. Пьющий запоем вообще — не берёт капли вина в рот, но по временам он пьёт несколько недель сряду, не выходя из хмеля ни на минуту: как приходит несколько в память от выпитого вина, ещё совершенно пьяный, тотчас опять пьёт до бесчувствия, и эта смена бесчувствия несколькими минутами питья буквально без всякого перерыва продолжается две, три недели, месяц, больше. Человек ничего или почти ничего не ест в это время. Он страшно истощается, но не столько от недостатка пищи, сколько собственно от питья,— под конец он почти умирает. В эту эпоху крайнего изнурения питье вина прекращается вдруг наотрез, и пивший запоем опять не берёт в рот ни капли вина до нового запоя. Эти периоды питья запоем происходят у разных людей различно. У одних они начинаются случайным образом, в совершенно неопределённые сроки, и ближайшим поводом бывает очевидная для всех несостоятельность характера: подверженный запою не остережется, не удержится,— выпьет рюмку в гостях, уступая просьбе глупого упрашивающего хозяина, или сам как-нибудь соблазнившись,— и лишь выпил рюмку, пошло писать неудержимо, начался запой. У других этого не бывает. Они начинают запой не по недостатку твёрдости или осторожности,— нет, приходит время, запой овладевает ими против их воли не пить, очень твёрдой, после борьбы, доводящей их до полного физического расслабления. Начинается болезненное состояние души, человеком овладевает тоска, всё усиливающаяся, доводящая напоследок до смертельного томления; человек делает всевозможное, чтобы побороть, разогнать ее: или напряженно погружается в дела, или ищет ежеминутной поддержки в обществе других, сидит в своём семействе, чтобы развлечься, лаская любимых детей, чтобы поддерживать свою бодрость разговором с любимою и любящею женою, с уважаемой матерью,— ничто не помогает, он чувствует: «умру, если не начну пить»,— и начинает с отвращением, с отчаянием, стыдом. Это время непреодолимого требования организма посещает иных два раза в год, других один раз, правильно, каждого в определённый месяц, один и тот с каждым годом. Этого правильного, периодического возобновления потребности пить нельзя, кажется, сравнить ни с чем так верно, как с потребностью кровопускания, которую чувствуют многие каждый год в известное время: душит, душит человека кровь; если не пустит он кровь, он умрёт,— а перед тем он тоскует, мучится. Само собою, что при незазорности запоя в общем мнении многие дрянные люди, просто кутилы, употребляют эту маску в обман,— я, дескать, не кучу, а подвержен запою, я не презренный, а несчастный человек. Но не подлежит ни малейшему сомнению для людей, видавших простую жизнь, что кроме обманщиков, накидывающих на себя самозванный запой, есть люди, действительно подверженные ему против своей воли, как несчастию,— если запой употребляется в обман, то сам по себе не [598] обман, а действительная болезненность, всё равно как кроме кликушества, накидываемого на себя плутовками, есть действительно несчастные, больные кликушеством. Что такое неподдельное кликушество, это так хорошо разобрано медиками, так усердно разъясняется ими в печати и в разговорах, что и до меня, как вероятно до всякого моего читателя, дошло знание, медицинское объяснение вопроса: кликушество — это истерика, принимающая известный характер под влиянием народных понятий, владеющих и умом страдалицы. Но мне не случалось прочесть или слышать хорошее медицинское объяснение запоя, а теперь, когда пишу это, я не имею под руками ни людей, ни библиотеки, чтобы справиться. Да и характер этого рассказа состоит в том, чтобы писать без справок, только то, что я запомнил и вынес из жизни, говорить только то, что уже собственно мое. Слышанное мною в детстве и молодости о запое оставило во мне такие впечатления, что я составил себе о запое такое понятие. Это меланхолия, та меланхолия, которая в Англии, под влиянием местных условий, приобретает характер сплина,— разумеется, я говорю про серьёзный сплин, тот, который нередко заставляет англичан пускать себе пулю в лоб. В русской жизни простого и среднего класса, под другими условиями, меланхолия, развившаяся до сильной болезни, становится запоем. Это такое же местное видоизменение меланхолии, как местное видоизменение истерики — кликушество. Надобно сказать, что характер жизни, о которой я говорю, очень благоприятствует развитию меланхолии: тосклива эта жизнь, очень тосклива. Потому и запой во время моего детства был болезнью очень частою. Наверное, в городе Саратове страдала им не одна сотня людей. Я, будучи ребёнком, хорошо знал одного из них. Это был немолодой купец, не очень богатый,— о, далеко нет, куда же,— я помню, как батюшка усердно советовал ему записаться на несколько времени, хоть года на два, во вторую гильдию, для достижения одной официальной цели, которая сильно нравилась этому купцу,— но нет, он не мог пожертвовать несколькими сотнями рублей в удовольствие себе. Этот купец, такой небогатый, был всегда первый в городе по уважению городского общества к нему. Он был честью саратовского купечества, действительно человеком замечательного ума, безукоризненной честности, очень твёрдого характера. Он вообще вёл строгую жизнь и ничего не пил. То, что он страдал запоем, уж никак нельзя назвать ничем иным, как припадками болезни, столь же неодолимой волею, как падучая болезнь. Если бы можно было одолеть её волею, то у этого купца уж наверное достало бы воли. Но если запой есть сильная степень меланхолии в условиях русской простой жизни, то ему, конечно, и следовало страдать запоем.
Память другого лица, страдавшего запоем, драгоценна мне. Это был спаситель моей матушки и человек очень редкого благородства, медик тогдашней Мариинской колонии питомцев, Иван Яковлевич Яковлев. С тех пор, как помню мою матушку, я помню её бес[599]престанно страдающею мучительною болью — то в правом боку, то в голове, то в груди, то в правой ноге. Иногда переход мучительной резкой боли из одной части организма в другую сопровождался успокоением её на несколько дней,— будто нервы страдавшей части устали страдать, будто впечатлительность их притупилась, и они передают свою обязанность страдать другим, которые успели освежиться для впечатлительности, а эти будто не спешат входить в свою очередь, принимают боль постепенно; эти промежутки были днями облегчения,— сравнительного, потому что оно всё-таки боль очень сильна. Иногда не было никакого промежутка при переходе страшно резкой боли из одной части организма в другую; иногда и две, и три части чувствовали боль во всей резкости: и голова трещит от страшной «стрельбы», и дух захватывает от боли в правом боку,— или другая комбинация. С течением времени страдания всё усиливались. Начались они вскоре после того, как родился я, года через 4 были уже очень сильны, ещё года через 4 матушка уже большую [часть] дней в году проводила в стонах. — Она считала коренным источником всех этих болей затверделость в правой ноге выше колена,— эта затверделость всё увеличивалась в объёме и подымалась. Саратовские медики употребляли всяческие смягчающие средства,— припарки, мази,— быть может, для них уже давно было ясно, что надобно бы сделать операцию, но они были плохие хирурги и так добросовестны, что не хотели играть ножом, которым не умели владеть. Дело в том, что разрез надобно было бы производить по соседству [с] одной из больших артерий. Поэтому, когда матушка сама стала требовать операции, медики не соглашались.
Вот, каким-то случайным образом, пробрался к нам один из двух фельдшеров, состоявших при больнице колонии питомцев. Это был человек очень бойкий, хорошо говоривший, по всей вероятности очень неглупый. Он часто приезжал в Саратов (Мариинская колония лежит всего в 45 или 50 верстах от Саратова, почтовые лошади по этому (Аткарскому) тракту были и тогда, и после очень хороши — из Аткарска 88 верст не особенно спеша, не давая на водку больше 3 коп. сер., то-есть гривны,— приезжали в 8 часов, даже меньше, из Мариинской колонии было всего 4 часа езды),— имел некоторую практику в городе. Тогда в городе не было ни одного замечательного медика — первым действительно хорошим медиком явился туда через несколько лет после той эпохи,— вероятно около 1842 года,— Николай Фомич Троицкий, кажется, из Московского университета, молодой человек, приехавший в саратовскую — страшную тогда — глушь с намерением не бросать науку и действительно не бросивший её, а через несколько времени приготовившийся к докторской степени и получивший её. Он умер очень скоро, и весь город был глубоко опечален его смертью, потому что он был и благородный человек, не только искусный медик. С той поры редко случалось, что Саратов не имел хорошего медика,— назову Кабалерова, который также умер в молодости, [600] потом приехал Стефани,— но до Троицкого не было медиков, которые [заслуживали] бы особенного предпочтения перед опытными фельдшерами. Мой тесть, в молодости бывший хорошим медиком, прожил эти свои хорошие годы в Камышине, и оттуда выписывали у него рецепты, лечились по корреспонденции через 180 верст, с почтою, ходившей раз в неделю! — значит медики города Саратова были хороши! Можно характеризовать их двумя анекдотами о двух. Одного я назову — это покойный Покасовский, бывший, между прочим, медиком при семинарии, когда я учился в семинарии. В больнице семинарии была «микстура»,— какая, я не знаю, но одна микстура,— если горчичник и шпанская мушка не годились в дело, Покасовский говорил ученику семинарии, исправлявшему должность фельдшера: дать микстуру — и давали «микстуру» от всего, против чего не действует шпанская мушка, от чахотки до тифа, от всего одну и ту же микстуру. Конечно, средства больницы были неимоверно скудны; и натурально, единственная микстура была какая-нибудь очень дешёвая; но ведь, конечно, есть не один десяток таких же дешёвых,— поэтому её единственность объясняется тем, что действительно достаточно было одной её.
Другой анекдот о другом медике рассказан мне моим тестем, Сократом Евгеньичем Васильевым, в 1853 г., как приключение, увеселившее его своею оригинальностью незадолго перед тем. Тесть мой в это время уже давно отказался от практики. Однажды он заехал к своим знакомым, как знакомый, а [не] как медик. В разговоре дошло дело до того, что малютка сын или дочь хозяев немножко страдает кашлем; рассказывая об этом, мать вздумала прибавить: «А взгляните, пожалуйста, Сократ Евгеньич, на лекарство, одобрите ли вы его»,— и возвратилась из детской с очень большою банкою. Тесть взглянул: в банке порошок, который даётся по половине чайной ложечки раза три в день. — А в банке было фунта 4 этого порошка. — «Что это такое? Да это целый аптечный запас!» — «Мы и сами удивлялись,— отвечала мать излечаемого порошком; — думали, что в аптеке отпустили по ошибке, посылали справиться; нет, говорят, столько прописано в рецепте». — «Да чей же рецепт? Кто лечит ребёнка?» — Хозяйка назвала фамилию врача. — Ну, понимаю, сказал тесть: медик, прописавший ребёнку целый аптечный запас, ездит по больным с рецептурною книгою,— на память не знает ни одного рецепта. На этот раз ему случилось взять такую книгу, в которой написаны для аптекарей пропорции, в каких следует брать ингредиенты обыкновеннейших лекарств, которые по беспрестанному их требованию аптекарь разом готовит себе [в] запас на полгода, на год. Медик совершенно не знал, что количество, им прописываемое, книга заготовляет на сотню больных, а не на одного.
Конечно, такой медик есть уже феномен, поражающий всякое зрение, и надобно сказать, что он не имел практики. Но Покасовский ничего, имел порядочную практику. [601]
Натурально, что при таких медиках не грех перед наукою было доверяться и фельдшерам,— и один из двух фельдшеров Мариинской колонии, часто ездивший в город, человек бойкий, приобрел себе в Саратове небольшую практику. Кто-то из знакомых привёл его к нам. Он сказал, что операции не будет нужно, что он знает и наверное вылечит болезнь. Но взявшись за дело слишком самоуверенно, он имел добросовестность поступить как следует, когда увидел, что сам не сладит, и стал рекомендовать своего медика. Медик не хотел иметь практики в городе, он ограничивался своею больницею, жил очень скромно, так что в 15 или 20 лет службы образовалось у него из жалованья сбереженье, тысяч до 10 ассигнациями (жалованье, по-тогдашнему, было хорошее),— и в это время он уже почти всё жалованье прибавлял к сбереженью, лежавшему в банке, ему почти доставало процентов с накопленного. Он был человек не жадный к деньгам, любивший спокойствие, очень скромный,— трудно было устроить, чтобы он взялся пользовать матушку, которая решилась переехать для этого в Мариинскую колонию. Священник в колонии, Иван Андреевич Росницкий, был брат одному из близких с нами городских священников; повидались, сговорились, и батюшка поехал с матушкою и со мною в колонию,— батюшка только проводить, мы с матушкою остаться у Росницких. Исследовав болезнь, Иван Яковлевич тотчас же сказал, что необходима операция и что он завтра же её сделает. Операция была сделана твёрдою рукою,— а рука была нужна твёрдая, потому что болезненные отложения, бывшие причиною опухоли, находились очень глубоко в теле, глубже, чем думал было Иван Яковлевич, и ему приходилось углублять нож по мере того, как он продолжал разрез,— пришлось бы плохо, если бы он не имел хладнокровия,— но нож дошёл до надлежащей глубины, и матушка была избавлена от главной причины своих страданий. Операция удалась превосходно. Но разрез был очень глубок, рана по своей огромности была тяжела, дня через два матушка [находилась] совершенно в том положении, как тяжело раненые, и ещё недели две надобно было пользовать её очень внимательно, при малейшей небрежности рана приняла бы дурной оборот. Иван Яковлевич пользовал внимательно. Сомнительны были первые четыре, пять дней,— после того уже не представлялось опасности. Но всё же оставалась нужна постоянная внимательность, и Иван Яковлевич оставался внимателен. — Слава богу,— слышал я через несколько дней,— вероятно, недели через полторы по нашем приезде и после операции,— сидя с Иваном Андреевичем в гостях у управляющего колониею, г. Хрущова: — слава богу, что Иван Яковлевич выдержал! — Обещался, и выдержал! А мы как боялись! — Это говорили и Иван Андреевич, и г. Хрущов, и его сёстры. — Что такое? — думал я. — А должно быть, что он обещался вылечить маменьку и вылечивает. — Нет, не то. ещё через несколько дней, когда матушка уж порядоч[602]но оправилась, Иван Андреевич объяснил ей и мне, слушавшему тут же, чего боялись и что обещал Иван Яковлевич.
Операция была сделана около рождества. Каждый год, около рождества, Иван Яковлевич пил запоем — месяц, недель пять. Начнись эта болезнь с ним, когда уже сделана операция, матушка была [бы] в опасности умереть от раны. Но он понадеялся, что выдержит, и выдержал.
Понятно было это другим и мне тогда: добросовестный медик, хороший и добрый человек, он имел силу подавить свою болезненную потребность, когда от этого зависела жизнь его пациентки. Но ещё понятнее мне стало это потом, когда я побольше узнал, что такое умственная жизнь, что такое жажда деятельности, что такое тоска не от неудачи в житейских расчётах, что такое радость человека, нашедшего интересную задачу для своей умственной деятельности.
Когда я рассказывал в Петербурге своим добрым знакомым, медикам, болезнь матушки и описывал форму болезненных отложений, образовавших опухоль,— они понимали меня, несмотря на необходимую сбивчивость слов человека, совершенно незнакомого с медициною, назвали мне эту болезнь, поправили мои неточности,— и поправили верно, как я увидел, когда их же слова напомнили мне черты, которых я сам не припомнил бы. Значит, эти медики сказали мне правду, что этот вид болезни известен,— они даже и видели примеры её,— два или три,— в громадной клинике здешней Академии и в громадных военных гошпиталях Петербурга. Но ведь эти медики из числа передовых людей науки,— как можно сравнивать их учёные сведения с сведениями, какие сохраняются у человека, прожившего 20 лет в Мариинской колонии? И притом, я говорил с ними через 15 лет после того, как была операция. В эти 15 лет медицина много ушла вперёд,— быть может, около 1840 года и она не знала того, что было известно в 1855 году. — Иван Яковлевич следил за наукою: Иван Андреевич Росницкий говорил мне тогда, что он выписывает медицинские журналы. Но какие? — И будто легко держаться в уровень с развитием теоретических знаний, когда живешь на половине пути из города Саратова в город Аткарск! Я хочу сказать этими словами тем из медиков, живущих в учёных городах, чтобы они не рисковали выводить заключений о степени любви Ивана Яковлевича к науке из того обстоятельства, что он в 1840 году не знал вида болезни, который назвали известным мои знакомые медики в Петербурге в 1855 году,— пусть не рискует выводить из этого, что у него было мало любви к науке, если не испытали, каково следить за наукою из глухого захолустья. — Итак, Иван Яковлевич не знал того вида болезненных отложений, которые нашёл в опухоли у моей матушки. Я и тогда, хотя был 10-летний мальчик, не мог не заметить удовольствия, с которым он через несколько дней рассказывал моей матушке, что он не знал того вида болезни, которым она страдала, что это новость для него, что это замечатель[603]ный случай, что он думает написать статью об этом новом, виде болезненных отложений, который ещё не был описан.
Понятно, что от этого разлетелась на время его меланхолия, и обошлось то рождество без запоя. И точно, Росницкие, наши хозяева, да и Хрущовы говорили, что Иван Яковлевич веселее обыкновенного. Они принимали это за радость человека, увидевшего, что может победить несчастную свою болезнь, которая отвратительна и унизительна в его собственных глазах,— за радость доброго человека, которому удалось избавить свою пациентку от тяжёлых страданий,— за радость медика, которому приятно, что станут теперь говорить о нём, как хорошем хирурге,— и конечно, всё это было; но кроме того была ещё радость учёного, нашедшего то, что не было известно.
Я пишу эту часть своих воспоминаний, как будто не думая о внутренней связи между ними, всё сплошь, как припоминается,— доскажу же и всё остальное, что я помню об Иване Яковлевиче.
Его фамилия была то же самое имя, которое послужило для его отчества,— Яковлев, потому что он был из Воспитательного дома, человек без рода и племени. В 1840 г. было ему лет 45. Он был немножко выше среднего роста, человек ещё крепкий здоровьем, но черты его лица уже приняли почти стариковский характер. В моих глазах вид старика особенно придавался ему медленною тихостью его походки, жестов, мягкостью голоса и причёскою его волос. Какая была эта причёска, я решительно не умею представить себе теперь,— совершенно забыл,— помню только, что он носил волоса довольно длинные, что они не были подстрижены сзади, не были взбиты кверху на лбу, и причесаны на висках квадратами, направленными к углу глаза,— тогдашняя причёска всего благородного сословия в Саратове,— причёска a la moujik, возбуждавшая через несколько лет такое же строго-нравственное негодование наших солидных людей, как ещё годами десятью позднее стали возбуждать такое же чувство таких же английских людей усы. И мягкость характера у него была до такой степени, какую чаще встречаем у добрых людей в старости, когда добрый человек уже совершенно понял ничтожность пустяков, из-за которых горячился прежде, и видит, что важно только одно: делать всё возможное для пользы других,— в этом только и есть настоящее удовольствие. Не знаю, замечали ль вы, что эта черта развивается с летами в добрых людях? Если нет, всматривайтесь,— моё замечание выведено из опыта. Иван Яковлевич [был] кроток чрезвычайно, был так добр, что я не слышал ни одного слова, кроме похвал ему, ни от кого из говоривших о нём при мне. А ведь они были тёмные провинциалы, то-есть люди, которые прослыли в обществе высших замашек страшными любителями злословия.
Но все в один голос хваля, в один голос жалели о нём. Он с давних пор жил с женщиною, которая была у него экономкою и кухаркою вместе. Конечно, его не только жалели бы, но и строго порицали бы, если бы это незаконное отношение было незаконным [604] по воле Ивана Яковлевича. Но его экономка была крепостная девушка какой-то госпожи какой-то далекой от нас, чуть ли не подмосковной губернии. Без позволения госпожи нельзя было повенчаться,— я сказал: «без позволения» — нет, по нашим нравам и общественному положению Ивана Яковлевича дело шло сначала вовсе не о «позволении» свадьбы со стороны госпожи. Иван Яковлевич уже дослужился до дворянства,— он был чуть ли не коллежский советник,— он и сам уж мог покупать крестьян и крестьянок, и чтобы дело имело совершенно обыкновенный вид, он просто писал госпоже своей экономки, не продаст ли она ему её,— тогда он отпустил бы свою крестьянку на волю, потом и повенчались бы. Госпожа не соглашалась продать,— по всему её образу действий видно, что она была честная женщина: она знала, в чём тут штука, и, по обыкновенному соображению, действительно справедливому в большей части подобных случаев, предполагала, что её крепостная девушка, отошедшая от неё на оброк очень давно, оказалась пройдохою, шельмою, которая опутала человека и хочет совсем загубить его законным браком с собою. Чуть ли и сам Иван Яковлевич не участвовал в возбуждении такого мнения у госпожи: кажется, он начал переписку предложением не купить девушку, а выкупить её на волю, и только уже получив отказ в этом, заговорил о покупке. А если он говорил о выкупе на волю, то уж из этого одного было бы ясно для госпожи, в каких он отношениях к её девушке. Но содействовал ли получению отказа на свою просьбу сам Иван Яковлевич неловкостью первой формы просьбы, или он имел осторожность не делать непрактичного предложения о выкупе и начал прямо с покупки, за это не ручается моя память; а твёрдо знаю я то, что [если] он сам не выказал госпоже сомнительную сторону этого дела, то раскрыли её перед госпожою его приятели. Разумеется, между отправлением письма о выкупе или покупке и первою мыслью об этом шло время, и вероятно не малое; разумеется, мысль не сохранялась в дипломатической таинственности,— если не беседовал о ней Иван Яковлевич с своим мариинским кружком,— а вероятно говорил: не говорить не в наших нравах,— то уж наверное рассказывала его экономка прислуге этого кружка, и прислуга кружку. Таким образом, госпоже послали предуведомление, что дело состоит вот в чём: ваша крепостная девушка опутала нашего (или моего) доброго знакомого, прекраснейшего человека, И. Я. Яковлева, имеющего большой чин, имеющего капитал в ломбарде, и хочет ещё стать его женою, дворянкою, барынею; как благородную женщину, мы просим (или я прошу вас) не допустить этого. — Госпожа и не допустила. — Какие были побуждения тех или того или той, кто послал предостережение? Дурных, своекорыстных не было,— за это я ручаюсь по общему тону разговоров об этом, слышанных мною; а вернее того ручается дальнейший ход. Могли тут играть важную роль общественные понятия, которые пусть называет дурными предрассудками кто хочет, а я считаю основательными,— понятия, не одобряю[605]щие неравных браков, склоняющие людей мешать им и без всякого личного расчёта, по требованию принципа, по искреннему убеждению в своей обязанности: дворянин женится на дворовой девушке (т. е. дворовой девке) — нехорошо, нехорошо («дворянин», это говорят дворяне; если же не дворяне, а только «благородные», то «благородный» женится, и проч.). — Вы считаете эти понятия основательными? вы, которого знают за человека радикального образа мыслей? — Считаю, и полагаю, что это не мешает мне иметь такой образ мыслей, какой я имею,— радикальный ли, другой ли какой, ещё менее похвальный и полезный,— полагаю, что это даже прямо вытекает из него, что это составляет сущность его: положение и отрицание всегда равносильны; кто мало или слабо признает, тот мало или слабо отвергает; а чем больше, тем больше. Вообразим себе, что мы с вами перенесены на остров Яву к народу, называющемуся баттами; теперь, эти батты не дикари,— как можно! — у них есть азбука,— они пишут друг другу письма, они пишут стихи, у них есть литература, не слишком богатая, но и не ничтожная. Но кроме любви к чтению и сочинению литературных произведений, у них есть любовь к кушанию человеческого мяса. Это делается хорошо, прилично. Общество собирается на обед чинно, благопорядочно, как европейцы на свои обеды; к мясу, по европейской кухне, требуется соус, по баттской — тоже; каждому сорту мяса особенно идёт свой особый соус,— к телятине — один, к баранине — другой — это по европейской кухне — и по баттской тоже. В том соусе, который лучше всего идёт к человечине, главная вещь лимонный сок, если не ошибаюсь. В настоящее время баттское образованное общество делится на две партии. Одна находит многие обычаи, многие понятия своей страны не совершенно основательными. Люди другой партии говорят, что неосновательно делить жизнь на две половины и объявлять: эта половина основательна, а эта неосновательна; они утверждают, что все явления их общественной жизни связаны, срослись,— мало сказать, срослись, выросли из общих корней, и не следует легкомысленно рассуждать об этом,— что каждое понятие вышло из общего понятия жизни; что каждый обычай основан на общем характере жизни. Представьте же себе, что мне и вам предложено решить спор этих двух партий по вопросу об обычае кушать человечину. Одна партия говорит: это можно выбросить из баттской жизни, как вещь негодную для неё. Другая возражает: извините, этот обычай основан на существенном характере баттской жизни. Что вы скажете, ведь баттские консерваторы правы, людоедство основательно в баттской жизни. Что из этого следует, другое дело. Из этого, по-вашему, следует, что вся баттская жизнь должна пересоздаться,— вся цивилизация измениться,— вероятно, так. Будет ли это? Вероятно. Но баттские легкомысленники ничего этого не знают, они не предвидят, что будут казаться своим детям полуварварами, своим внукам — дикарями, своим правнукам — людьми более похожими на орангутанов, чем на людей,— они не понимают этого, потому что [606] они варвары, хоть у них (или хоть у французов, немцев, у нас, всё равно,— это, по-моему, разница только в степени, а не в сущности) есть наука, литература, общественная жизнь и всё такое; если б они и понимали это, они не надеялись бы этого, потому что они ещё остаются баттами в душе и потому не чувствуют, что человек может быть не баттом. А мы знаем всё это, потому и рассуждаем о баттских обычаях не по фантазиям баттских легкомысленников, дробящих свою жизнь по своим малодушным фантазиям на основательную и неосновательную, а говорим: нет, у вас всё основательно, только ваши основания плохи; а пока они остаются, нельзя баттской нации не рассуждать и не делать так, как она рассуждает и делает.
Мешая Ивану Яковлевичу, человеку большого чина, дворянину, выкупить или купить крепостную девушку, кружок действовал, конечно, под влиянием основательной враждебности к неравным бракам; но по содержанию частых разговоров, слышанных мною, несомненно, что гораздо больше сословного чувства (дворянского в одних, вообще «благородного» в других) тут действовало искреннее доброжелательство к Ивану Яковлевичу. О нём говорили с действительным расположением, о нём жалели с искренним участием. Я теперь не могу отчетливо представить себе характер госпож Хрущовых, тогда уже почти старух, сестёр управляющего колониею[491],— тогда они казались мне добрыми женщинами, и, вероятно, это правда. По крайней мере, дети чиновников колонии,— и я вместе с ними,— играли и хохотали в гостях у гг. Хрущовых совершенно привольно,— а управляющий и его сёстры, были лица слишком важные в мариинском мире, и если бы госпожи Хрущовы были горды, или суровы, или хитры, или что-нибудь такое, детям подчиненных их брата не было бы такой весёлой воли у них. Однажды как-то было особенно много гостей, так что нас, детей, посадили обедать в другой комнате,— за столом в зале недостало места; 10, 12-летние мальчики, мы стали дурачиться, выпили по три-четыре рюмки и расшумелись из рук вон; никому из нас не было после никаких выговоров,— значит, хозяйки сказали матерям: это хорошо, что дети веселятся. Однажды вечером, когда мы играли одни, без старших, я столкнулся с другим мальчиком,— он остался невредим, но у меня вскочила большая шишка на лбу,— и это прошло без истории, только велели мне держать медную гривну на шишке,— это лучшее лекарство, как известно. Значит, г-жи Хрущовы были хорошие женщины. А фигура г. Хрущова, управляющего, осталась у меня в памяти очень ясным типом честного, прямодушного, открытого воина наших наполеоновских войн. Он был говорун, рассказывал множество всяких случаев из походной и непоходной [жизни], так что мне весело было слушать его. В моём воспоминании нет никакого повода к предположению, чтобы предупреждение госпоже экономки Ивана Яковлевича было послано кем-нибудь из семейства управляющего,— г. Хрущовым или его сёстрами, или чтобы хотя мысль об этом вышла от них; но они [607] знали об этом. Г-жи Хрущовы по всей вероятности, г. Хрущов без всякого сомнения были хорошие люди. Всё семейство очень уважало и любило Ивана Яковлевича. Если бы письмо к помещице было нехорошим делом или вредным для Ивана Яковлевича, оно и не было бы сделано,— управляющий наверное сказал бы: «нехорошо»; а против управляющего никто не пошёл бы. Итак, знакомые Ивана Яковлевича просили помещицу не принимать его предложения,— просили потому, что любили его, желали ему добра. Помещица исполнила их просьбу, без всякого сомнения, только потому, что была хорошая, благородная женщина. Это доказывается уж самым отказом её Ивану Яковлевичу. Ведь ясно было, что она могла бы взять с Ивана Яковлевича очень хорошую цену,— по крайней мере впятеро больше, чем стоит крепостная девка (тогда цена хорошей крепостной девки была 100 рублей ассигнациями,— 25-рублевая бумажка ходила за 6 рублей, за 6 рублей 20 копеек,— по этому курсу выходит, что цена хорошей, молодой, здоровой крепостной девке была в конце 30-х годов около 23 руб. сер.). Помещица жертвовала денежною выгодою чувству благородства, велевшему ей не допускать несчастия хорошего человека. Этого мало,— она показала свой характер делом, которое можно уже назвать не совсем обыкновенною вещью: она даже не захотела воспользоваться сведениями о драгоценности своей крепостной девки для Ивана Яковлевича, чтобы возвысить оброк. Эта уже черта действительного благородства.
Что ж за человек была эта крепостная девка, от женитьбы на которой был спасен соединением искренней любви к нему в его знакомых с довольно редким благородством помещицы [Иван Яковлевич]? Не была ли она, точно, дурная женщина,— или, что было бы гораздо эффектнее для рассказа, существо более или менее прекрасное и идеальное? Я её видел несколько раз. Она была уже немолода, некрасива,— не урод, а просто невзрачная, маленького роста женщина средних лет и такой степени некрасивости лица, какая найдется разве в 10 лицах из 100 лиц наших простолюдинок средних лет. Она одевалась очень не щегольски, как вероятно одевалась [бы] и тогда, если бы была просто кухаркою, а не хозяйкою у Ивана Яковлевича. Слыша очень много разговоров, исполненных негодования на неё за её отношения к Ивану Яковлевичу, я не слышал ничего дурного о ней. Не говорили, чтобы обижала Ивана Яковлевича,— а ей было бы очень легко обижать такого кроткого человека,— не слышал даже, чтобы она сколько-нибудь самовластвовала над ним,— значит, она была женщина доброй души, хорошего характера; когда я стал постарше, то мог сообразить, что в негодующих разговорах о ней всё-таки проглядывало, что она заботлива к Ивану Яковлевичу, привязана к нему; я не слышал, чтобы предполагали у ней особенные богатства,— а если б у ней в долгие годы жизни с Иваном Яковлевичем и накопилось хотя рублей сот пять ассигнациями (рублей хоть сотня с небольшим на серебро),— это уж никак не было бы [608] тайною и считалось бы богатством (по её званию крепостной девки), и это уж непременно выставлялось бы обиранием, обворовыванием Ивана Яковлевича; а утаивать деньги у такого доброго и простого человека было бы слишком легко, да и не понадобилось бы утаивать — очень легко было бы выпрашивать. Значит, она была женщина очень не своекорыстная.
Я даже не вижу оснований утверждать, чтоб она имела честолюбивый замысел повенчаться с Иваном Яковлевичем. Из этого не следует, что я хочу назвать напрасным опасение его знакомых,— нет сомнения, что они не ошибались, предполагая неминуемым последствием её покупки или выкупа им — женитьбу его на ней. Такой простяк и добряк не мог не кончить тем, чтобы жениться на женщине, с которою жил. Но ни из чего не видно, чтоб у него или даже хоть у ней, для которой эта мысль ближе, чем для него, было уже ясное представление о свадьбе, когда он хотел купить или выкупить её. Человеческие мысли идут постепенно: освобождение женщины, с которой живешь, обеспечение себя и её от разлуки по чужой воле — эта мысль достаточно натуральная, чтобы считать возможным её существование в голове человека без всяких других подпорок и расчётов, и достаточно важная, чтобы соображения останавливались на ней, не хватая дальше её, пока она не исполнена. А я не слышал ничего, показывавшего что-нибудь больше этой мысли в Иване Яковлевиче или в его экономке. Впрочем, я только говорю, что не было никаких признаков, чтобы в нём или в ней уже была отчетливая мысль о свадьбе,— а я уже сказал, что ею непременно кончилось бы дело, если б не помешали ему,— и нет ничего невероятного,— напротив, очень правдоподобно, что он и в особенности она уже очень отчетливо и твёрдо думали об этой развязке, когда такая развязка оказалась невозможною. — Но если принять это слишком правдоподобное предположение, что она уже готовилась к свадьбе, то уже решительно оказывается, что она была женщина добрая и хорошая; я не слышал, чтобы её называли озлобившеюся на расстройство приписываемого ей замысла,— а называли бы, если бы она особенно приняла это к сердцу,— а не браниться, не выходить из себя от подобной неудачи могла только женщина очень добрая.
И вот уже давно Иван Яковлевич и она сожительствовали под запрещением свадьбы, и хотя их связь оставалась незаконною,— вернее сказать: преступною, постыдною для него, позорною для неё,— но не они сами были причиною того, что отношение их оставалось в такой предосудительной незаконности,— оно оставалось таким по препятствию, конечно, спасительному для Ивана Яковлевича, положенному другими; и хотя эти другие положили препятствие с чистой совестью, но та же самая совесть и воспрещала им строго порицать Ивана Яковлевича за незаконность, которую наложили на него они же сами. А весь кружок предварительными разговорами и последующими одобрениями принимал участие в наложении и сохранении запрещения, потому никто из [609] кружка и не порицал, а только все жалели Ивана Яковлевича, как я уже и сказал.
Жалели,— но сожаление было давнишнего начала, стало быть, уже успокоившееся, притерпевшееся, привыкшее к прискорбному факту, примирившееся с ним, дремлющее, говорливое, но бездейственное. Иван Яковлевич и его экономка жили, уже не тревожимые никем, никак. Так и шло время уже сыздавна, до операции, которою Иван Яковлевич спас мою матушку.
Операция эта всколыхнула, освежила жизнь самого Ивана Яковлевича,— так освежила, что даже пропустилось время болезненного ежегодного приступа его меланхолии. Несколько недель он мечтал,— о работе для науки, наверное,— об известности, может быть. Конечно, умный, очень немолодой, давно остывший до дремоты человек не будет долго обольщаться натолкнувшимися на него мечтами. — Мариинская колония — в 40 или 45 верстах на север Аткарск, в 45 или 50 верстах на юг — Саратов, на запад и на восток — чистое поле, бесконечные расстояния,— при такой определённости местоположения скоро очнешься, то-есть задремлешь. Внутренняя жизнь Ивана Яковлевича вошла в прежнюю колею.
Но внешняя его деятельность не воротилась в неё, и мысли других о нём, выведенные из прежних сонных отношений бездейственного сожаления, уже не могли успокоиться.
Наше семейство не принадлежало даже и к среднему кругу губернского почета и блеска,— куда же, помилуйте! — но всё-таки, ведь многие из далеко высшего нас среднего провинциального круга знали нас, а должностным образом батюшка мой имел отношения и к самой высшей знати,— в Сергиевском приходе жило несколько помещиков из числа важнейших между жившими в Саратове, а не в Петербурге, жил сам губернатор, кроме того, батюшка был благочинный, а при свадьбах очень часто случается надобность в каких-нибудь объяснениях с благочинным: или у жениха недостаёт какого-нибудь документа, или надобно хлопотать о том, вышли ли лета невесте (т. е. исполнилось ли 16 лет). Поэтому не совсем же не знал город,— то-есть «благородный» город,— что моя матушка — больная женщина, сильно страдающая, что ничем не могут пособить ей саратовские медики,— а когда произошла операция, то и вовсе заговорили довольно много, что вот, жена благочинного была так больна, и что вот каким хирургом оказался медик Мариинской колонии. Говор был не очень громкий, потому что мы не были важные люди, но всё-таки был. А наше семейство, конечно, стало чуть ли не молиться на Ивана Яковлевича, веровать в него, и особенно матушка настоятельно требовала, чтобы больные знакомые, не находившие помощи от других медиков, обращались к нему — он спасет. По её убеждению, знакомая ей советница убедила мужа отправить в Мариинскую колонию сына, 10-летнего ребёнка, у которого от ушиба во время игры стали гнить кости ноги, ниже колена, и гнили, и вываливались кусочками, с нестерпимыми постоянными страданиями,— это лечение, вероятно, было действи[610]тельно трудное, вероятно, действительно требовало большого искусства от медика,— гниение костей уже очень давнее, очень развившееся,— Иван Яковлевич быстро сладил с ним, и нога ребёнка совершенно исцелилась, выгнившие части костей стали зарастать хрящом, и ясно было, что не останется никаких следов несчастья в ребёнке. Стали являться пациенты к Ивану Яковлевичу в Мариинскую колонию,— ещё немногие,— но всё-таки уже стало так, что не переводились эти саратовские гости в Мариинской колонии,— бывало в одно время уже и по-двое, может быть и по-трое. Конечно, исключительно только уже очень тяжело больные, отчаявшиеся получить облегчение от городских медиков. Об Иване Яковлевиче ещё не кричал Саратов, но уже знал его, и с каждым месяцем хоть медленно, но постоянно росла его известность.
Саратов, конечно, не соображал, что жизнь Ивана Яковлевича должна измениться от этого, да ещё и очень мало думал о нём. Ивану Яковлевичу было спокойно и привычно в Мариинской колонии, денег ему не было нужно,— до такой степени, что он не соглашался брать их от своих больных,— он ни за что не захотел бы переселиться в Саратов. Что ж особенное может произойти с ним оттого, что некоторые из тяжело больных стали уезжать лечиться к нему? — Хлопоты над ними, но приятные для него, служащие благородным развлечением; несколько семейств в Саратове очень привязались к нему, все зовут его к себе в гости,— поэтому он стал — очень изредка — приезжать в Саратов; все, к кому приезжает, принимают его с почтением и признательностью,— тоже развлечение, и тоже приятное. Больше ничего не могли сообразить саратовцы, начавшие знать его.
Но если ни для Саратова, ни для самого Ивана Яковлевича не было ещё тут ничего чрезвычайного, то для Мариинской колонии перемена не могла пройти так легко. Там давно привыкли было видеть Ивана Яковлевича распределяющим своё время известным образом,— положим, проходящим из больницы прямо в свою квартиру; теперь он шёл из больницы к больному и возвращался домой не в 11, а в 12 часов. Привыкли было смотреть на него известным образом и не знать о нём ничего нового; теперь он доставлял много новостей: через него являлись новые лица — больные и сопровождающие их здоровые; они разговаривали об Иване Яковлевиче, им надобно было рассказывать, объяснять его жизнь, привычки; и на него, вносителя новостей, нельзя было смотреть по-прежнему. Кто он был прежде? — «Наш добрый Иван Яковлевич, который хорошо лечит нас»,— а теперь «наш Иван Яковлевич знаменитый доктор; как же? — приобрел славу». Стало быть, пришлось в десять раз больше прежнего говорить об Иване Яковлевиче, гордиться им, хвастаться им, перетолковывать о нём, передумывать о нём,— словом сказать, возобновился и возродился «вопрос об Иване Яковлевиче», давно было сданный в архив.
Общественная мысль мариинская, при некоторой помощи малой частицы общественной мысли саратовской, начала работать над [611] этим вопросом,— под дружными усилиями разрабатывавших его он стал скоро проясняться,— и было решено единогласно, что возможно одно решение и что оно необходимо: Ивану Яковлевичу надобно жениться.
С точки зрения абстрактного разума, отвлекшегося от опоры в условиях местности и эпохи, нельзя увидеть никаких оснований для необходимости такого решения. В абстрактной аргументации этот вывод был даже несообразен с некоторыми важными данными. Иван Яковлевич был человек уж немолодых лет,— полагаю, около 45, может быть и под 50,— а вид и манеры у него были ещё более пожилые, совершенно стариковские; он был столько же похож на людей, вид которых в абстрактном разуме может сочетаться с понятием «жених», сколько овца походит на сокола или сколько курица на арабского скакуна. Отвлеченный разум, находя совершенную субъективную непригодность Ивана Яковлевича к такому результату, нашёл бы объективную невозможность для него: понятие жениха предполагает понятие невесты, а в мыслях кружка, решившего женить Ивана Яковлевича, не было ни тени представления о какой-нибудь невесте для него.
Да, это последнее обстоятельство самое странное во всем деле. В провинциях ли мало девиц и вдов? И когда бывает, чтобы люди, хлопочущие женить человека, не заботились собственно о том, чтобы пристроить какую-нибудь родную ли, знакомую ли, девицу или вдову? — Это очень редко бывает, но тут было именно так; и хоть в Саратове были сотни невест, но мариинское и сочувствующий его заботам очень маленький кусочек саратовского общества решительно не имели не только в своём составе, но и до крайних пределов своего свадебного горизонта никакой ни родственницы, ни знакомой в кандидатки для сватанья за Ивана Яковлевича.
Но это ничего, невеста найдется,— справедливо рассуждали друзья Ивана Яковлевича: невесте как не найтись! — Мало ли невест в городе? Сила не в этом, а в том, что не уломаешь искать невесту, пока он живёт с этой девкой. Эта недостойная связь так его опутала, что где же ему думать о женитьбе? Надобно избавить его от этой девки.
И что же вы думаете? — Опять было послано письмо к помещице. — «Связь с вашей девкой спутала человека, мешает ему составить приличную партию, между тем как теперь его уважает весь город, и он мог бы выбрать себе прекрасную партию. Обращаемся (или обращаюсь) к вам, как благородной женщине: спасите нашего доброго, прекрасного, благородного Ивана Яковлевича из рук этой твари». — Я не помню, кто написал это письмо и прежнее письмо, одна ли рука писала оба письма, или две разных руки,— я слышал это, но забыл,— не погрешил перед историческою точностью тем, что забыл: не стоило помнить, как не стоило помнить того, кто из саратовских маляров красил наш деревянный забор,— оба эти дела были такие, что многие другие люди совершенно так же могли исполнить их. Все находили хорошим, что наш забор выкра[612]шен, все находили, что он выкрашен как следует,— одобряли,— но никто не видел ровно ничего особенного в том, что забор выкрашен, и не считал замечательным художником того маляра, который имел способность исполнить это дело,— дело честное и хорошее.
Серьёзно, успели ли вы стать на ту точку зрения, что отправление этих писем было делом вовсе не дурным,— нет, хорошим, благородным; что это делалось с чистою совестью, по чистым побуждениям, из искреннего расположения к Ивану Яковлевичу, с твёрдою уверенностью оказать ему важную услугу, принести большую пользу? — Если вы не в состоянии понять этого, то знаете ли, как вы должны смотреть на эти мои записки? — для других и для меня самого это произведение не важное; а для вас оно должно иметь такую цену, какую имел в своё время для всех трактат Коперника: для вас, значит, я открываю тайны мироздания, показываю вам, что жизнь движется вовсе не так, как вы полагали, а совершенно другим манером. О, если бы масса вредного и дурного делалась дурными людьми с целью вредить,— о, как было бы тогда хорошо на свете, потому что как мала была бы эта масса! Всю бы её можно одному, каждому из нас захватить в горсть и забросить в сор, чтобы не оставалось её ни на чьем жизненном пути.
Но, будучи хорошим, чистым делом, отправление письма с этою просьбою не было таким делом, которое уже само по себе давало право на имя замечательного, благородного человека тому или той, кто сделал его. Услуга другу, не требующая пожертвования со стороны делающего её,— это ещё не бог знает какой высокий подвиг. Очень может [быть], что человек, сделавший это, был очень хороший человек, но очень может быть, что он был и просто обыкновенный недурной человек, каких во всякой сотне бывает 70 или 80 человек. Но помещица как прежде показала себя действительно благородной женщиною, которая для пользы другого, даже вовсе незнакомого ей, готова забыть свой денежный расчёт, так и теперь. Она вызвала к себе экономку Ивана Яковлевича, объявив, что не хочет дольше позволять ей ходить по оброку. Она для спасения человека от дурной, вредной ему женщины жертвовала доходом, который получала от этой женщины. Прежде помещица являлась нам человеком, который не хочет пользоваться особенностью и благоприятностью случая для получения особенных выгод; это черта не совсем дюжинная; теперь она отказывалась от обыкновенной, уже получавшейся выгоды, чтобы сделать пользу человеку совершенно чуждому ей,— это уж очень и очень недюжинная черта. Вызываемая девушка не была нужна ей; она теряла оброк и должна была кормить бесполезную ей женщину.
Я не знаю, как пошла жизнь этой вызванной девушки, много ли она убивалась — вероятно; но, разумеется, о ней не было никаких слухов. А Иван Яковлевич был совершенно расстроен,— тосковал, тосковал, и однажды слуга, подавший ему бриться, уви[613]дел его лежащего облитого кровью, с перерезанным горлом, когда вошёл через полчаса; слуга закричал,— побежали за фельдшерами, фельдшера нашли Ивана Яковлевича ещё дышащим, перевязали рану,— рана оказалась не смертельна,— через несколько времени [он] уже сам помогал своим помощникам залечивать её. Скоро он выздоровел, опять занялся больницею, больными; говорил, что очень доволен, что не удалась его попытка зарезаться, что ему самому смешна она,— бывал, по прежнему, в гостях,— приезжал в Саратов,— был у нас,— наши не заметили в нём ничего, показывающего отчаяние,— но через два, три месяца после этого свиданья мы услышали, что он опять перерезал себе горло бритвою, и на этот раз уже смертельно.
Это история, дошедшая до чрезвычайной развязки, которая придала ей необыкновенность. Но бесчисленное множество обыденных историй страдания, происходивших около нас, производило впечатление того же смысла. Не злые люди, а добрые, хорошие бывали причиною большей части тех бед, свидетелем или слушателем которых я был в детстве. И, конечно, это очень сильно подготовило меня к тому понятию о страданиях людей, которое с полнейшею точностью олицетворилось для меня следующим происшествием.
В 1851 году, в самом конце зимы, я отправлялся в Саратов; нашлись попутчики,— двое приятелей, из которых у одного была порядочная зимняя повозка. Отлично. Мы поехали. В дороге я подружился с моими попутчиками,— одного я и прежде несколько знал, как отличного человека, другой оказался добряком, простодушие которого неимоверно. Вот, и ехали мы очень довольные друг другом, занимаясь всяческими росказнями и шутками. Я сидел,— то-есть лежал в отличном спокойном повозочном положении, с правого краю, двое приятелей занимали точно такие же положения, один посредине, другой на левом краю повозки. Выпадал маленький сырой снежок. Мы застегнули фартук повозки и ехали себе, весело болтая. Вдруг,— хлоп! — повозка на бок, на левую сторону; лошади — смирные, хорошие, на том же шагу остановились,— я увидел себя составляющим верхний слой трёхъярусного общества и очень удобно вылез в широкую щель между фартуком и верхним боком повозки. Но мои спутники расположились не так удачно: «Дмитрий Иванович! Григорий (или Николай, не помню теперь) Александрович! вылезайте же! Что же вы?» — кричал я со смехом. — «Не могу вылезать. Режьте фартук!» — отвечал глухим голосом, один из двух друзей моих спутников; другой вовсе не подавал голоса. Фартук поочередно натягивался двумя поперечными полосами, далеко не доходившими до верхнего края. Я, слуга одного из моих спутников, ямщик хватились по карманам — ни у кого нет ножа. Принялись отстегивать фартук — застежка длинная, крепкая, кольцо тоже крепкое, фартук тяжело натянут наискось,— вся тяжесть, давящая на него, притянула кольцо в глубину застежки, не можем отстегнуть! — мы рвать фартук,— но [614] куда же? — такая здоровенная кожа, попытка рвать была чисто только уже выражением нашего отчаяния отстегнуть,— опять принялись отстегивать,— «скорее, скорее, удар будет! задушу!» — изредка с усилием произносил один из зафартучных моих спутников, задыхаясь на каждом слоге. Другой так и вовсе не подавал голоса. Долго мы бились — наконец, кто-то из нас,— кажется слуга,— изловчился,— кольцо шмыгнуло по застежке, фартук отлетел,— мои спутники благополучно вывалились на снег, живы, здоровы и целы,— что они здоровы и целы, этого и нельзя было ожидать иначе: ушибиться не было возможности,— но продлись история ещё две минуты, один наверное оказался бы задушен. В минуту падения повозки среднему случилось встряхнуться таким манером, что он повалился головою к низу,— ноги его были прижаты фартуком, а плечами он навалился прямо на лицо нижнему,— нижний всею своею тяжестью давил на фартук, на него самого всею тяжестью давил верхний,— воротник шубы нижнего закутывал ему лицо,— в том числе и рот, и нос,— этот душильник был отлично придавлен корпусом товарища,— руками не мог пошевелить ни тот, ни другой, они были между фартуком и боками своих владельцев, только ноги верхнего двигались по фартуку, изменяя направление его натянутости и заставляя кольцо вырываться из руки отстегивающего.
Вот вам в живой картине экстракт отношений, от которых происходит более 99% человеческого страдания: отличный человек без всякого дурного умысла навалился на другого, которому нимало не желает вреда, и сам едва не задыхается от отношения, которое душит того.
Либерал говорит: «Да, дороги плохи; ухабы, раскаты; натурально, что при таких дорогах сани и повозки опрокидываются. Гнусные дороги, надо сравнивать ухабы и раска[ты]». — «Рассудите, пожалуйста, возможно ли это? — отвечает консерватор: — достанет ли человеческих сил выровнять сотни тысяч верст наших зимних дорог? не достанет; и ведь через неделю после выровнения, с первым новым снегом, с первою новою оттепелью или вьюгою опять были бы точно такие же ухабы и раскаты. Закон природы, сущность вещей, непреоборимые вечные силы натуры,— хорошо или дурно, но неодолимо, неотвратимо, неисправимо. Бороться против непреоборимого — значит только напрасно изнуряться и делать новые, лишние беды себе и другим; вооружаться против законов природы — значит только показывать дешёвое умничанье, которое свидетельствует лишь о легкомыслии и поверхностности занимающегося им».
Правду говорит либерал, что зимние дороги имеют очень плохую свою сторону в ухабах и раскатах; правду говорит консерватор, что с этою плохою стороною их трудно справиться,— неизвестно, мог ли [бы] одолеть её весь народ, опрокидывающийся на зимних дорогах, подобно нам,— а уже совершенно бесспорная вещь, что мы втроем никак не могли выровнять нашу дорогу,— [615] но… но дело в том, что дело было вовсе не в том. Отводы у нашей повозки были, как видно, недостаточно широки,— от этого она повалилась, и если бы кто-нибудь из нас троих догадался посмотреть на отводы, да догадаться, что они не достаточно широки,— за 5 коп. в две минуты подвязали бы к ним куски старых оглобель, и повозка не могла бы опрокинуться, и не пришлось бы одному прекрасному человеку, задыхаясь самому, душить другого. Что тут рассуждать о законах природы,— просто мы не догадались, только.
Я объяснил, отчего, по моему рассуждению, сильно подготовленному впечатлениями, происходят беды и страдания людей; но ещё не объяснил, отчего по рассуждению саратовцев моего времени происходит запой. Это объяснение тоже немудреное: «под сердцем» у человека заводится «особенная глиста, вроде, как бы сказать, змеи», и «сосет» ему «сердце»,— но когда он пьёт, часть вина попадает в рот змеи; нужно очень долго обливать, её вином, чтобы она опьянела,— наконец, она опьянеет,— и надолго, очень надолго; тогда, разумеется, страдание проходит,— ведь она лежит пьяная, не сосет сердца, и надобность в вине минуется для человека до той поры, когда хмель змеи,— через несколько месяцев,— проходит: тогда опять надобно пить. Замечательным подтверждением этому приводилась догадливость одного страдавшего запоем купца: он рассудил, что чем крепче напиток, тем скорее усыпит змею,— и попробовал, когда пришло время запоя, начать стаканом самого крепкого рома: змея опьянела с одного стакана,— а сам он ещё остался трезв, потому что был здоровый,— и надобность пить исчезла. Но, опьянев так быстро, змея и опьянела не так надолго, как от долгого обливания водкою; через неделю опять начала сосать сердце. Он опять выпил стакан рому, и опять успокоился. Таким образом, благодаря, своему уму, он отделывался от запоя несколькими стаканами рома в год. Саратовцы буквально поняли два выражения: о тоске, «змея сосет сердце»,— и о рюмке водки перед закускою: «заморить червяка»,— свели оба выражения в одно, получили полное объяснение причины запоя и удовлетворились.
Итак, если бы Матвей Иванович пил запоем, это было бы горе, но не грех и не стыд; но он не пил запоем, а просто пьянствовал. Напрасно плакалась жена, напрасно усовещевала прабабушка (моя,— как именно была родственница ему, не умею сказать в точности; вероятно, двоюродная тётка,— он звал её тетушкою, мою бабушку сестрицею). Но неизвестно почему, он исправился,— и уже совершенно перестал пить, стал человек примерно строгой жизни. Но если Александре [Павловне] стало легче в нравственном отношении, то в материальном не произошло большого облегчения нужды: Матвей Иванович всё своё небольшое жалованье продолжал по прежнему обращать на покупку вина,— купит, и приводит к себе пьяниц, самых обнищавших и беспутных, и угощает их,— а сам ведь уж ничего не пьёт. [616]
Александра Павловна бедствовала по прежнему, прабабушка,— тогда Матвей Иванович был на квартире у неё,— бранила, изумляясь такой странной манере тратить деньги. «Приятно, что ли, тебе с ними? — говорила она,— ведь на них смотреть гадко». — «Гадко, тетушка»,— отвечал Матвей Иванович. — «Так что же ты на них убиваешь все деньги?» — «Тетушка,— отвечал Матвей Иванович,— кабы вы знали, какое мучение пьянствующему человеку, когда у него нечего выпить, вы не удивлялись [бы] и не осуждали. Это такое мучение, тетушка, которого и представить себе нельзя,— я испытал его, знаю, потому и не могу удержать своей жалости: очень они мучатся». — Этот период жизни Матвея Ивановича кончился ещё до моей памяти, и я знаю его только по рассказам; бабушка, которая была очень строга к пьяницам, передавала, однако же, ответ Матвея Ивановича печальным тоном такого серьёзного убеждения в его справедливости, что и у меня, ребёнка, щемило сердце: верно, в самом деле, большое мучение испытывают бедные пьяницы, когда бабушка произносит ответ Матвея Ивановича таким голосом и не повторяет в конце замечания, которое делала в начале, что Матвей Иванович поступал безрассудно, тратя на вино пьяницам деньги, когда жене было почти что нечего есть,— верно, и сама бабушка разжалобилась.
Но по мере того, как время сглаживало живость воспоминания о собственном мучении в период пьянствования при недостатке вина, ослабевала и расточительность Матвея Ивановича на покупку вина пьяницам. На моей памяти Матвей Иванович уже не имел заметного обычая угощать их,— я знал только, что иногда он приводит к себе пьянчужку, которого увидит на улице в особенно несчастном состоянии, даст ему выпить рюмку, две, долго увещевает его и отпускает. Но это случалось изредка, так что самому мне не привелось ни разу быть свидетелем такого случая.
Конечно, когда Матвей Иванович перестал расточать все деньги на пьяниц, Александра Павловна должна была терпеть менее нужды, чем прежде. Но это лишь умозаключение,— и справедливое,— а не то, чтобы наблюдение: Александра Павловна продолжала жить так скудно, что, глядя на её жизнь, я не мог бы предположить, что прежде она жила ещё скуднее,— я только не мог сомневаться в очевидной справедливости рассуждений бабушки и других старших, что прежде Александре Павловне было ещё хуже.
Ко всему, что я говорил о Матвее Ивановиче, привязывалась заметка о печальном влиянии его действий на судьбу Александры Павловны; этим я только сохраняю своему рассказу колорит, какой имели впечатления, полученные моим детством от особенностей Матвея Ивановича: я не слышал ни одного серьёзного разговора о нём между своими старшими и родными, веденного иначе, как с той точки зрения, каково отзываются его особенности на судьбе его жены. [617]
Не она, а он был родня нам. Она была женщина и не нашего круга. Мы не были ни от кого зависимы, но и никто из моих старших не был в близких прикосновениях с богатыми или знатными. Александра Павловна была воспитанницею какой-то графини, не только знатной, но и очень богатой; ни фамилии этой графини, ни каких подробностей о ней я [не] знаю и, кажется, никогда не слыхивал. Очень вероятно, что жизнь Александры Павловны в доме графини была обыкновенная незавидная жизнь воспитанниц богатых помещиц,— иначе, как же бы выдала её графиня за ничтожного, вероятно, тогда ещё и бесчиновного и просто канцелярского чиновника? Но всё-таки, как бы ни стеснительна была жизнь воспитанницы, это была жизнь в богатом барском доме, в котором вообще обстановка была не та, какая привычна была моим старшим и их родне. После я увидел, что из дома графини Александра Павловна вынесла две привязанности, из которых одну просто хвалила моя бабушка, а другую считала несколько неприличной. Эту порицаемую бабушкою привязанность Александры Павловны составляли комнатные собачки. У Александры Павловны постоянно была семья их — мать с детьми; иногда и щенки достигали преклонных лет, но большую часть времени взрослое поколение состояло из немногих особ,— двух или даже только одной, окруженной молодёжью; Александра Павловна вероятно дарила своим знакомым подраставших и выученных воспитанников, потому что кормить их составляло бы уже стеснительный расход; но каким бы способом она ни расставалась с ними, разлука с каждым наверное была для неё не совсем легка, потому что они действительно были её воспитанники и воспитанницы: она ухаживала за своими собаками с нежною, неусыпною заботливостью и сама учила всему, что нужно в их звании; она даже была уверена,— и я не поручусь, что она обольщалась мечтою,— что её собачки умеют кланяться гостям по её приказанию,— мои старшие не могли заметить, чтобы они действительно кланялись, когда Александра Павловна с добродушною радостью указывала на то, что они кланяются,— поэтому и я не замечал, чтобы действительно были поклоны,— мои старшие потом между собою посмеивались иногда над этою мечтою,— посмеивался и я вслед за ними; но — почему же знать, быть может, мы не видели только потому, что были расположены не видеть? — По мнению Александры Павловны поклоны её собачек гостям состояли в тех самых поклонах, какими мы приветствуем друг друга,— в лёгком наклонении головы,— свободном, без всякого раболепства, только с учтивостью, а не в каких-нибудь собачьих штуках, которым учат дрессировальщики, учащие собаку быть подлым шутом. Нет, Александра Павловна любила своих комнатных собачек не так, как любят причудницы, которым комнатная собачка служит куклою, потешницею капризов или предметом глупой сентиментальности,— она была привязана к своим комнатным собачкам тою неподдельною и не экзальтированною любовью, какую я в детстве имел и теперь имеют мои [618] маленькие племянники и сынишка к нашим дворовым собакам: это добрые собеседницы, с которыми говоришь от души, товарищи, приятели. Бабушка находила, что держать собак в комнате неприлично; другие мои старшие — её дочери и зятья — конечно, этого [не думали], но сами чуждались такой привычки; матушка даже не любила комнатных собак; другие не имели природного нерасположения к ним. После я, конечно, понял, [что] манера иметь комнатных собачек, чуждая нашему кругу, зашла в него с Александрою Павловною из барской жизни. Но если мои не сочувствовали этой её привязанности, подсмеивались над её крайностями, вроде мечты об уменьи собачек кланяться гостям, то все симпатизировали другой привязанности, которая ещё более занимала собою Александру Павловну,— её страсти к цветам. И при жизни мужа, когда деликатная Александра Павловна не хотела делать того, что не соответствовало его понятиям о виде комнат, у неё было занято цветами всё то пространство маленьких комнат, которое можно было занять ими без нарушения обыкновенного [порядка]: средина комнаты должна быть свободна, и не должны быть ничем замаскированы стулья, диван; углы комнат, промежутки между мебелью, всё было наполнено горшками цветов. А когда Александра Павловна осталась вдовою, хозяйкою своих комнат, то её домик весь наполнился цветами. Это было, уже когда я жил в Петербурге. Когда я заходил к Александре Павловне в 1861 году, цветов было много,— больше, чем я видел при [Матвее] Ивановиче; но Александра Павловна уже жаловалась на то, что ей изменяют силы, что в последнее время недостало их на уход за столькими цветами, сколько было у неё прежде,— многие погибли оттого, что она не могла заботиться о всех как следует. Такая сильная страсть к цветам, конечно, дело натуры; но вероятно много тут значили и воспоминания первой молодости, оранжерей, зала, устроенного зимним садом. — Вероятно, я не пускаюсь в слишком тонкие соображения, думая видеть в обеих особенных привязанностях Александры Павловны следы её молодости, проведённой хоть и скудно, и стеснённо, но в богатом барском доме. Но и теперь следы этого я могу отыскивать в её известной мне жизни только по соображению: сама она никогда не пускалась в эти воспоминания, и мои родные тоже не обращались к ним, когда говорили о ней. Уж по одному этому можно было бы сказать наверное, что Александра Павловна была очень хорошая и благородная женщина: пышность, блеск, из какого бы тёмного и дрянного уголка ни видели мы их близко, так заманчивы нашему тщеславию и всем пошлым нашим качествам, что лишь очень хорошие люди не имеют слабости как-нибудь нет-нет, да и припомнить что-нибудь в таком роде, что дескать пышная обстановка мне знакома. А если не только мне не случалось слышать таких воспоминаний от Александры Павловны, но и мои родные не занимались ими, то, значит, и они не слышали их от Александры Павловны и тогда, когда они были свежее в ней. [619]
И действительно, Александра Павловна была очень благородная, почтенная женщина. Все мои близкие и дальние родные говорили о ней всегда только с уважением и похвалою. Бабушка была охотница бранить людей — это ей не порицанье, потому что она и в глаза резала такие же приговоры, какие делала за глаза,— и подле неё, старушки, не мало было пересудов, так что дочери очень часто держались в стороне от её разговоров, а зятья возражали ей,— один, дядя мой, основательными, подробными объяснениями, что осуждаемый или осуждаемая вовсе не так дурны,— другой, мой батюшка, почти только общими замечаниями: «матушка, ну, что так строго говорить о людях». — и, конечно, бывали в нашем кругу, особенно в комнате бабушки, собеседники и собеседницы, не уступавшие ей критическими наклонностями,— но и от самой бабушки я не слышал, кроме порицания комнатных собачек, ни одного слова об Александре Павловне, сказанного иначе, как с уважением и расположением, ничего кроме похвал и сочувствия.
И она стоила их. Например, она была близка к двум очень богатым семействам; с нею советовались в затруднительных семейных делах; за нею присылали, как что-нибудь случится в семействе,— какая-нибудь размолвка, или занеможет ребёнок,— ей поручали детей, когда уезжали на несколько дней в деревню,— она была для этих очень богатых семейств, совершенно посторонних ей, тем, чем бывает для богатых людей бедная, но живущая своим особым хозяйством родственница, которая старше летами, опытнее нестарых людей в этих семействах и просто умнее равных ей летами. Это — прибежище и помощь всегда, когда нужна, и ненужное лицо, когда ненужна. Я не полагаю, чтобы эти семейства были особенно скупы, но, получая на каждой неделе сотню услуг от Александры Павловны, они не производили никакого заметного улучшения в её быте; значит, она держала себя так, что они и не думали о её нуждах,— знали, что она женщина бедная, но не имели случаев вспоминать об этом. Она любила рассказывать о жизни этих семейств, но её подробные рассказы были рассказы, какие каждый любит делать о людях, к которым расположен: она готова была целый час толковать, как, например, собирались NN в деревню, как доехали до деревни, какие поправки делаются теперь в их городском доме, пока их нет, как раскашлялась маленькая дочь, как опасались, не скарлатина ли это,— и всё бесчисленное и бесконечное прочее, что так занимает искренних друзей и что решительно непригодно ни для каких пересудов. Не только ничего похожего на сплетню не было в её собственных словах,— и другой никто не мог извлечь из них никакого материала для сплетни. Но можно было извлечь из них,— хоть до этого она не думала касаться, что она, бедная, держит себя в этих богатых домах чрезвычайно благородно, как очень немногие умеют быть и не заносчивы и почтенны в подобных отношениях. Надобно ли после этого говорить, что она никогда не жаловалась на мужа? — Женщина [620] умная и очень рассудительная, вовсе не притворщица, не охотница хитрить, она не старалась притворяться, что не понимает нелепости его поступков или не чувствует на себе вред их. Но она никогда не заводила разговора, никогда [не] вдавалась в него, если он начинался без её воли, и все понимали, что для неё такой разговор неприятен, потому не пускались при ней в суждения о Матвее Ивановиче,— разве подведёт невзначай к этому вообще разговор о житейских делах,— тогда Александра Павловна неохотно и в мягкой форме выражала мнение, что Матвей Иванович поступает странно и нерасчётливо.
А даже и мне, ребёнку, видно было по лицу Александры Павловны, что Матвей Иванович плохой семьянин. Александра Павловна была женщина высокого роста, крепкого, стройного сложения, с правильными чертами лица,— следовало бы, чтобы она была хороша собою. В то время, когда начинается моя память, ей было лет 35, может быть 40,— но это ничего. Анна Ивановна,— младшая сестра моей бабушки,— была старше, вероятно, годами пятью, и я ещё помню её с молодым, очень красивым лицом. При том образе жизни, какой вели мы и наши родные, женщины очень долго сохраняют моложавость,— особенно, когда у них нет детей; а у Александры Павловны не было детей. У моей матушки было двое детей; она была очень долго очень больною женщиною,— лет десять,— и потом, после операции, о которой я рассказывал, хотя очень поправилось её здоровье, но всё-таки осталась довольно хилою; а когда она провожала меня в Петербург, в университет, на постоялых дворах меня иногда принимали не за сына, а за мужа её, и не высказывали замечания, что жена стара для мужа,— вероятно давая мне лет за 20, и ей давали лет 25, хоть ей было 42 года. Александра Павловна не была на моих детских глазах красива собою не потому, что ей было 40 лет, а потому, что цвет её лица был не тот, при котором женщина сохраняет красивость дальше молодости. Никто из нас и наших родных не принадлежал к людям с состоянием, все жили очень скромно, и женщины моих родных семейств принимали очень много участия в домашних работах. И Александра Павловна не сама была стряпухою и поломойкою,— у ней была служанка, пожилая девушка. Но видно, что всё-таки и барыне приходилось исполнять слишком много тяжёлой работы, видно, что и стол её был слишком скромен: её лицо загрубело, будто муж её не был «благородный».
После периода «беспутной» жизни Матвей Иванович стал вином облегчать страдания таких же мучеников, каким был сам недавно; но это направление его деятельности не было продолжительно,— скоро моления в церквах и дома, назидательные разговоры и благочестивые размышления совершенно поглотили его, и уже навсегда.
Из рассказов бабушки я узнал такие черты раннего периода благочестивой жизни Матвея Ивановича. [621]
«Вздумалось ему ехать в Киев. Куда чиновнику от службы ехать? Хорошо ли? И ехать надобно с деньгами,— это хорошо достаточным людям, а у него какие деньги? Ну, сколотил деньжонок, одежонку продал,— ведь у Александры Павловны было хорошее приданое: бельё самого отличного полотна, и много; платья тоже, ну, и вещицы кое-какие» (из этого не следует заключать, что у Александры Павловны было приданое, заслуживающее имени приданого: может быть, и всего-то было: белья, платья и вещей рублей на пять-на шестьсот ассигнациями,— может быть, и больше, и много больше,— я не знаю,— но и такого приданого, ценность которого я определяю, было очень достаточно по тому кругу и времени, чтобы бабушка называла его „хорошим“, пожалуй иной раз и „богатым“),— всё спустил сначала на вино, потом на другие свои сумасшествия. Может, и выпросил у кого деньжонок, помогли,— ну, сколотил сколько там рублей. Купил телегу с кибиткой, лошаденку,— тащит с собою и Александру Павловну. — „Да мне-то зачем, Матвей Иванович? — она говорит: — и одному ехать лишний расход, да ещё на меня. Лучше я останусь; как-нибудь проживу. Ступай один, дешевле“. (Умная женщина.) — „Нет, говорит, подлячка“. — Так и звал её подлячкой, свинья этакий, варвар, подметок её не стоит. — Да и сам хорошо об этом сказал, каков он. Всё „подлячка“ да „подлячка“ — вот, раз она и не стерпела, сказала: „Если я подлячка, Матвей Иванович, зачем же ты на мне женился?“ — „Да как бы ты не подлячка была, разве бы тебя за меня отдали?“ — он-то отвечает. Нашёл ответ, видно, что сам себя хорошо понимает, что и тот злодей, кто за такого человека выдал девушку. Так чёрт же его знал, что он выйдет этакой урод и тиран. Тогда ведь ещё не пил; а о нынешних своих глупостях и понятия не имел. — Так вот, собираются-то они в Киев да в Москву, богу молиться,— мало места ему, дураку, в саратовских-то церквах,— просторные, хотя во весь рост растягивайся на полу-то по будням-то: просторно, никого нет,— и полы-то каменные: хоть пробей лоб-то, коли усердие есть, можно, камень-то здоровый, выдержит. — Тащит Александру Павловну с собою, да и только. — „Да что ж мне ехать,— она говорит,— когда не на что и тебе одному. Зачем я поеду?“ — „Ах, ты, подлячка! Да разве ты не жена? Я за твою душу-то должен отвечать. Да и сладко ли мне будет смотреть, как ты в аду-то будешь сидеть?“ — Вот тебе и резон. Так и взял с собою. И натерпелась же она мученья в этой дороге! Сам ест как следует, а её сухими корками кормит. Это, говорит, лучше для душевного спасения. — Ну, недостаёт её терпенья,— да и смешно уж ей, с горя-то. Говорит: — „Матвей Иванович, что ж это, меня корками спасаешь, а сам ешь, как следует,— ты бы уж и себя-то спасал“. — „На тебе много грехов, говорит, тебе надобно смирять себя постом и умерщвлением плоти, а мне уж нечего, на мне грехов нет никаких“. — Так ведь и говорит, дурак. Праведник какой завелся. — Лошаденка плохая,— как дождик, чуть дорога в гору, [622] она и становится. — Что же вы думаете? — Сам сидит, а жену гонит с телеги: „Слезай, говорит, лошади тяжело, ступай пешком“. — „Матвей Иванович, ты в сапогах, да и то не слезаешь, а я в башмаках как буду идти по такой грязи?“ — „Мне, подлячка, можно сидеть, на мне грехов нет, а тебе надо пешком идти, чтобы усердием этим искупить свои грехи“. — Так и сгонит с телеги, и идёт она пешком по дождю да по грязи. Вот они какие, праведники-то. У них у всех сердце жестокое. В них человеческого чувства нет».
Вспомнился мне совершенно другой анекдот, не из того времени, не из того быта, вовсе не к тому делу относящийся и слышанный мною, уже когда я жил в Петербурге совершенно в другом кругу, в 1856–1857 годах[492]. Вспомнился мне от слов Матвея Ивановича, что ему нечего много подвизаться, потому что он и так хорош, а надобно много подвизаться Александре Павловне. Рассказывал мне это сам тот, кто затеял дело, решенное резолюциею, сходною с мнением Матвея Ивановича.
Этот мой знакомый, очень умный и очень хороший человек, один из лучших людей на свете, но имеющий ту смешную слабость,— и я, и все его знакомые постоянно трунили над ним за это, но на него не действовали насмешки, и его не охлаждали неудачи, это человек не такого сорта, чтобы опустить руки,— имеющий ту слабость, что если видит нелепость или вред, непременно старается объяснить кому надобно, что это нелепо или вредно и что надобно это исправить. — Итак, этот мой знакомый, не русский, проходил в необыкновенно далеких местах и необыкновенно малых чинах военное поприще. Однажды, сидя в казарме, стал он вслушиваться, как солдат, готовясь к осмотру, твердит «словесность». — «Словесность» — это значит «пунктики», а «пунктики» — это значит: изложение основных понятий о звании и обязанностях солдата, которое надобно солдату знать твёрдо, потому что начальники, приезжающие осматривать войска, должны удостовериться между прочим и в этом, и спрашивают у солдат эти «пунктики». Один из пунктиков служит ответом на вопрос: «что нужно солдату?» — и начинается так: «Солдату нужно немного: любить бога, царя и отечество», и т. д. Вот, мой знакомый слушает,— солдат твердит: «Солдату нужно» — остановка — «немного любить бога, царя и отечество». В другой, в третий раз — всё то же самое,— «Солдату нужно: немного любить бога», и проч. — «Ты, мой друг, не так учишь, надобно вот как: „Солдату нужно немного“,— это значит, что немного требуется от солдата, что обязанность у него лёгкая,— и вот какая: „любить бога, царя и отечество“, а любить их надобно усердно. Учи же так: „Солдату нужно немного“,— знакомый делает остановку в голосе,— „любить бога, царя и отечество“». — «Так, как вы говорите, выходит больше толку, но фельдфебель показывал так, как я учу»,— сказал солдат. «Не может быть!» — знакомый возбудил вопрос между своими сотоварищами. Все учат так, как первый, у которого он подслушал, грамотные по[623]казали ему и списки пунктиков,— во всех списках так: «Солдату нужно» — две точки — «немного любить», и проч. Мой знакомый пошёл к ротному командиру. Ротный командир был человек очень простого образования или вовсе никакого. — «Солдаты учат пунктики вот как, а надобно вот так». — «Я и сам знаю пунктик так, как они, а не так, как говорите вы. Так написано. Ступайте к батальонному командиру, я не могу переменить». Правда. Мой знакомый пошёл к батальонному командиру. И тот то же: «Я сам так знаю пунктик, как они. Должно быть, что так написано в списке, который прислали нам из корпусной канцелярии». — «Посмотрите, так ли». — «Посмотрим, в самом деле»,— сказал батальонный командир,— призвал писаря, писарь нашёл, принёс подлинный список, который должен служить основанием для всех копий,— посмотрели,— точно, и в нём так написано: «Солдат должен» — две точки — «немного любить» и т. д. — Выше батальонного не было начальника на 100 верст, а может быть и на 500 кругом,— итак, батальонный командир, тоже человек простой, не мог отправить моего знакомого к высшему начальству за разрешением, должен был решить вопрос о «словесности» сам. Мой знакомый стал объяснять то, что объяснял своему товарищу. Батальонный командир конечно также понял, что манера чтения знакомого более идёт к делу, чем та, которую он называет ошибочною. — «Но позвольте, однако ж, надобно ещё подумать»,— сказал он. Подумал несколько минут, и сказал: «Нет, написано так; ошибки нет». — «Как нет? Как же солдату учить, что ему нужно только немного, не сильно, а слабо любить бога, царя и отечество? Это против смысла». — «Нет, я теперь увидел, в этом-то и есть настоящий смысл. Вы не русский, так вам это и кажется не так; и точно, для вас не так, вам нужно много любить бога, царя и отечество, потому что если вы не будете любить их много, то вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить их уже довольно. Поняли теперь? Мы русские, что нам много об этом заботиться? Это у нас само собою, врожденное, не то, что у вас, нам нечего об этом хлопотать». Так и осталось: «солдат должен» — две точки, пауза — «немного любить», и проч.
Я нахожу в этой истории — экстракт русской истории по крайней мере за последние 375 лет, если не больше, в батальонном командире — олицетворение русской нации за всё это время. Он был, как видно, не очень учёный человек,— но уже кое-что знал; он имел понятие о том, что за штука двоеточие,— так и русская нация, хоть и ни теперь, ни в XVI веке не была из передовых по просвещению, но уже и тогда сильно понатерлась в книжной мудрости, благодаря Византии. Но именно знание-то силы двоеточия и подкупило батальонного командира: будь он человек безграмотный, ему не на чем бы упереться против здравого смысла. Православную Русь наука стала затуманивать не с Петра Великого, а гораздо раньше, и с половины XV века уже очевидно её тяготение над нашею жизнью. Батальонный командир не был орел — и мы [624] тоже не орлы, а люди; но он не был глуп, хоть и решил дело глупее дурака,— нет, на это решение нужна была порядочная и порядочная тонкость ума,— нужно было гораздо больше ума, чем было бы достаточно для здравого решения дела; отчего ж это он так странно решил? — да оттого же, отчего мы с бабушкой не догадались, что попукивавшие из ружей спутники её матушки, моей прабабушки, не были разбойники,— а какая это причина, там уж и объяснено, где рассказано о попукивавших спутниках. Две точки поставлены на этом месте; следовательно, вся сила ума должна быть обращена уже на то, чтобы убедить себя и других в красоте и основательности их стояния на этом месте.
По рассказу о путешествии в Киев и Москву Матвей Иванович является грубым, гадким человеком,— ругает жену, мучит её. Но как дурного человека, грубого притеснителя, я знал его только по этому рассказу, относившемуся к давнопрошедшим временам. На моей памяти он был уже вовсе не таков. Он обращался с Александрою Павловною почтительно, так что нисколько не шокировал меня, привыкшего видеть, что мои батюшка и дядюшка никогда не говорят своим женам сколько-нибудь грубого или жесткого слова. Он уже и не заботился о её душевном спасении, и не объяснял ей, что на ней много грехов,— он уже спасал только себя. Вероятно, он и сам отчасти рассмотрел понемножечку, что его жена — [женщина], которую следует уважать; вероятно, он и по природе не был нахал и «ругатель», а грубые бранные слова нацепились ему на язык во время его кабацкого гулянья с сквернословами и выходили из употребления по мере того, как вообще сглаживались летами следы этого грязного гулянья; конечно, помогло ему почувствовать почтение к жене то, что он видел уважение к ней со стороны своих родных, которые были важнее его самого по общественному положению,— первый муж тетушки был дворянин, офицер; второй,— которого я называю дядюшкою,— помещик; мой батюшка — второе лицо, а муж другой сестры моей бабушки, мой крестный отец, первое лицо по почету в саратовском белом духовенстве, и каковы бы ни были действительные отношения несколько важных светских людей к ним,— об этих отношениях ещё будет речь,— но формальным образом всё-таки часто случалось им сидеть на первом месте за столами у начальников Матвея Ивановича; их уважение к Александре Павловне должно было показывать Матвею Ивановичу, что не годится ему не уважать её. Но много я полагаю,— вероятно, больше всего, направили его прямые назидания,— то-есть очень резкая брань,— моей бабушки, её сестры и в особенности её матушки, моей прабабушки, а его тетушки. Дальше будет история о том, как отучила моя бабушка одного из своих клиентов от дурного обращения с женою; прабабушка была тоже женщина с бойким характером,— она бранила как мальчишку при многочисленных гостях другого своего племянничка, уже важного человека в саратовском мире, за то, что он непочтительно выразился о своём отце, через меру выпивавшем старичке. А в это вре[625]мя она была уже хила. Матвей Иванович должен был [пройти] её школу раньше, когда она была ещё бодрою старушкою, и я не знаю, до какой степени она, назидая Матвея Ивановича, ограничивалась только словами. Это ей и ему было знать.
Но как бы то ни было, при помощи ли прямых родственных мер назидания, или преимущественно сам собою исправился Матвей Иванович, а я знал его уже человеком, не обижавшим жену грубостями,— и вообще человеком — как это сказать? — хорошим или нехорошим? Это, положим, трудно решить, но по справедливости надобно сказать: человеком безукоризненным. Честен он был вероятно всегда, низостей не делал,— вероятно никогда. А на моей памяти он был уже таков, что нелепо было бы ждать от него нечестного или нехорошего поступка. Он даже [не] был человек сухого сердца,— пробным камнем этого служит, как вероятно и до меня было известно читателю, обращение человека с детьми. Матвей Иванович, здороваясь и прощаясь с нами, детьми, гладил нас по головке, ласкал, как всякий другой обыкновенный человек,— не приторно, не натянуто, не притворно,— мне кажется, что в голосе его ласковых слов звучало иногда и довольно тёплое расположение ко мне или другому ребёнку, с которым он здоровался или прощался. Я не могу сказать, чтоб и в разговорах его с взрослыми или в его взглядах, манерах было что-нибудь притворное, льстивое,— а я в детстве был, вероятно, чуток на это, по крайней мере терпеть не мог нескольких своих более или менее дальних родственников, в которых было притворство; и мои старшие, даже сама бабушка, не винили его в притворстве или «иезуитстве», как она выражалась.
Итак, я теперь полагаю, что Матвей Иванович не был ни злой, ни дурной человек, и положительно уверен, что он был человек честный, и в детстве не думал о нём иначе. А между тем, я тогда ставил резкую разницу между ним и всеми остальными нашими родными и близкими знакомыми,— разницу в невыгоду ему. Я знал, что некоторые из людей, с которыми я не хочу сравнивать его, нечестные люди: взяточники или плуты, а он ни то ни другое; к этим людям я имел неприязнь,— к нему не имел; тем я желал бы вредить, ему нет; а между тем, у меня к нему меньше лежало сердце, нежели к ним,— не знаю, понятно ли я выражаю это довольно сложное, но очень частое отношение. Это похоже на разницу впечатления, делаемого на вас негодяем, пожалуй злодеем, но здоровым, чистым,— вы пожалуй можете опасаться его умыслов на вас, может быть, он ранил вас, хотел убить,— может быть, вы убили его, обороняясь,— но вы не чувствуете физической брезгливости к нему,— его прикосновение не гадко для вас, хоть, может быть, ужасно; а если вам привита оспа, вы ведь нисколько не опасаетесь вреда себе от прикосновения к человеку, который покрыт оспенными нагноениями,— и пусть этот человек честный и хороший человек,— вам всё-таки хочется отворачивать глаза от него, неприятно дотрогиваться до него. [626]
И не то, чтобы содержание разговоров, которые велись, когда Матвей Иванович бывал у нас, или мы бывали у него, или встречал я его у других родных, имело очень много элемента, производившего такое впечатление на меня. До какой степени содержание разговоров могло быть проникнуто особенным запахом, легко будет судить по одному случаю, который был уже незадолго перед моим отъездом в университет. В то время, 1845–1846 годы, у нас бывал почти как свой человек И. Г. Терсинский, который думал сделать предложение старшей из моих кузин. Это было и видно нам, да и не утаиваемо им, разумеется, хоть он ещё и не говорил об этом; но он говорил, что не останется в Саратове, поедет служить в Петербург. Он — магистр Петербургской духовной академии и, что ещё важнее для характеристики случая, был тогда профессором богословия в саратовской семинарии. Сидел у нас он, сидел и Матвей Иванович. Говорили. И долго сидели и говорили. Вдруг, как-то, разговор повернулся на то, что Иван Григорьевич едет в Петербург. Услышав это, Матвей Иванович, который ещё не знал об этом, редко видел его, сказал: «Кто едет в Петербург, тому нужно вот это крепко иметь». — Матвей Иванович, говоря это, коснулся рукою своей груди.
— Да,— отвечал Иван Григорьевич,— она у меня иногда побаливает, но это ничего, я за неё не боюсь. Это вероятно лёгкая простуда. Грудь у меня здоровая.
— Веру крепкую нужно иметь,— в сердце надобно иметь крепкую веру,— пояснил Матвей Иванович, видя, что его не понимают.
— Ах, вот что! — сказал Иван Григорьевич. И все мы присутствовавшие мысленно повторили его выражение неожиданного открытия и, переглянувшись, увидели, что все мы, подобно Ивану Григорьевичу, не догадывались, в чём нужна крепость.
Вероятно, магистр духовной академии и профессор богословия не был медлен и неопытен в понимании духовного смысла слов; значит уже слишком мало имел такого смысла весь предшествовавший длинный разговор, если Иван Григорьевич мог до такой степени забыть о возможности духовного смысла в человеческих словах, что не понял такого ясного духовного смысла «крепости» в груди с положением руки на сердце. Ведь очень хорошо известно, что провинциалы считают Петербург безбожным городом, подрывающим благочестие в поселенцах своих, и следовало ждать от Матвея Ивановича предостережения в этом духе,— но нет, никто не ждал, и никто не понял.
Кстати о Петербурге и моём отправлении в петербургский университет. Что я поеду в университет, было решено за целый год до отъезда; прежде того много советовались в семье; тогда же и о том, в какой университет ехать, казанский, московский или петербургский; и потом несколько времени колебались между этими городами; и когда уже решились, моя поездка в Петербург конечно оставалась одним из главных предметов семейного разговора до самого отъезда. Само собою, что с Матвеем Ивановичем не сове[627]товались же об этом. Но всё-таки упоминания об этом необходимо делались при нём много раз. Не может быть никакого сомнения в том, что его глубоко возмущало решение вопроса о высшем образовании сына протоиерея в пользу светского заведения, а не духовной академии; что точно так же, если мои старшие уже сделали такое неблагочестивое решение, то всё же легче для Матвея Ивановича была бы Москва с её святынею, чем нечестивый Петербург. Но он решительно ни одним словом не выказал своих мнений по вопросам, решаемым в духе, столь возмутительном для него. Вероятно, уже слишком ясно для него было его положение в наших разговорах, если он не сделал ни малейшей попытки подать руку помощи по этому делу. Значит, он уже очень твёрдо был убеждён, что с такими людьми, как мои старшие, нечего расточать словеса духовные.
И точно, он, бедный, видел прискорбную необходимость рассматривать предметы в беседах с нашей семьей и другими нашими родными исключительно с земной точки зрения. Духовный смысл никак не вклеивался в эти разговоры. Все мы были или духовные люди, или, как моя тетушка и дядюшка, если сами не духовные люди, то слишком тесно связанные с ними люди; церковь, священник, обедня, архиерей, пост, исповедь и принадлежащие к тому же кругу жизни слова конечно составляли чрезвычайно значительную долю произносимых нами слов, и понятия, им соответствующие, составляли может быть целую половину наших мыслей. Но всё это занимало нас исключительно со стороны, совершенно неудовлетворительной для Матвея Ивановича. Церковь — это было у нас преимущественно «наша церковь», т. е. Сергиевская, в которой служил мой батюшка; в доме Фёдора Степановича, моего крестного отца и мужа сестры моей бабушки,— преимущественно «собор» и исключительно «новый»; эти церкви очень озабочивали собою всех нас, вслед за батюшкою и крестным отцом: нас — наша церковь главным образом со стороны обыкновенного ремонта, на который вообще нехватало её доходов; например, «белить церковь» — вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом. — «Священник» — это был у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви», прекрасный человек, которого обидели, отставив от должности эконома при семинарии, чтобы отдать эту должность тоже священнику NN, о котором предсказывалось (и сбылось), что он растратит казенные деньги; и все другие священники, и дьяконы, и дьячки, и пономари занимали нас всё с таких же сторон,— наш дьякон, например, Яков Фёдорович был прекраснейший человек и очень хорош со всеми нами, почти родной,— но дьякон NN был дурной семьянин. Архиерей (покойный) Иаков занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», то-есть законов и форм, и поэтому Фёдор Степанович и батюшка часто видели, что все их усилия направить «дело» по [628] правде расстроены докладчиком NN и что такой-то священник от этого пострадал,— переведён из «хорошего» прихода в «дурной», по проискам другого священника у докладчика,— но Фёдор Степанович и чрезвычайно утешался другим свойством архиерея: Иаков был очень скромен в одежде, мебели, экипажах и проч., так что Фёдор Степанович, бывший казначеем архиерейского дома, успевал устраивать запасный капитал для этого дома,— накопил архиерейскому дому уже тысяч 25 (ассигнациями). Вот разговоры моих родных — и Матвей Иванович принужден был ограничиваться такими разговорами о «церкви», «архиерее» и всем принадлежащем к церковному и архиерейскому ведомству.
Поэтому хотя он в то время, как начинается моя память, постоянно был уже только в хороших отношениях с нами, он не часто бывал у нас, и мы не часто бывали у него,— то-есть у него-то мы, пожалуй, и вовсе не бывали; мы бывали у Александры Павловны, и она бывала у нас гораздо чаще, чем он; и она бывала как вообще бывают родные, не оттягиваемые в дом заботой о детях: с утра до вечера, с полудня до ночи,— разумеется, как своя: и соснет, если вздумается, и в хозяйство вступится, если вздумается. А Матвей Иванович бывал вроде гостя. Зайдёт по утру — не остаётся обедать; зайдёт вечером — едва досидит до чаю, без которого нельзя же уйти, и бежит. Скучно ему, не компания, хоть родные, и потому он любит их и они любят его.
На если телом он не часто пребывал среди нас, то мысли наши — конечно, не в присутствии Александры Павловны,— часто довольно подолгу и не без приятности останавливались на нём. Манеры его, тон голоса, слова его — всё это служило недурным предметом разговора, когда не случится другого предмета.
Сама бабушка не считала его «иезуитом». Но,— чтобы сказать о нём словами из его любимых источников аллегоризма,— видно уже такой предел положен, что «прикасающийся к смоле бывает замаран смолою», хотя бы вовсе не был сам смолокуром. Его плавные, тихие, медлительные, скромные, смиренные движения, его тихий, медленный, мягко внушительный говор, его постное лицо, умиленный и ласкающий взгляд — всё это было как следует быть всему этому у «иезуита». Это всё было у него в довольно слабом развитии, потому что было не «сиянием внутреннего света» иезуитской натуры, а внешним «осмолением», лишь придающим несколько лоску. Легко было рассмотреть, что под внешностью «иезуита» скрывается обыкновенный смертный, не ядовитый. Но эта внешность уже отталкивала от него меня, ребёнка. Я привык видеть простых людей,— близко к себе почти всё только хороших, а не очень близко и многих дурных,— и между дурными людьми были хитрецы, интриганы — но хитрецы и интриганы, ломавшиеся не на тот манер, как он,— по-житейски, по-земному,— они не были любезны моему сердцу, но всё-таки они были частью,— хоть и неприятною частью,— того мира, в котором я жил. А Матвей Иванович был на мои [глаза] — бог знает что такое, вовсе ни к чему [629] не подходящее. Те, дурные люди, не нравились мне, как дурной квас; как у нас да и у родных этот национальный напиток был почти всегда хорош; но и дурной квас можно пить, хоть с неприятным чувством; а Матвей Иванович был — какая-то «кава», которою жители Сандвичевых островов подчивали капитана Кука, как я прочел тогда у Дюмон-Дюрвиля: жуют корешок, плюют на корешок,— нажевав, наплевав, разводят всё это водою и подносят капитану Куку. — Нет, нет, нас этим не угощайте,— у нас от этого «душу воротит».
Но Матвей Иванович давно уже был существо смирное и безвредное,— по крайней мере для всех остальных людей на свете, кроме Александры Павловны; а Александра Павловна и не жаловалась на него, да и привыкли уж [видеть ее] живущею очень небогато, стало быть, живо принимать это к сердцу было уж не по времени, когда время стало на моей памяти; потому и не рассуждали серьёзно о безобидной каве Матвея Ивановича, а только потешались над нею. Поводы к потехам были беспрестанные, но все очень мелкие: то комический разговор с каким-нибудь буяном парнишкою, которого он станет назидать на улице и который сконфузит его какой-нибудь уличною мальчишескою выходкою, то встреча Матвея Ивановича с каким-нибудь подобным ему боголюбцем, с которым они, начав рассуждать о любви и смирении, тут же кстати и побранятся; конечно, эти анекдотцы прикрашивались, но и в прикрашенном виде все они были так мелки, что ни одного из них не уцелело в моей памяти; осталась только басенка, которую с большим юмором рассказывал мой крестный отец,— шутник и отличный рассказчик, не претендуя и выдавать её за истину. Содержание побасенки состояло в том, что вот вчера,— а вчера был страшно знойный день — часа в два, в три, в самый жар, случилось ему ехать мимо домика Матвея, и вздумал он зайти. Отворил ворота, и видит что же? Стоит на одной стороне двора полуразобранная поленница дров, на противоположной стороне — полусложенная поленница дров, а Матвей Иванович с домочадцами, то-есть Александрою Павловною и служанкою, пожилою девушкою Агафьею, занимаются перетаскиванием дров из одной поленницы в другую. — «Что это вы делаете?» — «Матвей Иванович заставил нас с Александрою Павловною души свои спасать с ним вместе,— подвизаемся»,— отвечает Агафья, смеясь пополам с горем. — «Да вы бы лучше по холодку, утром пораньше или вечерком попозже души-то спасали»,— говорит убедительно-добросовестным голосом гость, будто простяк, не понимающий в чём дело: — «а теперь вот и собаки в конурах лежат, высуня язык от жару». — «По холодку-то спасенья не будет, говорит Матвей Иванович»,— возражает служанка. — «А, вот что! Так вы бы, Матвей Иванович, уж Агафьину-то душу не спасали,— говорит гость, обращаясь к Матвею Ивановичу: — ведь она поди, чай, до сих пор молоканка, какая смолоду была,— так уж не спасете». — Агафья, точно, молоканка, смеётся. — «И много вы так спасаетесь?» — обращается [630] он опять к Агафье. — «Да вот, как жары начались, каждый день об эту пору по пяти раз поленницу перекладываем». — «Ну, подкрепи вас господь! Хорошее дело».
В действительности было кое-что подавшее основание к этой шутке. Матвей Иванович как-то, точно, таскал несколько булыжник с места на место, но не по зною, а по холодку, и один: звал жену и служанку, не пошли; да и самому дня через три-четыре надоело.
После этого замечательнейшим из известных мне подвигов Матвея Ивановича было хождение его в Москву к св. мощам, через Воронеж и Киев. Он для этого соорудил себе какой-то особый костюм, в котором важнейшую часть составляли брюки, обшитые кожею в некоторых местах, на манер кавалериста, или, что было гораздо знакомее в Саратове, венгерского бродячего торговца лекарственными снадобьями, гранатами и нарядами, то-есть на манер «цыцарца» (цесарца, австрийца), как звались у нас эти люди. Можно было смеяться, что Матвей Иванович для спасения души пошёл в цыцарцы и надел на спину цыцарскую «аптечку». В ходьбе он был крепок и быстр, так что обгонял партии, к которым приставал, и почти всю дорогу улепетывал один,— но с первых же верст ревность его поубавилась настолько, что, пошедши в Москву через Воронеж и Киев, он повернул курс с запада на север, уже прямо в Москву, чтобы спасти душу не 3500, а только 2000 верст путешествования,— и таким образом, когда дядюшка и тетушка, жившие тогда в Аткарске (по прямейшей, но не официальной дороге из Саратова в Москву), поехали с детьми однажды за город, то увидели среди поля идущую к Аткарску странно одетую фигуру, вроде маленького, старенького статского пешеходного кавалериста,— и по достаточном приближении эта фигура оказалась Матвеем Ивановичем, идущим спасать душу в Москву с изменою Киеву. — Не только дети, и тетушка с дядюшкою долго не могли без смеху вспоминать о его потешном виде,— посадили его к себе на дроги,— он было сомневался, не грешно ли ему будет садиться ехать часть дороги, которую он должен пройти пешком,— его убедили, что нет, бог не взыщет, когда это не по недостатку усердия, а по просьбе родных,— повезли его в город, привезли, напоили чаем, оставили ночевать, поутру вывезли в другую сторону от города и пустили молодца опять в чистое поле. Под Аткарском он сомневался, позволительно ли садиться на дроги, а когда возвратился из паломничества, то у него же самого выведали, что потом он частенько и частенько принанимал попутных извозчиков, подвезти его,— бойкие ноги изменяли, хоть и были снабжены рейтузами, собственно для них изобретенными. Ну, и журили его родные ровесницы: «Куда уж вам, Матвей Иванович, на старости лет по святым местам ходить,— хоть бы дома-то бог грехам терпел, спина бы не ломила, и то в наши с вами лета хорошо».
И вот, всё важное по этой части, что прикасалось моей детской жизни, Антонушка, добрый мужичок, шалун,— жаль, что без[631]грамотный, а то бы при своём уме мог бы и чем-нибудь путным заняться на пользу людям, а по безграмотности занимается — дело извинительное ему,— пустяками,— да Матвей Иванович, занимающийся перекладыванием дров от одного забора к другому,— ну, этот от роду видно был с придурью, хорошо хоть и то, что стал смирен, а путного ничего никогда не вышло бы из него,— бог с ним, пусть перекладывает дрова, только Александру Павловну жаль, заел её век. Ну, да как быть-то, этак-то и частенько бывает, что муж женин век заедает: с пьяницею-то ещё хуже бы жить-то ей.
Такие рассуждения слышал я от бабушки, и они слишком подтверждались способом обращения других моих старших с субъектами этих рассуждений, гораздо менее занимавшими всех их, чем бабушку. А и бабушку-то они очень мало занимали — и насколько занимали, то почти только в качестве мелочи, пригодной на то, чтобы от скуки улыбнуться над ней.
Вот что давала мне жизнь по этой части. — «Неужели же не было ничего более важного?» — «Не было». — «Но»… Знаю, только перед этим «но» надо сделать небольшое объяснение об одной «дистинкции», выражаясь языком латинского сочинения Феофана Прокоповича, о котором скоро пойдёт речь. Впечатления жизни и чтение книг distinguo, «различаю»,— второе многовато послабее первого. — «Но кроме чтения неужели и в разговорах»… Без сомнения, только опять: речь, в которой слышится трепетание жизни говорящего, и речь, которая говорится от нечего делать, для препровождения времени, при оскудении других предметов разговоров,— distinguo, различаю,— это две вещи разные. Приступив, distinctis distinguendis, disseramus, «постановив надлежащее различие предметов, различных между собою, займемся рассуждением о них».
II
Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано. В десять лет я уже знал о Фрейнсгеймии, и о Петавии, и о Гревии, и об учёной госпоже Дасиер,— в 12 лет к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди в [роде] Корнелиуса à Лапиде, Буддея, Адама Зерникава (его я в особенности уважал),— как я познакомился с этими более или менее неслыханными в XIX веке великими знаменитостями учёного мира моего детства, объяснится ниже,— и вероятно многими сотнями страниц ниже,— раньше я не надеюсь достичь до настоящего рассказывания о том, как я выучился читать и что стал читать, когда выучился. А теперь я хотел только показать, что при таких отдаленных поездках по книжной части странно было бы мне не исходить вдоль и поперек более близкие книжные пажити.
Не умею сказать в точности, 12 или 11, или уж и 13 лет было мне, когда я принялся читать Минеи-Четиих,— заглавие, которое тогда мне казалось понятным, потому что я знал по-славянски не лучше их составителя, думавшего, что он пишет по-славянски, а [632] в последствии времени оказавшееся для меня непостижимым ни на каком языке индо-европейского племени: «Четиих» слово решительно невозможное ни в какой из славянских грамматик, а оно очевидно хочет быть славянским,— итак, Минеи-Четиих, неправильно называемые попросту Четь-Минеями, что по старинному русскому, языку понятно и правильно, но ни для меня тогда, ни для кого из разговаривающих о них со времени составления доныне всегда было непонятно.
Я находил в этих Четь-Минеях одно огорчение себе: они слишком коротки. В них беспрестанно ссылки такого рода: это здесь рассказывается вкратце, а подробно зри в Макариевской Четь-Минее. Ах, как мне хотелось бы читать Макариевскую Четь-Минею! Но этот громадный сборник — увы! — остаётся рукописью и лежит в Новгороде, Москве, может быть ещё в Петербурге,— и даже ни в одном из этих городов нет полного списка. Когда я стал жить в Петербурге, я уже знал, что мог бы удовлетворить своему стремлению к Макариевской Четь-Минее даже гораздо полнее, чем чтением её самой: Румянцевский музей и Публичная библиотека богаты произведениями, из которых только уже извлечение поместилось в Макариевской Четь-Минее, которые превосходят богатством своим Макариевскую Четь-Минею ещё в гораздо большей пропорции, чем она превосходит нашу печатную,— я бывал и в Публичной библиотеке и в Румянцевском музее, но мне тогда уже было не 11, 12, а 19, 20 лет,— и я не дотронулся ни до одного из этих сборников.
«Восемь лет прошло между теми и этими годами, от 12 лет до 20, ещё бы не перемениться человеку!» — Так, но в этом я нисколько не изменился,— теперь прошло ещё 15 лет, и я остался совершенно с теми же пристрастиями в этом отношении, с какими был в 12 лет. Вот, и теперь, например,— у меня лежат три серьёзные сочинения, очень любопытные, до того любопытные мне, что я принялся за все три разом — так и тянуло к каждому,— третьего дня мне принесли пять томиков Диккенса, которых я ещё не читал. — Что ж? — все три учёные произведения перенеслись со стола, у которого, и с кровати, на которой я читаю, на окно. — меня угрызает совесть, мне стыдно за себя,— по пяти раз в день я собираюсь возвратить хоть одно из учёных произведений из его ссылки,— нет! — предвижу, что пролежать им на окне, пока не дочитаю Диккенса. И сколько убытку делает он мне! — учёные произведения я читал для отдыха от работы,— а теперь ленюсь, ленюсь работать,— давно уж отдохнул, а всё ещё лежу с Диккенсом в руках. Милый он, трудно оторваться от него. А я, угрызаясь совестью за леность в работе из-за него, твержу себе: «а ведь, однако же, то, что было в детстве, ещё сильнее стало во мне в молодости, и с той поры не ослабело, остаётся до сих пор. Авось и в старике во мне сохранится всё то хорошее, что было в юноше».
«Так вот что? Будто, только?» — Только-с; только, и не спешите верить тем, кто говорит про себя, что не только: сто веро[633]ятностей против одной, они лишь не умеют разобрать себя. И решительно не верьте тем, кто говорит про большинство людей, что не только,— не понимают они людей, врут они, это положительно.
Поэзия. Когда я не умел читать французских книг, я любил читать в тогдашних «Отечественных записках» переводы романов Жоржа Занда. Теперь читать их было бы для меня положительно неприятностью. Долго после я продолжал любить русские переводы Диккенса,— и к [ним] стал в то же отношение, когда выучился читать книги по-английски. Ослабела ли моя любовь к Жоржу Занду, к Диккенсу? Нет, нисколько; но они стали доступны в настоящей своей форме, и я бросил форму, в которой одной мог знать их прежде,— в которой красоты сильно сгладились, смазались, в которой всё отразилось не совсем так, многое вовсе не так.
Я знал чуть не все лирические пьесы Лермонтова.
Я читал с восхищением «Монастырку» Погорельского; она показалась мне очень скучновата и плоховата, когда потом попалась в руки около того времени, как я восхищался «Обыкновенною историею»; я до сих пор прочел полторы из четырёх частей «Обломова» и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиною,— разве опять примусь [за] рецензии, тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом.
Что следует из первой истории, случившейся относительно Диккенса и Жоржа Занда? Только то, что способы мои к удовлетворению известного моего влечения расширились. Что следует из судьбы, постигшей в моей жизни сначала «Монастырку», а потом не сжалившейся и над красотами «Обломова»? Только то, что мой вкус, благодаря отчасти ходу органического моего развития от ребячества к совершеннолетию, отчасти расширению моих средств удовлетворять ему, стал тоньше, разборчивее. Но поэзию я люблю не меньше, чем когда-нибудь любил.
Вот ещё любопытное обстоятельство. У нас была особая книжка, содержавшая в себе службу Варваре великомученице, и в виде вступления подробное житие её. Мне не хотелось читать его в этой книге. А само по себе оно было интересно для меня. В Четь-Минее я прочел его с любопытством и с убеждением, что в особой книжке оно ещё любопытнее, потому что подробнее. А в особой книжке всё-таки не прочел его. Почему? Тогда не думал об этом, а теперь вижу, почему: книжка была в сафьянном переплете, с золотым обрезом, с золотым тисненьем на крышках переплета,— не любил я её за это, она возбуждала этим впечатление, что претендует быть не простою книгою, как все другие, хочет, чтобы её читали, как читает Матвей Иванович. Нет, это не мое,— то-есть нашего семейства,— чтение.
Когда я достиг удовольствия читать Четь-Минеи, я достиг этого уже благодаря сану своего батюшки в саратовском церковном мире. Ни у нас, ни у кого из наших знакомых не находил я Четь-Минеи. И в нашей церкви не было её. Была она тогда только в одной церкви, Сретенской, да и то не старое издание в лист, по [634] три месяца в томе, а новое, в 8-ую долю, по одному месяцу в томе,— я попросил, сретенские дьячки стали носить мне том за томом, заходя к моему батюшке по делам. Но вы не думайте, что в этом сущность дела,— это одолжение было милое одолжение, но что ж в нём важного? — важность в другом. С незапамятных для меня времен на том шкапе, где на верхних полочках стояли чайные чашки, лежала огромная книга. Я был ещё юн и мал, чтобы рискнуть стащить посмотреть эту книгу,— потянешься за нею, став на стуле, перебьешь чашки, и дожил я таким манером лет до 9, уже года два роясь в книгах, доступных моим рукам,— а этой книги всё ещё не случилось узнать, чтó она за книга. Вот, однажды зимою, вечером, бабушка, позевавши много и долго, вдруг напала на мысль: «Марья! (или «Фёдора!») Сними-ка вот большую книгу-то со шкапа да выбей пыль из неё». — Марья или Фёдора исполнила всё, принесла выбитую книгу. «Давайте-ко, дети, читать, это Четь-Минея». Старшая моя кузина стала читать. Бабушке понравилось. И на другой вечер стали читать. Читали, читали сестра (то-есть кузина) и я, долго ли, коротко ли находила бабушка приятным это препровождение времени,— но только чтение наше, постепенно сокращаясь в размере приемов и растягиваясь в рассрочках между приемами, замерло через несколько недель ли, или месяцев, этого не умею припомнить, но только твёрдо помню, что на половине пятого числа месяца, которым начинался трёхмесячный том,— то-есть прочли мы страниц 50, 60, или и меньше, если переложить тот формат на журнальный, для понятности. И лежала эта книга с закладкою на половине пятого числа, пока увидела её сестра бабушки, Анна Ивановна, и сказала, что возьмёт её к себе. — «Возьми, Аннушка», сказала [бабушка],— видно, уже твёрдо убедилась, что у нас с нею закладка не додвинется до 6-го числа. Анна Ивановна, бездетная вдова, жила одна; поэтому я не сомневаюсь, что она додвигала закладку гораздо дальше,— быть может, числа до 15-го, а то и 20-го; подкреплением такого мнения служит то, что я довольно долго — чуть ли не до самой весны — видел книгу лежащею у Анны Ивановны на одном из столов. Но, с другой стороны, представляется и вот какое обстоятельство: после перенесения книг с нашего шкапа на один из наших столов бабушка несколько времени упоминала иногда о Филарете Милостивом,— житие его было самое первое в нашей книге и единственное интересное из прочитанных нами,— правда, упоминания были так нечасты, что я теперь уж ничего не припомню из него, но всё-таки были, а от Анны Ивановны не случилось мне услышать ничего почерпнутого из книги, несмотря на то, что она проводила у нас третью часть своего времени. Итак, было бы основания подозревать, что она ещё меньше нас с бабушкою углублялась в книгу,— но я готов думать, что всё-таки сколько-нибудь прочла же она в ней.
А всё-таки скоро стало ясно, что книга даром лежит у неё на столе. Через несколько времени я увидел книгу вознесшеюся у ней на шкап, подобней тому, с какого снеслась она к нам, и [она] [635] возобновила на новом месте прежнюю безмятежную жизнь. Теперь представляется вопрос: почему я, вздумав читать Четь-Минею, не спросил у Анны Ивановны книгу, которая не была нужна ей, а ждал, пока добудется чужой экземпляр? — А этот самый вопрос и напомнил мне, по какому случаю выражено было мною желание читать Четь-Минею. Батюшка писал свои деловые бумаги, я стоял подле и пересматривал каталог синодальной книжной лавки, ежегодно присылавшийся официальным путём к батюшке для справок при официальном требовании книг для церквей. Я тогда уже любил просматривать каталоги. Много было завлекательного в этом каталоге: книги на грузинском, на армянском языках, с заглавиями, напечатанными грузинским, армянским шрифтом,— я любил неизвестные шрифты,— и задумался: что, если бы иметь такие книги? — попросить папеньку купить? — Соблазняла эта мысль,— но всё-таки холодный рассудок победил: да как же покупать книги, прочесть которые не умеешь и не можешь ни у кого выучиться? — и я продолжал пересматривать каталог,— а понятие «купить» тосковало, оставшись одно без предмета для себя,— вдруг: «Папенька, купите Четь-Минею». — Папенька положил перо и со словами, «кажется, не по нашим деньгам, миленький сыночек» — это было его обыкновенное название мне,— взял у меня из рук каталог: «дорого, миленький сыночек (точно, Четь-Минея стоила более 100 р. ассигнациями, более 30 руб. сер.),— а если тебе хочется почитать её, так она, кажется, есть в какой-то церкви,— да, в Сретенской,— спросим, ведь никому же там не нужна,— пожалуй, почитай». — Из этого ясно, что я почти что напросился с ковшом на брагу,— фраза, засевшая в голову по случаю грузинского и армянского шрифтов, сорвалась с языка в неожиданном для меня самого виде просьбы о покупке Четь-Минеи,— но ворочаться назад было поздно, и я стал получать том за томом. — Впрочем, разумеется, неожиданное испрошение книги, о которой не думал за две минуты перед тем, не было неприятностью для меня — напротив. Я очень долго читал решительно всё, что попадалось под руку,— так долго, что у меня осталось в памяти, какая именно книга была первая книга, которую я не стал читать, как незанимательную,— это факт замечательный по характеру книги, и я скажу о нём подробно в своём месте. Я не помню, сколько именно лет было мне, когда он случился, вероятно лет 13; но вижу по его обстановке, что он случился после периода чтения Четь-Минеи. А до него я читал решительно всё, даже ту «Астрономию» Перевощикова, которая напечатана в четвёртку и в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул.
Не похвалюсь, что я прочел всю эту Астрономию сплошь,— слишком уж ясно было мне, что я не понимаю в ней ни слова, и я всё пробовал в разных местах, не наткнусь ли на такие строки, которые бы понял. Но всё-таки я читал её очень много. Впрочем, в Четь-Минее я прочитывал гораздо большую пропорцию из каждой сотни страниц, чем в книге, состоящей исключительно из [636] интегральных формул, полагаю, что половину. Но я совершенно пропускал проповеди и краткие жития, читал исключительно только длинные, состоящие из ряда отдельных сцен, рассказанных вообще с беллетристическою обстоятельностью или с анекдотическою живостью. Это читалось легко и с удовольствием.
Не скажу, чтобы из этого чтения забыл я теперь многое, что помнилось через полгода после него. А теперь я почти ничего не помню из него. В 15, в 14 лет — почти не больше [помнил]. То, что я помню теперь из житий святых, запомнилось из чтения других книг, имевшего уже собственно ученическую цель: я [читал] издававшиеся духовными академиями духовные журналы уже как семинарист, отыскивая примеры, доводы для писания задаваемых профессором [тем]. От этого чтения по ученической надобности довольно много удержалось в памяти. От прежнего добровольного чтения Четь-Миней — почти ничего. Оно проскользнуло через мысли почти бесследно. Раз — всё в ту же поездку, один случай из которой я уже рассказал — мы довольно долго сидели на станции, где расположились пить чай, я увидел на окне Четь-Минею, стал пересматривать,— даже этот пересмотр не воскрешал ни одного воспоминания из прежнего чтения.
Но если Четь-Минея читаемая скользнула так легко по фантазии ребёнка, то не могли же не запасть в памяти гораздо прочнее те рассказы из Четь-Минеи, которые я слышал в живом разговоре? Да, они вошли в память, и так прочно, что я до сих пор помню все их. Несколько раз я слышал отрывочные, но связанные в этой выдержке события из жития Евстафия Плакиды. Слышанное мною было вот что. Евстафий Плакида, важный чиновник,— военный,— переправлялся с своим семейством вброд через реку. Семейство состояло из жены и двух маленьких сыновей. Он взял одного из детей и перенес на другой берег. Вернулся, взял и понёс другого сына. Дошедши до средины реки, он услышал крик жены, оставшейся на прежнем берегу,— на неё напали разбойники. Он поспешно вернулся спасать; но когда вышел на берег, разбойники уже скакали довольно далеко с похищенною женщиною. Он побежал за ними, посадив сына на берег,— не догнал; возвращался, был уже недалеко от реки, когда с другого берега сын, уже перенесенный, закричал: к нему приближался лев. Отец бросился спасать этого сына, забыв о другом, ещё не перенесенном,— но лев уже унёс ребёнка, когда отец выходил на берег; теперь послышался с прежнего берега крик другого сына,— к нему приближался медведь и также унёс его прежде, чем отец поспел на помощь. В отчаянии Плакида углубился в пустыню и много лет прожил, не видя людей: ему было тяжело смотреть на людей, когда он потерял всех людей, ему милых. Через много лет он соскучился о людях и пошёл в город. Там сел он отдохнуть на улице у лавки, в тени,— день был знойный. В лавке сидела женщина. Также пришли отдохнуть в тени,— сначала один молодой офицер, потом другой. Офицеры разговорились между собою. Одному вздумалось [637] спросить у другого, кто его родные. «У меня нет родных»,— отвечал его новый знакомый. — «Как странно — и у меня тоже. Царь, выехавши на охоту, отбил меня у льва». — «Как странно! — точно так же и меня отбил царь на охоте, только не у льва, а у медведя». — «Вы братья, вы мои дети!» — вскричал Плакида, бросаясь обнимать их. Внимание женщины, сидевшей в лавке, было привлечено радостными восклицаниями,— она всмотрелась в отца, обнимающего детей, и узнала в нём мужа: разбойники, проехав с нею несколько верст, были пойманы полициею, и она освобождена. Как бог милостив! — сохранил всех их и привёл всех в одно место, в одно время, чтобы они узнали друг друга. Плакида получил должность ещё лучше прежней,— он был и прежде генерал; и хороший генерал, искусный в войне, и царь очень жалел, что он куда-то исчезал, а теперь Плакида опять явился к нему. Разумеется, бог был так милостив к нему, его жене и детям, потому что все они были хорошие люди.
Если вы даже и меньше, чем я, знаете и помните подлинный рассказ, всё равно, вы не можете не знать, что он имеет характер гораздо более определённый, чем эта выдержка из него; всё специальное мотивирование событий, всё особенное, чем приведена развязка, оставлено без внимания; вы чувствуете, что и развязка не совсем верна: Евстафий и его жена становятся людьми, занимающими в свете положение ещё выше прежнего, и возобновляют светскую жизнь. Чувствуете ли вы, что в рассказах, мною слышанных, взяты только черты внешней занимательности, а дух подлинника совершенно потерялся в нём,— что рассказывавшие были заинтересованы только анекдотическою стороною подлинника и совершенно не поняли его духа? Мои рассказчики обнаруживают своим рассказом, что сфера жизни, которую изображает подлинник, так же чужда их чувствам, так же неуловима их понятиям, как поэзия Байрона была непонятна нашим его подражателям,— да, моя бабушка, Анна Ивановна и наша служанка Марья Акимовна, от которых от всех трёх я слышал этот рассказ, все показали себя людьми, не лучше Пушкина разумевшими то, с чем по их (и его) мнению они (он) знакомили (знакомил) свою публику.
От бабушки и Анны Ивановны больше ничего я не слышал в этом роде. Но в разговорах Марьи Акимовны случилось мне однажды слышать ещё один рассказ, о котором я не могу сказать, чтоб я и теперь отчасти не сочувствовал ему. Вот он.
Святой, проходя по улице города, увидел толпу народа, слушавшего уличного музыканта,— святой сотворил мысленно молитву, очи его отверзлись, и он увидел подле музыканта беса; кто-то из толпы бросил музыканту монету, музыкант положил её в карман,— бес взял монету и полетел с нею в ад к сатане. «Вот, мой слуга выработал дань тебе от людей». — «Хорошо,— сказал сатана,— точно, эту дань мне дал тот, кто дал ему монету, стал моим подданным. Хорошо». Бес с похвалою от своего властителя возвратился к музыканту и положил опять в карман ему монету. Всё [638] это сделалось в одну минуту. — «Вот что такое эти увеселения. Дань сатане».
В этом рассказе выражается ультра-пуританский взгляд на жизнь, и с известной стороны, до известной степени, в известном направлении [я] действительно разделяю его,— с какой, до какой, в каком — объясниться об этом ещё будут случаи — пока довольно сказать, что для меня он не пустой анекдот — здесь пока дело не о том, какое отношение он имеет к моей действительной жизни, а о том, насколько он имел какое-нибудь действительное значение для лица, которому я обязан знакомством с ним.
Марья Акимовна была служанкою в моём семействе в первые годы нашей жизни в Петербурге. В 1854 году мы переменяли квартиру. Жене моей очень понравилась квартира в доме Диллингсгаузена в Хлебном переулке, у Владимирской; но она затруднялась одним: кухня — в подвальном этаже, значит будет сырая; дурно для прислуги. Узнав об этом, Марья [Акимовна] просила жену нисколько не считать этого неудобством. Хорошо, мы взяли квартиру. И точно, оказалось, что помещение кухни в подвальном этаже не есть неудобство для Марьи Акимовны, напротив. Сыроватость помещения с избытком вознаграждалась тем, что Марья Акимовна могла уже не стесняться там, что что-нибудь делающееся в кухне будет мешать нам. Каждый день, с семи часов до глубокой ночи, у Марьи Акимовны была неумолчная музыка. Сначала только гармоника, потом и гитары, и скрипки, и всякие сподручные кимвалы раздавались решительно в нашей кухне, и большею частью мы тогда засыпали, напутствуемые звуками этого оркестра и этих соло. — Марья Акимовна была хорошая женщина; но у ней была дочь, уже взрослая девушка невеста; Марья Акимовна была строгая,— даже слишком строгая мать, съела бы дочь за малейшее замеченное уклонение от нравственности. Но видите, она ровно столько считала музыку и танцы греховным или безнравственным делом, сколько самая усердная светская любительница балов, и очень немногие из самых усердных светских матерей так изобильно доставляют дочерям это невинное удовольствие, как она: у ней семь раз в неделю был вечер с музыкою и танцами.
А как же рассказ-то о музыканте, монете и бесе? — Я не спросил её об этом,— и не спросил, полагаю, не столько по нежеланию ставить её в затруднение, сколько потому, что уж слишком большую тупость ума засвидетельствовал бы я в себе, если бы видел тут что-нибудь требующее объяснения. Мало ли какие анекдоты случается рассказывать каждому из нас, смертных, и чувствовать некоторое влечение к тому анекдоту, который рассказываешь? Мимолетная игра фантазии,— неужели она к чему-нибудь обязывает? Неужели мы, простые обыкновенные люди, можем так жить, чтобы в наши разговоры не попадали вещи, в сущности незначительные для нас? Сколько раз мне, например, приходилось выражать своё мнение о том, хорошая ли танцовщица г-жа Богданова. А я никогда не видел, как танцует г-жа Богданова. Неужели же [639] справедлив бы был тот, кто придрался бы ко мне из-за [этого] с таким назиданием: «Вы соглашаетесь, милостивый государь, что г-жа Богданова танцует превосходно; как же вы не ездите на балеты, в которых она танцует?» — «Милостивый государь,— возразил бы я такому господину,— пощадите род человеческий. Ведь если каждый из нас говорил бы только о том, что глубоко интересует [его], то, во-первых, разговоры между людьми были бы так редки, что люди разучились бы говорить; во-вторых, люди [стали] бы невыносимо скучны друг другу, и жизнь была бы театральнейшею нелепостью».
Напрягая все силы воспоминания, чтобы уменьшить скудость этой стороны моих детских впечатлений, я решительно не отыскиваю ничего идущего к предмету, кроме одной частички одного разговора. Сидела у бабушки одна из её посетительниц, тоже старушка, Авдотья Яковлевна, о которой ещё придётся мне упоминать. Толковали о разных страшных людях и приключениях — ворах, разбойниках, убийствах и самоубийствах. Увлекшись предметом, Авдотья Яковлевна выразила мнение, что кроме всех других злодеев, есть на свете и фармазоны. Бабушка подтвердила это,— фармазоны действительно ужасные люди, но в чём их фармазонство, этого не случалось ей узнать.
«Вот в чём оно,— отвечала Авдотья Яковлевна: — я вам скажу случай. Был барин, и жил у него лакей наёмный. Барин был богатый, и человек весёлый; и добрый к лакею. Только, много лет проживши у него, лакей стал видеть, что барин начал тосковать,— не по своему характеру. «Что вы, сударь, тоскуете?» — «Так», говорит. Всё больше и больше тоскует. Только в один вечер лакей раздевает его,— спать укладывает,— барин стал с ним прощаться — «прости, говорит, коль я в чём тебя обидел, а вот тебе награда за верную службу и твою любовь»,— и даёт ему двести ли, триста ли целковых. — «Что это вы, сударь? будто не чаете до завтрего дожить, а болезни в вас я не вижу никакой». — «Не от болезни, говорит барин, а срок мой пришёл,— прослезился,— приходи, говорит, через час посмотреть, что от меня останется, раньше не смей, нельзя, а через час приходи». Пришёл лакей через час в спальню, а середи спальни куча золы лежит,— только [и] осталось от барина; а пол цел, не тронуло огнем. Вот что фармазоны, Пелагея Ивановна. Это фармазон был. Они душу продают чёрту, он содержит в богатстве, сколько там лет условились. А кончились года, пришёл срок чёрту брать душу, фармазон огнем загорится и сгорит весь, только зола останется».
«Так вот они какие, фармазоны-то,— сказала бабушка,— а я и не знала; только говорят всё „фармазоны“, „фармазоны“, а сами тоже не знают, что за фармазоны».
После этого разговор опять перешёл к предметам более известным.
Сколько я теперь знаю, Авдотья Яковлевна была сообщительницею мнения, которое действительно существует в низших слоях [640] среднего класса, в городских слоях простонародья. Но об анекдоте, которым олицетворилось это мнение в её рассказе, я должен [сделать] такое же невыгодное суждение, как о рассказе про чертей, раздающих золото в пещере подле Саратова.
Рассказ Авдотьи Яковлевны носит на себе печать полнейшего незнакомства с той областью понятий, знакомить с которою претендует. Человек, продавший душу чёрту — остаётся хороший; в нём даже незаметно ничего особенного; он даже не кутит, не пьянствует, не развратничает,— рассказ не понимает, что это необходимо, что этого человека мучит совесть, терзает страх, что он должен искать забвения, и как бы добр ни был он прежде, в его мыслях и поступках должны высказываться дьявольские черты, когда он продал душу чёрту. Рассказ совершенно не знает, что такое продать душу чёрту, какие люди продают её, как они живут. Он даже не знает, что у чёрта нет счёта деньгам, что продающие ему душу делаются обладателями изумительнейших богатств, блистательного великолепия — нет, барин живёт в достатке, только. Рассказ не понимает, что из-за простого достатка никогда не продается душа чёрту — для этого чёртовская помощь не нужна.
И вот общий вывод, из всего моего припоминания соприкосновений моего детства с средневековым романтизмом: этих соприкосновений было очень мало, и все они были ничтожны. Из сотен людей, которые часто бывали у меня на глазах, только двое были представителями этого направления. Один из них даже и не был фанатиком, а только делал странности, по своему деревенскому беспомощному незнанию; другой считался глупцом и настолько дурным человеком, насколько было в нём средневекового романтизма; оба они слышали выговоры со стороны тех из близких, которые занимались ими от безделья и скуки, оба чувствовали себя очень робко и плоховато перед другими близкими мне; из близких мне людей никто не имел ни малейшей не то что наклонности, даже снисходительности к мистицизму, и вся жизнь их была так чужда его, что даже в их разговорах, в которых ежедневно слышалось обо всем на свете, не попадалось ровно ничего, относящегося к этому; из бесчисленных знакомых также не было никого сколько-нибудь способного хоть вскользь касаться этого направления, и в течение лет десятка, впечатления которых я перебираю теперь (лет с 4 до 14, когда я поступил в семинарию), я вспоминаю только анекдот, лишившийся своего колорита в слышанных мною пересказах, да другой маленький анекдот, опровергавшийся характером и жизнью женщины, которой случилось как-то раз вспомнить о нём, да другой анекдот, показывающий совершенное незнакомство рассказчицы с своим предметом. — Вот и всё, и тут бы мог я кончить эту материю, если бы не был охотник предвидеть возражения и, что ещё важнее, не был научен многолетним опытом, что самая простая и очевидная мысль нуждается в многочисленных пояснениях и оговорках,— иначе или не будет вовсе понята, или поймётся, как говорилось у нас в Саратове, шиворот навыворот. [641]
Сначала возражения и оговорки. Не думал ли я говорить, что в обществе, среди которого я вырос, было мало невежества, предрассудков, суеверия? Нимало не думал: были целые кучи, груды, горы всякого этого материала. — Если бы захотеть делать эффекты, рисовать картины, поражающие мрачностью дикости, а не думать о том, до какой степени соответствовали бы они колориту действительной жизни, можно бы разрисовать. Пожалуй, попробуем: если кому правда не кажется верна истине, пусть утешится,— начнем говорить в его угоду.
У нашего кучера, Данилы Ивановича, дядя был запарен в бане чертями. После него кучером нашим был Павел (не помню, как по отчеству) — знахарь, пользовавшийся большою известностью. К Прасковье Ивановне, иерусалимке,— я упоминал о ней, после скажу больше,— подходил чёрт, когда она шла к заутрене, и издевался над нею. Это личные знакомства моих знакомых с чертями. Вероятно, можно бы припомнить ещё два-три таких случая. Но довольно и этих — ясно, черти были не редкостью вокруг моего детства. — Или говорить о других суевериях? Стоит ли? — Я жил среди наших русских людей, можете смело повторить в уме всё, что вы знаете о русских суевериях,— и я вперёд говорю: да, всё это было в окружавших меня или взамен этого было другое, точно такое же. — Или от суеверий обратиться к предрассудкам? — Жиды, лютеры, католики, раскольники — всё это известно было с той самой стороны, с какой известно было испанской инквизиции,— разница воззрений была только в том, что теория, относившаяся в Саратове к «католикам», относилась испанскою инквизициею к «схизматикам»,— остальное всё было слово в слово. Можете дать разгул воображению.
Да что воображению? бывали и дела. Около 1830 года — вероятно, пораньше, но рассказы были ещё свежи в начале моего детства,— явился в селе Копенах злодей, корчивший из себя спасателя душ[493]. Убеждал, убеждал и убедил: семейств двадцать, если не больше, нагрузили все свои пожитки на телеги и поехали обозом. Приехали,— где-то за селом к овину или к риге,— и началось спасение душ, приобретение венцов мученических: положена была плаха,— они затем и ехали,— у плахи стал с топором, злодей, несчастные подходили, один за другим, одна за другою, клали голову на плаху,— наставник отрубал голову, следующие искатели спасения относили в сторону тела и головы и ложились в свою очередь для принятия венца мученического. Нескольким десяткам человек злодей дал венец мученический и уехал с телегами.
Что это такое? Этого не видел ни Бенарес, ни Джагарнат, таких жертвоприношений не получали Шива и Бахвани[494]. В Индии приносят себя в жертву отдельные люди, только передовые люди геройского фанатизма,— у нас, в Саратовской губернии, одно село в несколько недель, может быть дней, выставило в одну сцену, дало массу охотников, какая в десять лет собирается со всей Индии. [642]
«Население, в котором могло совершиться подобное событие, имеет право назваться одним из суевернейших, фанатичнейших на земном шаре».
Если кто сделает такое размышление, я не имею ничего возразить. Оно очень похоже на правду. Оно, может быть, чистая правда. Я не жил в Бенаресе, я не посещал праздников джагарнатских,— я не могу до тонкости сравнивать гиндусов и саратовцев,— не могу поручиться за саратовцев, быть может, и суевернее гиндусов. Я только говорю, каковы саратовцы сами по себе, безотносительно,— а по сравнению с другими людьми, быть может, они фанатичнейший из народов и племен и поколений всех стран и веков.
Я даже расположен думать это. История, рассказы путешественников, но особенно история,— о, об этом у меня есть своя теория, которая одним из своих оснований имеет и моё личное знакомство с обыденною жизнью массы,— а значительная доля этого знакомства приобретена мною ещё в детстве,— поэтому не познакомить ли вас здесь с моею теориею истории?
Я всегда готов на услуги, которых от меня не ждут,— вы не ждали, что в мою автобиографию войдет извлечение из книги, написанной по бумагам английского главнокомандующего в Крыму, лорда Раглана, в которых, вероятно, ничего не упоминается ни обо мне ни даже о целом Саратове? — А вот увидите же, как плотно войдет.
Знаете ли вы, что такое Крымская война? — спрошу я вас: какой характер имели столкновения, из которых она возникла, какими силами она была вызвана? — Как не знать, отвечаете вы: державы боролись из-за преобладающего влияния в Константинополе, императору французов нужно было приобресть себе славу,— потому дипломатические ссоры не уладились дипломатически, как без того было бы, а превратились в сражения и осады. — Это не важность, отвечаю я вам,— война была порождением религиозного энтузиазма нашего русского населения. — Вы разеваете рот. Вы жили в то время среди русского населения, вы помните, что до битв на Дунае оно ровно ничего и не знало о том, готовится ли война; о войне на Дунае оно стало слышать, но очень мало интересовалось ею, желало, чтобы она поскорее кончилась, чтобы ему не подвергнуться обременительным пожертвованиям; но, думая в пользу мира, всё ещё очень мало думало об этих делах и очень мало знало о них. Узнало и стало много думать, когда потребовались громадные жертвы на оборону Севастополя, и тогда сильно пожелало мира. Вы это помните, но я говорю противное и доказываю, что вы ошибаетесь. Извольте слушать, что говорит история.
Неприятности начались, как известно, из-за притязаний Франции несколько расширить участие католического духовенства в хранении некоторых из святых мест Палестины. История, беспристрастная к обеим нациям и правительствам и к обоим исповеданиям, признает справедливость в этом споре за русскими. [643]
«Мы ошиблись бы, предположив возможность хотя тени сравнения (it would be wrong [to suppose that there was] any approach to an equality — видите, как сильно и по-английски) по силе и искренности чувств между правительствами, вступавшими в спор по этому вопросу. В греческой церкви пилигримствование считается делом столь важным, что если у семейства есть деньги для путешествия в Палестину,— это семейство, хотя бы жило в отдаленнейших от неё областях России, не чувствует в себе спокойствия за искренность своего благочестия (they can scarcely remain in the sensation of being truly devout), если не предпримет святого подвига, и на него радостно посвящаются плоды бережливости и труда, собираемые во все цветущие годы жизни. Такое далекое путешествие с скудными средствами поселянина совершается не без лишений, столь тяжёлых, что от них многие умирают. Эта опасность не устрашает честный, набожный народ севера. В награду за этот трудный подвиг священники этого народа именем неба обещают неизреченные блага. Блаженство, им заслуживаемое, не обусловливается волею, побуждениями паломника, оно нисходит и на детей, подобно благодатному действию крещения. Император русский, стараясь приобресть или сохранить для своей церкви святые места Палестины, говорит как выразитель мнения (spoke on behalf) пятидесяти миллионов честных и храбрых набожных подданных, из которых тысячи готовы были радостно рисковать жизнью (would joyfully risk their lives) за это дело. От крепостного мужика в его избушке и до самого царя, у всех убеждение это действительно было пламенным убеждением сердца (really glowing), неодолимо направляющим их волю (violently swaying)».
Следовательно, продолжает история… Но вы протираете глаза и говорите: «дайте мне прежде очнуться, я будто что-то грезил и, должно быть, вздремнул». — Нет-с, вы не грезили, вы читали историю. «Но это»… — Прошу не возражать, извольте молчать,— это история, а вы невежда, когда смеете говорить, что вы этого не знаете. Назидайтесь же, и уж без возражений, до конца,— когда кончу, разрешу уста ваши, а теперь извольте слушать — я только буду замечать, что и по-моему будет правда, чтобы успокоивать ваши чувства охотным предоставлением остального на волю вашим замечаниям.
Итак, продолжает история, дипломаты Европы должны были бы смотреть с уважением на чувства русского народа (это правда). — В католической церкви путешествование к святым местам в Палестине развито несравненно меньше, чем в греческой (это правда), и претензии французского правительства по этому предмету нисколько не выражали чувств французской нации (правда). А оно предъявило притязания,— это было вовсе нехорошо (правда). Но вы не только сам не знаете, не найдете,— где бы в России вы ни жили, хоть бы между Москвою и Петербургом,— на 1 000 верст кругом ни одного человека, который помнил бы, в чём собственно был спор. О правах участия духовенства нашего и ка[644]толического в охранении святых мест в Палестине,— но каких же? и в каком же размере была разница величины участия, требуемого спорившими? — Это никто не знает теперь, через десять лет, это уже знает только история. Вот что такое говорит она, и говорит правду:
«Спор был о том, должны ли латинские монахи иметь ключ от главных дверей Вифлеемской церкви и по одному из ключей от двух боковых дверей. Они также требовали права служить однажды в год в приделе богоматери в Гефсиманской церкви. Но существенным затруднением было именно их требование иметь ключ от главных дверей Вифлеемской церкви, между тем как прежде они имели ключ только от боковых дверей её».
Это правда. Итак, спор не относился к главному месту поклонения, к церкви гроба господня. Спор собственно относился только к одному из многочисленных святых мест палестинских, важность которых и всех вместе взятых далеко не равняется в сердцах наших паломников важности церкви гроба господня; и спор по поводу одного из этих многих святых мест не состоял в том, чтобы одно из исповеданий было исключено из такого святого места, которое прежде было доступно ему, или получило доступ к такому святому месту, которое прежде было исключительно в руках другого исповедания,— нет, это место было доступно обоим исповеданиям и прежде, должно было оставаться доступно обоим; в этом не было разногласия; не предполагалось изменения требованиями ни того, ни другого из споривших исповеданий; изменение относилось только к размеру пользования одним из входов в это святое место.
Кроме этого побуждения к войне, у русского народа было и другое, продолжает история:
«Пятьдесят миллионов человек в России исповедуют одну веру и исповедуют её с тою горячностью, какую некогда имела Западная Европа. Все свои войны Россия вела с народами не своей веры, и два раза, когда национальная жизнь умирала, когда всякая другая надежда исчезла, она была спасена воинственным усердием своего духовенства. Поэтому любовь к родине и преданность церкви так тесно слились в одно всеобъемлющее чувство, что русские не могут отделять одного из этих понятий от другого, и хотя они по природе племя кроткое и добродушное, но они воспламеняются, когда дело коснётся их веры». — Вот поэтому русский народ всегда очень желал,— то-есть тот русский народ, которого 50 миллионов,— эти 50 миллионов желали очень давно и очень горячо взять Константинополь и истребить турок,— extirpate the Turks,— «на горизонте набожной массы виделся купол св. Софии»,— говорит история. Поэтому, продолжает она, русский царь, глава церкви, имел обязанности, которые ему необходимо было исполнять, потому что «хотя русский народ прост и послушен, но религиозный дух обширной империи пришёл бы в опасное волнение», если бы правительство не удовлетворило его ожиданиям в этом отноше[645]нии. Русское правительство действовало под тяготением этого напора стремлений массы. И началась «война за веру», по мнению «массы русского населения», когда наши войска вступили в дунайские княжества.
Всё это подтверждает история документами и ссылками на учёные исследования, так что не остаётся места сомнению: депеши, прокламации, манифесты, проповеди, свидетельства самих действовавших лиц,— всё ведёт к тому взгляду, с которым я вас познакомил. Конечно, ведёт, иначе история и не приняла бы его, потому что она беспристрастна и ищет только истины.
Кроме шуток, книга, из которой я сделал выписки, очень беспристрастна и основательна; нет никакого сомнения, что эта книга, «The Invasion of Crimea, by Kinglake», надолго останется одним из драгоценнейших и надёжнейших источников для людей, которые будут писать о предмете, ею излагаемом[495].
Но что ж это такое наконец? — Я думаю, вот что: это не «История Крымской войны», как она скромно называет себя, а история и Крымской войны, и религиозных смут Англии, и гугенотских волнений во Франции, и всего относящего[ся] к реформации во всей Западной Европе, и всего относящегося к инквизиции, и альбигойских войн, и крестовых походов и так дальше,— я знал, что в Саратове жизнь была вот какова с известной стороны; история открывает мне, что мои современники саратовцы, представители самого крайнего развития этой стороны, превосходят в нём все народы Западной Европы и могут быть сравнены только с народами средневековой поры энтузиазма; я совершенно соглашаюсь.
Что следует из этого, вероятно ещё придётся вам читать на многих страницах следующих моих эпизодов и всяких рассуждений обо всем на свете.
Убедившись, что саратовцы, среди которых я вырос и тенденции которых совершенно разделял в моём детстве, были такие удивительные люди, непременно хотевшие завоевать Константинополь, видевшие на своём горизонте купол св. Софии, я прихожу отчасти даже в сомнение, точно ли я был в моём детстве такой человек, каким помню себя, а не такой, каким познаю себя (вместе с остальными саратовцами) в истории. Неужели, в самом деле, на моём «горизонте» «виделись» Соколова гора с одной стороны, Лысая гора — с другой, Увекская или, как у нас зовут, Увецкая гора — с третьей, Волга — с четвёртой, а не что-либо иное?
Я думаю об этом долго и серьёзно, потому что вопрос, который пишу я в шутливой форме, вопрос такой, что при ответе на него, какой я считаю справедливым, действительно надобно сызнова писать всю среднюю и новую историю,— чего ещё не сделано и даже ещё почти не начато,— и надобно сделать ещё многое другое. Но нет, память не обманывает меня,— жизнь моего [детства] действительно почти не имела соприкосновения с фантасмагорическим элементом, потому что его почти не было в жизни моих, моего народа, [646] которая тогда охватывала меня со всех сторон. Самые фантасмагории моего детства доказывают это.
Я часто видел сны,— конечно, в числе их было много страшных. Очень испуган был я одним: Волга поднялась очень высокою волною и заливала нас, в том числе и меня. Другой сон очень огорчил меня: я, шаливши, как часто шалил, перочинным ножичком моего батюшки, сломал его, а ножичек этот был его любимый,— ах, как я был рад, проснувшись, что это было во сне! — ещё, пожалуй, можно бы рассказать несколько моих снов, но все они относились бы к этим двум сферам жизни: к явлениям природы и к впечатлениям общественной и домашней жизни. Но самый страшный сон мой, надолго оставшийся смущением для меня в трусливые минуты, состоял в том, что обезьяны очень большого роста,— с высокого человека, и необыкновенно сильные,— сильнее медведя, и страшные лицами, похожими на человеческие, напали на группу людей, в числе которых был и я, стали бить, кусать и тащить к себе в лес. Я долго дрожал, если случалось вспоминать этот сон вечером, когда собираешься спать: ну что, если он опять приснится? — ужасно! — и точно, он иногда повторялся при начале дремоты с вечера, впросонках поутру.
Года два, три назад на столике продавца плохих картинок обыкновенного гравированья, заменивших прежние лубочные картины, я увидел картину, изображающую событие того же содержания, как мой сон. Надпись объясняла, что дело происходило в Африке, а эти обезьяны называются гориллы. Гориллы пущены в моду уже только в 50-х годах каким-то хвастливым путешественником по Африке из разряда путешествующих вралей. Я видел во сне точно таких обезьян, но они были не гориллы, а ещё просто орангутанги — имя это моя сонная фантазия заимствовала из «Натуральной истории» Рейпольского, а сцену — из «Московских ведомостей», которые помещали её где-то в Америке.
Из этого можно, кажется, убедиться, что насколько занималась грезами моя детская фантазия, она гораздо сильнейшее возбуждение и гораздо обильнейшие материалы получала из чтения, которым я занимался уже как член русской литературной публики, чем из жизни и рассказов окружавших меня людей.
Я был очень труслив и воображал себе ужаснейшие страхи, когда оставался один в темноте или хоть и не в темноте, хоть и среди белого дня, но как-нибудь далеко от людей,— однажды даже представилась мне в одном из таких страхов галлюцинация, она тоже замечательна с той же стороны. Я шёл, сильно труся, через комнату, в которой не было свечи, но было и не совсем темно: в окно светил месяц, и большой желтый четырёхугольник его света ярко лежал на полу,— я взглянул — и увидел, что на этом четырёхугольнике сидит на задних лапах очень большой белый тигр. С крайним трепетом я однако же как-то странно в тот же миг вздумал, что это только вообразилось мне, а в самом деле тигры живут в Индии, и бывают не белые, и что это не живой тигр, а [647] представившаяся мне в увеличенном виде наша белая кошка, которая точно так сидит на задних лапах и любит сидеть точно так на светлом четырёхугольнике окна, только не от месяца, а от солнышка,— разумеется, тигр не выдержал такой учёной критической беседы, и я ещё нисколько не оправился от ужаса, им наведенного, как он исчез.
Как смирна и скудна в отношении средневековой фантасмагоричности должна быть та обстановка, вырастая в которой трусливый ребёнок принужден заимствовать свои галлюцинации и страшные сны из «Натуральной истории» Рейпольского и «Московских ведомостей»!
III
Начнём новую главу,— о другом предмете,— не потому, чтобы я высказал о прежнем всё, что хотел высказать, нет, мы ещё вернемся к нему не раз и не два, как постоянно будем и возвращаться назад, и забегать вперёд, и больше всего делать экскурсии в стороны,— прежний предмет оставим не потому, что он истощен, а потому, что уж много страниц занято им, надоел он покуда, и покуда не пройдёт чувство пресыщения им, незачем продолжать толковать о нём. Итак, пусть будет новый предмет.
После времен доисторических всякая история должна начинать говорить о временах исторических,— за мифами следуют факты действительной народной жизни. Стало быть, так должно быть и в моей истории.
Всякая история, обещаясь рассказывать жизнь народа, вместо того рассказывает жизнь правителей, чего обещается не делать. Стало быть, и моя история поступит так же.
За временами и элементами мифическими во всякой истории следуют времена эпические, в которые действуют и восхищают сердца своим величием «герои сумрака», по счастливому выражению известного русского поэта и стилиста H. M. Карамзина: после Юпитера — Геркулес и проч., после Одина, Тора — Зигфрид и проч., у нас после никого — Рюрик, Олег и Святослав. Так и в моей. Но моя история, как уже известно, находит свою седую древность во временах очень новых по обыкновенному мнению других историков, и её эпические времена выходят не далее неизвестных мне с точностью годов первой четверти XIX столетия, и мой «герой сумрака» — один из пряников, отпечатанных по образу и подобию Людовика XIV.
О предместниках Алексея Давыдовича[496] не дошло до меня никаких слухов. Но великолепием и благостью Алексея Давыдовича полны были рассказы бабушки и бабушкиной компании. Алексей Давыдович не жил в городе, как и следует Людовику XIV, а тоже по соседству, вроде Версаля, на «даче». Дача на моей памяти ещё была верстах в двух от конца города,— теперь город уже подтянулся к ней. Это был огромный (пропорционально тогдашнему саратовскому размеру) дом, с флигелями, службами, с другим [648] домом, поменьше, но тоже большим, под боком, и у этого дома флигеля и службы,— всё это тянулось, быть может, на целую треть версты, если считать по длине каменного забора,— с боков и позади были роща, сад,— сад с прудами, пруды с островами и мостами, острова с киосками, киоски с цветными стеклами, цветные стекла с — нет, уже ни с чем больше, только сами с собою. По прудам плавали люди в лодках и лебеди без лодок, в роще и в саду, на мостах и на прудах и островах бывали иллюминации и фейерверки, в домах бывали балы и банкеты, превышавшие своим блеском всё, что могла представить себе фантазия повествовавших мне о том саратовок и саратовцев. Эпоха Алексея Давыдовича — в их воображении — один непрерывный праздник, двадцатилетнее всенародное ликование без одного не то что хоть месяца, а хоть дня для передышки.
Я не видел этих праздников, но мог бы их описать,— балы, если бы соединил маленький кусочек зала так называемого клуба в его бальные дни с маленьким кусочком вокзала, буфета и сада Минеральных Вод в один из их вечеров,— но, во-первых, я не был и на этих увеселениях, потому не могу описать и их, во-вторых, они очень известны всякому и без моего описания. Итак, всякий, кроме меня, может отчетливо вообразить себе картину великолепия эпических времен Саратова, невообразимую только одному мне, знакомящему с нею Россию и человечество, современников и потомство.
Но, не в силах будучи ни изобразить, ни вообразить этой картины, я могу дать некоторые указания для точнейшего её воссоздания воображением всякого другого человека.
Едва ли [не] половина высшего дамского круга, блиставшего на балах Алексея Давыдовича, состояла из дам и девиц, не обученных искусству чтения. ещё в моём детстве доживали век некоторые саратовские аристократки, не умевшие читать. Едва ли одна десятая часть высшего мужского общества тех же балов не нарезывалась мертвецки к концу бала — это не требует доказательств. Но каковы бы ни были их светские совершенства при таких данных, они и эти балы [были] представителями такого развития великолепной и тонкой светскости, которая повергала остальную толпу присутствующих в изумление, доходившее до сомнения, до неверия своим пяти чувствам, до отрицания перед самими собою и другими фактов, виденных собственными глазами отрицателей: нет, такого великолепия не может быть на земле! Нет, такого изящества не может достичь человеческая натура! — говорили новички, и только уже после долгой привычки получали силу постижения возможности действительно совершающего[ся] перед их глазами и восклицали: верю тому, что вижу!
Сообразно предмету, мой рассказ стал, как я вижу, эпопеею, то-есть я сильно заврался: конечно, никто и с первого своего присутствия на бале Алексея Давыдовича не сомневался, что он действительно, а не во сне видел всё, что видел,— и, не понимая [649] возможности существования такого великолепия на земле, не думал отрицать его существования. Но если не было этого, то это должно было быть.
Великолепный, как Людовик XIV, Алексей Давыдович был и великодушен, благодетелен и благотворителен, как Людовик XIV,— подобно ему, был покровителем всяких достоинств, заслуг и добродетелей, помогал бедным,— хотя бедных не могло существовать в правление Алексея Давыдовича, но всё-таки он помогал им щедро; отирал слёзы страдающих, защищал угнетенную невинность,— хотя, конечно, в его правление не могло быть страдающих и не могла угнетаться невинность, но всё-таки он защищал её и утешал их.
Такое дифирамбично-эпическое созерцание величественного образа Алексея Давыдовича и блаженства времен его было внесено [в] мои созерцательные способности рассказами бабушки. И хотя холодный рассудок говорит, что дифирамбичность сильно украшает истину, но он же, как известно, говорит, что под украшениями идеализации лежит истина.
Так и я, в моём детстве, когда ниспадал из области эпического созерцания в рефлексию, видел, что если Алексей Давыдович и не был окружен величием и великолепием уже совершенно невиданным никогда ни прежде, ни после нигде на земле, то всё-таки он действительно должен был жить очень пышно, задавать балы и банкеты с очень большим количеством блюд и вин, свеч и плошек, дам и кавалеров. Елтонская соляная операция была в его руках очень фамильярным образом, дававшим, по молве, чуть ли не сотни тысяч, и кроме того, он брал в Саратове и пригородах, тянувшихся к нему, всякие большие суммы, какие кто соглашался давать ему в заем, а таких простяков было довольно; про обыкновенные источники дохода нечего говорить.
Это холодное рассудочное объяснение первоначально запало мне в память не из рассказов бабушки о великолепии и благости Алексея Давыдовича, а из сожалений моей матушки о судьбе её доброй знакомой, которую звали Катерина Егоровна,— фамилии не помню. Катерина Егоровна была очень дружна с моею матушкою, и я помню её как очень добрую и ласковую девушку; она была для девушки уже не молода — вероятно, ровесница моей матушки. Она не имела ровно ничего и жила по каким-то родственным ли отношениям, или по памяти людей о важных одолжениях, полученных от её отца, в семействе вовсе не богатом, но не нуждающемся. Она была очень добрая, кроткая, по тогдашнему времени очень образованная женщина. Вот, жалея о ней в семейных разговорах, моя матушка и говорила постоянно, что её сделал нищею Алексей Давыдович. После отца Катерине Егоровне осталось 40 000 ассигнациями наследства; по тогдашнему саратовскому это было богатство, равное по крайней мере 80 000 р. для нынешнего времени в Петербурге. По какому-то случаю Алексей Давыдович имел возможность сделать распоряжение об этих деньгах,— кажется, Кате[650]рина Егоровна осталась малолетнею после отца, и можно было распорядиться через опеку,— или другим способом, всё равно, дело только в том, что Алексей Давыдович взял эти деньги долгом на себе. Само собою, что не было возможности воскресить сгоревшее сало с дегтем плошек, в виде которых эти деньги озаряли и восхищали Саратов, следовательно, не Алексей Давыдович, а закон природы был виноват в невозможности этим деньгам возвратиться в руки Катерины Егоровны ни при жизни, ни по кончине Людовика XIV моей саратовской истории. Когда мне было лет 10, Катерина Егоровна уже была только страдалицею,— она упала с экипажа, лошади разбили ей голову, её ум ослабел, за нею смотрела какая-нибудь старушка из прислуги, как за ребёнком; моя матушка навещала её, но меня уже не брала с собою; следовательно, мои воспоминания о ней, умной, доброй, прекрасной, ехать к которой было для меня радостью, принадлежат только самому первому детству, лет до 9 или до 8; следовательно, и знание моё об Алексее Давыдовиче с финансовой стороны начинается вместе с эпическими сведениями о нём, если не раньше их. Может быть, поэтому и не действовала на меня эпопея.
После времен, так отчетливо и живо отразившихся в эпосе Гомера, надолго всё прячется в туман неизвестности, и наконец, когда вновь открывается занавес, на сцене греческой истории вместо «богоподобных» Ахиллов, Агамемнонов, Приамов и Гекторов являются уже обыкновенные смертные, с обыкновенными человеческими приключениями. Так и в моей саратовской истории. После иллюминованной эпохи Алексея Давыдовича, подобного Людовику XIV, который был «подобен богам» по мнению надписей на его медалях, история Саратова на долгий период скрывается от моего детства во мрак безвестности, пока является история о путешествии Прасковьи Ивановны к Ивану Постному и его последствиях.
Одна из сестёр бабушки, Прасковья Ивановна, молодая, прекрасная женщина, долго не имела детей. А жили они с мужем, Николаем Ивановичем, не бедно. Николай Иванович на моей памяти был уже священником,— тогда он был только дьяконом или даже дьячком, но жили они с женою без нужды. А если так, то натурально, что дети были бы на радость, и Прасковья Ивановна горевала о своём неплодии. У неё была задушевная приятельница, мещанка, тоже молодая, добрая, прекрасная женщина, тоже жившая с мужем без нужды и точно так же не благословляемая от бога детьми и горевавшая о том. Обе приятельницы, толкуя со всеми добрыми приятельницами, а в особенности между собою о своём горестном обстоятельстве, беспрестанно доходили до выражения желания, не редкого в те времена в тех кругах у молодых женщин добрых, не нуждающихся и бездетных: «Если уж не даёт бог своих детей, хоть бы подкинули ребёнка,— рада была бы, как своего стала бы любить». В таких разговорах шёл год за годом, и пришёл неизвестный мне год, когда произошёл такой случай. Начиналась [651] осень, подходил Иван Постный (29 августа),— праздник в селе Увеке, верстах в 15 или 18 ниже Саратова на том же берегу Волги,— увекский Иван Постный очень уважается в Саратове и служит местом ближайшего паломничества благочестивых горожан. И я с моими старшими раза два-три ходил к Ивану Постному, то-есть к обедне в Увекскую церковь, только не в этот день, потому что в этот день — толпа, давка, шум и конечно не без очень сильного кутежа; но таких посетителей, не в день храмового праздника, очень мало бывало в Увеке; вся масса паломников идёт туда собственно «на Иван Постный», 29 августа, и только одним этим ограничивается паломничество: зато в этот день ходят туда очень многие. — Вот, накануне Ивана Постного, Прасковья Ивановна со своею приятельницею спросили друг друга, пойдут ли к Ивану Постному. «Мне нельзя, надо завтра полы мыть», или что-то такое, особое по хозяйству, сказала одна. «И мне тоже некогда, тороплюсь дошить рубашку мужу», или что-то тоже такое по хозяйству, сказала другая. Обе решили, что и не надобно много жалеть об этом, потому что работа — та же молитва, так её бог принимает. Разошлись. Спят. Среди ночи слышит Прасковья Ивановна — стучатся в ставень: «Спите что ли, добрые люди? Так проснитесь». — Прасковья Ивановна встала,— за ставнем услышали шорох и продолжали: «проснулись? — так выходите, примите, что бог послал»,— дело уже несомненное после этих слов, да и по первому стуку понятное для тогдашних саратовцев: стук спокойный, не пожарный какой-нибудь, не пугающий, а только будящий,— известно: младенца подкинули. Прасковья Ивановна выбежала за ворота, подбежала к окну, у которого стучались: конечно, уж тех и след простыл, а младенец лежит под окном. Взвыла Прасковья Ивановна,— но воем не поправишь дела: надо ум приложить. Прасковья Ивановна стала прикладывать ум, то-есть куда девать подкинутого младенца,— и приложила: «Да вот,— она произнесла в мыслях имя своей приятельницы, я его не слышал и не знаю, но для удобства надобно как-нибудь назвать приятельницу, пусть она будет хоть Прасковья Петровна,— да вот Прасковья Петровна говорила, что с радостью взяла бы такого младенца,— к ней надо». Надевши башмаки и остальные принадлежности, Прасковья Ивановна пошла с малюткою, положила его у окна приятельницы, постучалась как следует, сказала как следует, что дескать бог послал,— сказала, разумеется, чужим голосом, как следует, и торопливо отбежала в сторону, дожидаться, пока выйдут взять младенца (добрые люди так подкидывают: дожидаются за углом, пока выйдут взять младенца, иначе нельзя, не христианское дело: ну, что, если не добудились? младенца собаки съедят). — Слышит, приятельница стукнула дверью, идёт принимать младенца,— и Прасковья Ивановна благим матом,— то-есть сломя голову,— бросилась бежать домой. Благополучно добежавши домой, стала она рассуждать,— конечно, после такого дела не вдруг-то заснешь: «А ведь ко мне к первой придёт Прасковья Петровна рассказывать, [652] а я какими глазами буду смотреть на неё? — Уйду к Ивану Постному».
Бродит Прасковья Ивановна около церкви, пришедши к Ивану Постному,— глядь, и её приятельница тут же. «Как она здесь, когда сказала, что не пойдёт? Видно, прибегала ко мне, сказала ей матушка об нашем происшествии, как подкидывали к нам, она и догадалась, от кого получила, пришла сюда меня ругать». — И Прасковья Ивановна пятилась в толпу подальше от своей приятельницы,— благо та ещё не заметила её. Но вот,— идёт, идёт! не спрячешься! — Что ж, уж надо самой начать каяться. «Прости ты меня, мать моя Прасковья Петровна, согрешила я перед тобою»,— обратилась Прасковья Ивановна к подходящей приятельнице, чтобы воспользоваться хоть снисходительностью к «повинной голове», которую «меч не сечет». — «Что, моя матка, Прасковья Ивановна, какая твоя вина передо мною? — отвечала ещё вздыхательнейшим тоном приятельница: — моя вина перед тобою больше. Я начала. Как ты мне его принесла, я так и подумала, что ты догадалась, от кого тебе, было приношение, потому и назад воротила ко мне. Со стыда, моя матушка, и сюда-то ушла, от тебя,— да как увидела тебя тут, совесть-то не вытерпела, пойду, говорю, покаюсь теперь же перед нею: ведь когда-нибудь надобно же будет каяться, так уж лучше поскорее грех-то с души долой. Прости ты меня, Прасковья Ивановна, матушка». — «Так вот оно какое дело-то вышло! Это ты мне его подкинула!» — говорила Прасковья Ивановна. — «Я подкинула, мать моя, вот оно какое дело-то вышло. Как подкинули мне его, я думаю: куда девать. Думаю: отнесу к Прасковье Ивановне, она часто говорила, что рада была бы принять». — «Так-то и я про тебя рассудила, мать моя, Прасковья Петровна, что понесла его к тебе подкинуть». Повторивши по нескольку десятков раз: «матка моя» и «матушка моя», и «мать моя» с взаимными именами и отчествами, «вот оно дело-то какое вышло», «вот оно как вышло-то» и прочее, и досыта накачавшись головами и навздыхавшись над таким вышедшим делом, приятельницы могли, наконец, двинуть дальше свой разговор. — «Что же ты, матка моя, будешь с ним делать-то?» — спросила Прасковья Ивановна,— «Как, моя матка, что делать? Я уж сделала,— и не в догадку, что надо рассказать, совсем забыла: уж подкинула». — «Подкинула?» — «Как же, матка, в тою же секунду, как ты мне назад-то принесла, я опять пошла подкидывать,— да уж, чтобы опять греха не было, не воротился бы ко мне, так в тот конец города, к Илье Пророку,— далеко, так одной-то страшно, мужа с собой брала». — «И хорошо подкинула?» — «Хорошо, тут бог помог, хорошо. Да ещё я тебе скажу, как хорошо-то вышло: знаешь, стоим мы с мужем-то, за углом-то, ждём, покуда выйдут младенца-то принять,— а в эту самую пору, как они выходят-то, бог на наше счастье и пошли, идёт человек,— лакей ли, приказный ли, в шинели,— так и идёт себе,— знаешь, ничего этого не знает. Они на него: это ты, говорят, подкинул! — Знаешь, двое мужчин выскочили,— видно, [653] семейство уж опытное, не то, что у нас с тобою. — „Ты, говорят, подлец, подкинул!“ да [за] шиворот его: „бери“, говорят. А мы с мужем-то: слава те, господи! — крестимся, да бежать, бежим да крестимся: слава те, господи! Вот оно устроилось как хорошо». — «Ну, слава богу: истинно хорошо, что так». — «Хорошо, матушка».
Итак, приятельницы ещё не знали, чем кончилось устройство дела, но когда воротились в город, всё ещё твердя «вот оно как вышло», «вот оно, какое дело-то выходит»,— то услышали, что вышло ещё дело, и несколько дней душа у них была в пятках, не проболтаться бы как, не добрались бы до них,— но слава богу, остерег их милостивый господь, не проболтались, и никто тогда не дознался, что от них это вышла такая история, что губернатора схватили за шиворот и заставили взять младенца. Впрочем, если б и дознались, не было бы им большой беды,— поясняла нам моя бабушка: — потому что и с этими людьми,— тоже из мещан,— которые схватили его за воротник, он ничего не сделал: оттого что нельзя было ему шум-то подымать: зачем, скажут, в такую пору по дальним улицам ходил? — «А зачем же, бабенька?» — Ну, известно зачем: распутник был. А они ему и бока помяли, покуда сначала спор-то у них был. Он сначала не сообразил, что уж нечего, покориться надо, чтобы не вышло больше сраму, поупрямился было, говорит: не я подкидывал, не беру. Да спасибо, скоро образумился,— взял, понёс. — На часть принёс, там отдал, на их содержание,— приставу в наказанье, что за порядком не смотрит. Только тем и кончилось».
Фамилию Алексея Давыдовича я очень хорошо знаю, и тогда же мне сказывали; но как была фамилия этого его преемника, не помню: он, видно, не выдавался ничем особенным из ряда предместников и преемников и сливался с ними в общем прозвании по должности. Но как бы ни была его фамилия, а ясно, что эпоха, обозначаемая этим его приключением в детской истории Саратова соответствует временам Регента и Людовика XV в обыкновенной французской истории. Нельзя не возвышаться духом и не ликовать мыслью, находя такую правильность исторического развития и в великом, и в малом масштабе, и нельзя не воскликнуть: непреложны пути истории, всегда и повсюду, одни и те же, и своим тожеством во всех временах и странах свидетельствующие о единстве коренных сил, развивающих движение событий, и о неизбежности для всякой страны того же прогресса, какой достигнут хоть где-нибудь!
Но если в саратовской истории был Людовик XIV, потом были Регент и Людовик XV, то через несколько времени была и эпоха террора? — Была. Она лежит на границе моих детских и моих уже не детских годов,— как и эпоха, называемая террором и тому подобными именами в обыкновенных историях, лежит всегда на границе между детскою и уже не совсем детскою жизнью нации. Англия имела эту эпоху в половине XVII века, Франция в конце XVIII, моя детская история Саратова в 40-х годах XIX века. [654]
После губернаторов, имена которых погибли для моей истории по причине моего нахождения в малолетии под их управлением, настало, наконец, время губернатора, фамилию которого я знаю уже по личной своей памяти, а не [по] преданиям древности. К этому губернатору приехал и поселился в Саратове его сын, молодой человек, отличавшийся довольно буйными свойствами. Конечно, никакие преграды не противупоставлялись им, и скоро стал он ездить по ночам с своею компаниею по улицам для потехи молодецкой над прохожими. Издевались, хватали, трепали, колотили,— и ничего, Саратов благодушествовал,— порицал в сокровенности дружеских бесед, роптал себе под нос, чтобы никто не услышал, но благодушествовал. Скоро стали каждое утро находить на улицах то одного, то двух убитых. Но благо[ду]шествовали. Говорили: губернаторский сын режет людей, это его с его шайкою дело. Шла неделя за неделею; режущие, видя благодушествование города и наслаждаясь безмятежным спокойствием, ободрялись больше и больше. Стали резать не только во мраке ночном, но расширили свои занятия и на время рассвета, и на время сумерек,— наконец, совершенно убедившись, что их дело не такое дело, которому надобно бояться света, стали заниматься им на стогнах града и при свете солнечном. Да не подумайте же, что я употребляю такие выражения в виде украсительных словоизвитий,— нисколько. Резали в раннюю обедню и возобновляли резанье в вечерню,— буквально; резали на всяких улицах, не то что только в глухих, пустынных,— нет, и на главных. Особенно хорошо и много резали на площади Нового Собора, через которую надобно проходить из южной половины прибрежной части города на рынок съестных припасов, на «Верхний базар». На Соборной площади стоит самое большое из тогдашних зданий Саратова, корпус, в котором тогда помещались почти все присутственные места, с другой стороны — архиерейский дом, с третьей стороны — гауптвахта. Средина площади, довольно большой, занята бульваром. На этой-то площади и резали в продолжение всего времени от начала вечерни до конца ранней обедни, а от конца ранней обедни до начала вечерни не резали. «Нельзя, губернаторский сын», говорила полиция. — «Что делать, губернаторский сын», говорил город. И благодушествовали. Сколько времени это продолжалось, я не могу сказать в точности, но наверное не две, не три недели, а гораздо, гораздо больше. Я полагаю, месяца три, если не больше. Сколько народу было перерезано, этого, конечно, не только не умею сказать я, этого нельзя доискаться и никакими справками: сочтешь ли всех. Но положительно надобно сказать, что в это время было перерезано не то, что десятка какие-нибудь полтора, два человек, а несравненно больше; по размеру впечатлений готов бы сказать, что было перерезано человек полтораста, двести,— может быть, до трёхсот; но, конечно, это будут преувеличенные цифры; а верно то, что не две, не три недели продолжалось открытое резанье людей на улицах, не только без поимки, даже без всякого преследо[655]вания резавших. Это было уже в 40-х годах, в губернском городе, на главных улицах и площадях города. Это так странно, что я готов бы сам не верить точности выражений, употребляемых мною для характеристики этой удивительной процедуры, но не могу не видеть, что эти выражения точны,— как же я отрекусь от них из трусости показаться человеком, прикрашивающим дело, когда в моей памяти остаётся, например, следующий рассказ.
Авдотья Петровна, одно из лиц, составлявших население нашего двора, героиня одного из следующих моих повествований, наша добрая знакомая, небогатая мещанка, имевшая лавочку на Верхнем базаре, пришла к нам под вечер и рассказала, что поутру чуть не зарезали её. Она шла в свою лавочку. Звонили «достойную» ранней обедни то в той, то в другой церкви, когда она переходила площадь Нового Собора. Она шла, держась подле бульвара, огороженного тогда решеточкою только четверти в три или в аршин вышины. На бульваре было довольно много ям, приготовленных для посадки новых лип. На той стороне площади, по которой шла Авдотья Петровна, шло ещё человек пять, шесть. Был полный солнечный свет. Вдруг крик,— на двух из шедших по площади наскочили откуда-то взявшиеся люди, сбили их и стали резать. Другие прохожие поспешили убежать, кому куда ближе, с площади в улицы. Авдотье Петровне до всякой улицы было далеко, она перескочила через низенькую решеточку бульвара, добежала до одной из ям, бросилась в неё и просидела там с полчаса, если не больше. Через несколько минут операция зарезывания была кончена, зарезавшие ушли, всё стало тихо,— через минуту опять шли по площади обыкновенные прохожие, но Авдотья Петровна боялась высунуться из своей ямы, пока не стало слышно на площади уж очень много проходящих.
Вот вам,— что вы прикажете делать с таким обстоятельством? Я готов бы положить, что молва подвигала резню слишком далеко в дневное время, слишком надвигала её от тёмного вечера и от тёмного утра к обеду,— но когда же могла Авдотья Петровна идти отпирать свою лавку, как не перед самым началом базарного времени? Неужели же базар начинается бог знает в какие утренние потемки?
Этот случай отчетливо остался в моей памяти, потому что был с хорошею нашею знакомою, рассказ которой я и слушал в тот же день. Но совершенно подобные случаи слышались тогда беспрестанно.
Опять: я готов был бы не говорить, что полиция оправдывалась перед жителями в полном непреследовании режущих, объясняя, что «нельзя: ведь это губернаторский сын». Само собою кажется, ясно, что губернаторский сын не резал же людей на улицах, чтобы отбирать с убитых одежонку, какие-нибудь два, три целковых деньжонок,— то-есть само собою кажется ясно бы должно представляться полиции, что такая отговорка слишком нелепа, а жителям, что это просто насмешка над их простотою, когда употребляется [656] такая отговорка; я понимаю, что и делающие, и принимающие отговорку выставляются ею жителями какого-то до неправдоподобности идиотского века и места. Но что ж мне делать, когда так было? Нельзя же утаивать правду для того, чтобы не нарушать правдоподобия.
И опять, я чувствую, что прилагаю к рассказываемой мною жизни мерку, чуждую ей, когда нахожу неимоверным то, что помню и что действительно так было. Что губернаторский сын не резал, это, конечно, так; что и сорванцы, окружавшие его в ночных проказах, могли не заниматься сами резанием, когда упражняли свои сорванецкие таланты в отдельности от своего патрона, как самостоятельные герильясы, это может быть, хотя может быть и иначе. Он мог только не знать, что его сорванцы стали заниматься и настоящим разбойничеством. Но участвовали ли в резаньи людей эти сорванцы или нет, а несомненно то, что резанье для грабежа основалось на сорванецких проказах, производившихся для потехи, и прикрывалось ими. Это доказано развязкою дела.
Развязка дела имеет характер подвига, совершенного в древности Брутом Старшим[497]. Отец-патриот принёс сына в жертву на алтаре отечества. Как, до кого дошли слухи, этого мои саратовцы, конечно, не знали,— только отец узнал, что слухи дошли, и написал письмо, в котором говорил, что вот сам доносит о беззакониях своего сына, пусть делают с сыном, что хотят, хоть казнят смертью, он, отец, будет рад. Сына отправили из Саратова на Кавказ. Из этого ясно, что ночные буйства для потехи и резанье имели действительно тесную связь,— иначе не зачем было бы подвизаться в виде Брута Старшего.
И опять, шалости шалостям рознь. Об ином сорванце, конечно, только дураки могут говорить или верить, что он режет людей на улицах,— так, для упражнения руки. А как назвать выдавание или принимание такого мнения за правду идиотством, когда, например, был такой случай.
Подле дома, где жил Брут с сыном, был дом нашего знакомого, отчасти непостижимо далекой степени родственника, помещика средней руки. У него было несколько дочерей. Большую часть двора занимал сад. Окна Брутовского дома смотрели в сад. Однажды дочери помещика гуляли по саду, услышали пистолетный выстрел из окна Брутовского дома, взглянули, увидели, что выстрелил сын Брута, впоследствии принесённый на алтарь отечества, а теперь пока вздумавший попробовать, не удастся ли ему сделать то, что рассказывают про старинных венгерских удальцов: отбить пулею каблук у башмака идущей дамы или девицы. Но не удалось: пуля вошла в землю довольно далеко от пятки, для которой предназначалась,— четверти на две промахнулся.
И только? — только. Теперь: если днем,— следовательно менее пьяный, чем ночью,— из своего дома, следовательно не до того разгоряченный, как при скачке с криком, гвалтом и схватками на улице,— человек стрелял в пятки людям для пробы руки,— то [657] скажите, что же особенно глупого в предположении, что трупы, находимые на улицах после его кутежных прогулок по улицам, могут быть трупами его фабрикации?
Опять меня берёт сомнение: не покажется ли странновато, что могли производиться сыном Брута ночные проделки, от которых один шаг до разбоя? Но нет, есть же предел всякому скептицизму,— иначе, пожалуй, я усомнюсь и в следующем происшествии, которое засвидетельствовано судебным приговором.
Когда находил набожный стих на мою бабушку и её собеседниц, то выражали они сожаление, что в Саратове нет мощей. В будущем была очень верная надежда на мощи. Преосвященный Иаков был человек такой строгой и святой жизни, что собеседницы не сомневались в достойности его быть прославлену от бога открытием его мощей (когда его перевели в Нижний-Новгород, говорили, этот шанс погиб для будущности Саратова, и я слышал такие размышления: видно, не угоден богу наш город, что отнимает он у нас архиерея, от которого были бы у нас мощи). Но всё-таки, если была надежда в будущем, то ещё только далеком: ведь мощи открываются через десятки [лет] по смерти святого мужа; а тут и святой ещё находился в добром здоровье и не старых летах. — Но вот, одна из собеседниц (чуть ли не моя бабушка) сообщила другим, что по примете одной старушки (чуть ли не моей прабабушки) должны скоро открыться мощи: старушка из своего окна, обращенного к Соколовой горе, видит на этой горе, на пустынном месте, каждую ночь маленький огонек,— будто свеча теплится,— должно быть, над мощами, и, должно быть, скоро они должны открыться, когда уже возжигается над ними небесный свет. Кружок бабушкиных собеседниц стал наблюдать по ночам из окон: точно, возжигается свет на Соколовой горе, будто свеча теплится. Положили: быть тут мощам и скоро открыться им. Кажется мне, что именно моя прабабушка первая заметила этот симптом будущего и что через мою бабушку он вошёл в сведение кружка, в котором и я сиживал. Но не ручаясь, действительно ли открытие это принадлежит прабабушке, а его распространение — бабушке, я уже отчетливо помню, что кружок убедился в возжигающемся свете собственными наблюдениями и что моя бабушка и её сестра Анна Ивановна твёрдо ждали открытия мощей.
Итак, возжигающийся свет не представлял в себе темноты, как и натурально. Но совершенно другое дело, чисто житейское и коммерческое, представляло темноту. Вокруг Саратова много ветряных мельниц. Построилась ещё одна мельница, которую наши заметили оттого, что она была видна с дороги в мужской монастырь, куда нередко езжал летом мой батюшка по делам, к архиерею Иакову, переселявшемуся туда вместо дачи. С батюшкою,— когда было время собраться, а не вдруг ему встречалась надобность ехать,— отправлялись и мы гулять по монастырской роще, пока он занимается делами с Иаковом. Матушка и тетушка говорили: что-то странна эта мельница, никогда не видно, чтобы она молола. Да и [658] поставлена она на таком месте, что неоткуда возить хлеб на неё. И место слишком неудобно для мельницы ещё в другом отношении: закрыто горами от господствующих ветров, так что вообще в нём затишье.
После этих двух предисловий начинается история. В нескольких верстах от Саратова, близ деревни Гуселки, но отдельно от деревни, выстроил себе порядочный домик один вновь приехавший господин, одинокий, немолодых лет, хороший человек, по словам соседних владельцев, с которыми познакомился,— но главное не в том, что хороший человек, а что были у него некоторые прихоти, тоже все хорошие: любил он читать книги, любил смотреть на звезды, на тот берег Волги в зрительную трубу,— это всё прекрасно, но опять не в том дело, что прекрасно, а вот, что для своего смотрения в зрительную трубу он купил хорошую зрительную трубу,— любя читать книги, покупал их; то-есть не отказывал себе человек в прихотях,— ясно, что у него есть деньги. Тоже у него были и ружья хорошие,— он тоже развлекался и охотою, да вообще у него были хорошие вещи. Словом, видно, очень видно, что у него есть деньги. Вы ждёте: «окажется разбойник»,— нет, он так действительно и был хороший человек, немолодых лет, отставной офицер или моряк,— и разбойник был не он, а на него напали разбойники, потому что у него, явное дело, есть деньги, а живёт он один. Кроме него, было только человека два прислуги, чуть ли не женщины,— да девочка, дочка слуги или служанки. Вот в одну ночь нагрянули разбойники, живо связали прислугу,— барин, кажется, успел заметить шум, так что оборонялся, чуть ли не успел сделать и выстрел из ружья, но это всё равно, его скоро одолели и связали,— а девочка успела убежать, разбойники и не заметили её, стали искать денег,— нашли деньги самые ничтожные, только на текущий ежедневный расход, каких-нибудь 15, 50 рублей, в этом роде,— где ж деньги? — Расспрашивали прислугу, барина,— не добились искреннего показания, стали грозить пыткою,— и тем не проняли,— стали пытать,— все эти обыски и допросы заняли [так] много времени, что девочка добежала до деревни, поднялись, собрались мужики, пришли, окружили дом, гаркнули «лови!» — разбойники бросились бежать — соседняя деревушка небольшая, мужиков было немного, не успели поймать никого, все разбойники убежали. — Убежали, но в торопливости оставили разные свои вещи нападательного свойства, которые положили было, чтобы рукам была свобода заниматься обыскиванием и пыткою. Мужики нашли трофеями своей победы несколько обыкновенных принадлежностей ремесла побежденных, из разряда кистеней, ножей, топоров,— и одну штуку, вовсе необыкновенную в такой компании: шпагу военно-гражданской службы — оправившийся хозяин дома с удивлением стал рассматривать её — и прочел на ней фамилию владельца: «Баус»[498]. Баус был один из четырёх частных приставов богохранимого,— уж действительно бого-, а не человеко-хранимого, как ясно видим из этой истории,— города Саратова. Тут уж [659] ничего нельзя было сделать: промах дан слишком сильный. Баус был атаманом одной из разбойничьих ватаг. Эта ватага, между прочим, устроила себе приют, «пещерку малу», по выражению летописца Нестора, в том месте Соколовой горы, где мои старушки видели «возжигающийся огонь, как бы свеча теплится»; той же ватаге принадлежала и флегматическая мельница. — «Гле-ко (гляди-ко), смотрите-ко, что вышло,— говорили мои старушки: — а мы совсем не то полагали на Соколовой-то горе».
Этот уголовный случай напоминает мне маленькую историю совершенно невинного,— скорее даже благодетельного характера, в которой мы втроем с приятелем моим NN и нашим кучером колдуном Павлом играли прекрасную роль спасителей гибнущего человечества. Дело было более чем десять лет по окончании моего детства, но мы увидим, что оно хорошо для истории моего детства с историческо-гражданской стороны.
Я был учителем в саратовской гимназии. Один из моих товарищей, Сергей Алексеевич Колесников, позвал нас к себе на закуску как-то зимою, чуть ли не на масленицу. Я отправился вместе с одним из моих тогдашних друзей. Мы с [ним] поехали на нашем экипаже, если можно назвать этим именем наши сани, свойства которых я опишу, когда дойдёт до того дело. Подъезжая уже к дому, где жил С. А. Колесников, мы обогнали старушку, шедшую по той тропинке вдоль забора, которая соответствовала тротуару, скрывавшемуся под нею на пол-аршина или аршин снега. Старушка была замечена нами собственно как старушка,— с филантропической точки зрения, что в такой мороз идёт она в шубенке недостаточно комфортабельной по некоторой недостаточности и некоторому излишеству прорех. Пожалели, обогнали, приехали к С. А. Колесникову, закусили, я поиграл в карты (я играю в карты; как, это вероятно тоже будет объяснено мною со временем, по психологической интересности этого процесса),— значит, мы просидели часа три,— может быть, и побольше. Но мой спутник, не игравший в карты, торопил меня, скучал среди играющих,— и мы в начале сумерек поехали назад. — «Что это? По сугробу! — возьми поправее, Павел, надобно [посмотреть], что это за женщина. Да это та же самая старуха!» — Точно, она,— бредет около того же места, где мы обогнали её, только уж не по тропинке, а целиком по широкой полосе, занимаемой неприкосновенным снегом в полтора аршина глубины, между пешеходною тропинкою вдоль забора и санною дорогою посредине улицы. — «Бабушка, да это всё ты же тут ходишь?» — мы вывели старуху из сугроба на средину улицы. — «Что ж это ты?» — «Иду, батюшки мои». — «Куда же ты идешь, бабушка?» — «Домой». — «Где ж у тебя дом?» — «Зятек с дочкою живут в избушке подле Уфимцева сада». — «Да ведь это версты три за городом? Как ты дойдешь? Где тебе дойти? У тебя уж рот-то стал коченеть, не то что ноги,— вишь тебе уж и говорить-то не свободно». — «Точно, батюшки мои, точно, что сводит лицо-то, заскорузло». — «Как же ты [660] дойдешь? Тебе надобно переночевать здесь где-нибудь. Ты у кого была в городе-то?» — «У кумы, батюшки мои». — «Где живёт кума?» — Старуха назвала очень далекую местность города. — Туда везти её — не приходится, а так оставить нельзя: старуха от мороза и закоченела и уж совсем потеряла рассудок,— не разберёт, что идёт по сугробу, не разберёт, что всё прохаживается взад и вперёд по одной улице. Как быть с нею? — «Мы тебя, бабушка, довезем до части, там обязаны дать тебе переночевать, да и пристава мы попросим, или кто там есть, хорошо приютят и покормят, а завтра поутру и пойдешь домой». — «Батюшки мои! — взвыла старуха: — не губите моей души. Там меня убьют!» — Мы доказывали ей, что нет, не убьют, а дадут поужинать и уложат спать. Но никакие резоны не действовали: «Убьют! там убьют! в части убьют! В части всегда убьют!» — твердила старуха с таким убеждением, что мы подались и пошли на компромисс: вместо части предложили соседнюю будку; против будки старуха не имела такого твёрдого убеждения, была сбита нашею диалектикою, сказала наконец: «Ну, на будку так и быть подвезите, мои батюшки». — Мы сдали старуху будочнику с объявлением, что завтра полицеймейстер наведёт справки о том, спокойно ли старуха проспала ночь и в целости ли отпущена.
Мнение старухи важно потому, что подано в обстоятельствах, при которых изливается из души чистейшая искренность, без всякой возможности софистики, риторики или капризности, а главное, при которых слова человека уже не могут считаться проявлением индивидуальности, а должны быть принимаемы за квинт-эссенцию национальной мысли: у старухи всё личное уже находилось в замороженности: глаза не разбирали дороги, рот с трудом разевался, рассудок перестал действовать,— и в этом состоянии человек уже бывает только эхом духа своей нации. Такая находка с учёной стороны всегда бывает психологическою драгоценностью.
Да, старуха выразила сущность нашего саратовского воззрения на часть, представительницу организующего начала нашей национальной жизни в её глазах. — Но за шутку или не за шутку захотите вы [принять] такое значение, находимое мною в словах старухи,— не подумайте, что я виню нашу русскую полицию вообще или хочу выставить вам особенно дурною саратовскую полицию моего детства. Правда, я нахожу, что если в данном случае ожидание смерти себе от рук полиции было ошибочно со стороны старухи, то признаю вполне основательным её убеждение как общий принцип, из которого её дело было исключением, из которого множество дел, миллионы дел,— пожалуй, огромное большинство отдельных случаев бывают исключением, но который всё-таки обнимает собою национальную жизнь и жизнь каждого постоянно и повсюду, без всяких исключений. Несколько странновато кажется такое моё рассуждение: что, дескать, хотя огромное большинство случаев не подходит под принцип, но все факты подходят под него без всяких исключений. Это ничего: читайте дальше, вы увидите, [661] что я всё так рассуждаю, что хотя 2 × 2 и составляют очень часто 4, но решительно всегда бывают 5, а не 4. Я собственно [говорю] с тем, чтобы рекомендовать вам такую логику. С отвлеченной точки зрения она кажется странновата; но жизнь вообще всего человечества от эпохи обезьянного периода до наших времен, а по преимуществу жизнь нашей с вами нации с XVI века по сие время постигается только при помощи такой логики. Потому до сих пор и нет порядочной истории ни всеобщей, ни какой частной, ни в особенности русской, что историки не умели овладеть ключом к истории, то-есть логикою, с которою я вас знакомлю.
Проникнуться этою логикою не совсем легко, и для вашей практики в ней я расскажу вам другой случай, в котором она прилагается довольно просто.
Однажды зимою в начале 1840-х годов я сидел у окна, выходящего на улицу. На улице ничего любопытного, по обыкновению,— но всё-таки приятно смотреть на улицу,— вдруг, что такое? — бегут несколько человек, сломя голову,— ещё, ещё,— десятки, сотни людей,— не на пожар, не [на] другое какое зрелище, нет, не тот бег, не любопытный и спокойный, а отчаянный,— бег от погони. Эта преследуемая незримой опасностью процессия была так велика, что все наши успели заметить её, подошли к окнам, смотрели, дивились. Большинство бегущих были простые люди в полушубках, но много было и армяков, были и волчьи шубы, и благородные шинели,— процессия состояла исключительно из мужского пола,— были в ней и дети, так называемые мальчишки (потому что дети только благородные), но мальчишки только уже порядочных лет: десяти, двенадцати; были и старцы, убеленные сединами, но старцы бойкие ногами, благословенно процветающие крепостью сил, и в небольшом числе,— а огромное большинство составляли пылкие юноши и люди в летах мужества, полного сил и гордого силами. Словом сказать, бегущие составляли отличнейшую часть физических сил саратовского населения. «А, это должно быть с кулачного боя погнали», стали замечать мои старшие по мере того, как подходили к окнам,— точно, никто из старших не ошибся, как все подумали одно, так все и угадали истину. Бои в ту зиму были на Волге, несколько пониже нашего дома. Бой был в полном разгаре, как на берегу явился полицейский с несколькими будочниками,— и сражающиеся ринулись бежать. Будочники погнались за ними; вероятно, кое-кого, у кого ноги были поплоше, успели и захватить; а может быть, и все спаслись, не случилось слышать.
Что тут особенного? — скажете вы: — так всегда бывает. И стоило ли это рассказывать?
Всегда, или почти всегда, и ничего особенного тут нет; но тем оно и важно, что ничего особенного тут нет. А рассказывать это стоило потому, что после такого рассказа вы обратите серьёзное внимание на следующие мои дефиниции, а не отвергнете их с пренебрежением, как бессмыслицу. — Что такое волк и медведь? — спрашиваю я себя и отвечаю: [662]
Так называемый волк есть обыкновенная овца; что же касается до медведей, то большинство их — телята, но некоторые — из породы козлов.
Так учит жизнь. Она странно, странно колеблет незыблемость всякого рассуждения о свойствах вещей. Вы видите кусок воска — я вам говорю: не ручайтесь, что это не кусок железа, что он не может вдруг оказаться крепким и острым перочинным ножичком. Вы видите камень — я вам говорю: не ручайтесь, что это не булка, очень вкусная и питательная.
Эх, говорю я хитро, непонятно.
Попробуем говорить проще. Бегущая кавалькада, виденная мною в древности, сильно припоминалась мне в средние века, когда я был уже философом, то-есть учеником философского класса в семинарии, ходил смотреть на кулачные бои, в которых подвизались и мои товарищи, некоторые друзья. Мне нельзя было и думать принять участие в битве: синяк на лице моём опечалил бы семейство,— я не вмешивался даже в полюбовные, дружеские кулачные бои в классе,— я так привык думать о себе, что мысль вмешаться в кулачный бой была так же чужда мне, когда я смотрел на него, как мысль быть муравьем, когда я, любуясь на них, сиживал у муравейника,— да если б и пришло мне в мысль пойти в бой, мои приятели, небьющиеся и бьющиеся, не пустили бы меня,— итак, я стоял одним из тех немногих зрителей, которые смотрят на бой как на дело, которое никак не касается их,— но в какой экстаз всё-таки постепенно приходил я! Это опьянение, это восторг! И сердце бьётся, и кровь кипит, и сам чувствуешь, что твои глаза сверкают.
Это чистая битва,— но только самая горячая битва, когда дело идёт в штыки или рубится кавалерия,— такое же одуряющее, упояющее действие. Бывали ль вы в порывах экстаза от чего-нибудь,— от пения, концерта, оперы,— я бывал и плакал от восторга,— но это всё не то, всё слабо перед впечатлением моим от кулачных боев.
Теперь,— действующий увлекается сильнее, чем зритель,— я полагаю, что это понятно; теперь: эти действующие, они не только увлечены опояющим действием, они — большинство их — и по всегдашнему темпераменту люди отважные, многие — бесстрашные, некоторые — герои в полном смысле слова. Итак, отважные, руководимые героями, разгоряченные до высочайшего экстаза — вдруг бегут, как зайцы, от нескольких завиденных вдали крикунов, которые не смели бы подойти близко и к одному из них, если б он хоть слегка нахмурил брови и сказал: назад! — не посмели бы, потому что он один сомнет их всех одним движением руки, как я смял бы пяток, десяток пятилетних ребятишек,— и сотни таких людей — бегут! — Что это такое? Это непостижимо для меня по правилам вашей логики, это объясняется только моею: дуб есть хилая липа, свинец есть пух, желтое есть синее, зеленое есть красное, белое есть чёрное. [663]
Позвольте, ещё два случая, в которых героем был уже я.
В первую половину моего детства на должности нашей дворовой собаки был Орешко,— разумеется, мой приятель, уже не молодой, потому солидный и при благородстве своего характера снисходительный к шалостям молодежи. Я ездил на нём верхом, много надоедал ему, он смотрел на это сквозь пальцы. Однажды, он лежал на одной из площадок лестницы, я сидел подле и шалил над ним,— у меня в руке было несколько листьев зори,— вы знаете эту пахучую траву? — Я, между прочим, давал её нюхать ему, пихал её в нос ему,— он воротил нос,— и всё обходилось снисходительно с его стороны,— вы уже знаете развязку; ну, да, конечно: вдруг Орешко хамкнул с громким стуком зубов в полувершке от моего носа,— в эту секунду я чуть не умер со страха,— и опять Орешко спокойно лежит, положив голову на лапы,— когда я через секунду раскрыл глаза, чувствуя, что не проглочен им и даже не укушен,— и опять он, добрый, снисходительно смотрит на мои шалости.
Нет ничего особенного и в этом анекдоте? — Хорошо, другой. Тоже в первую половину моего детства, несколько лет жили у нас павлины,— иногда пара, иногда и много. В одно лето я возымел охоту гоняться за павлинами и упражнялся в этом неутомимо. Десятки раз я доводил павлина до того, что он плакал бы от моего надоеданья, если бы птицы могли плакать. И вот, в двадцатый или пятидесятый раз я преследовал несчастного павлина, как вдруг он усиленно прыгнул вперёд, взмахнув крыльями, обернулся, взмахнул крыльями, подскочил и клевнул меня в голову; я так и присел на месте. Как рукой сняло, перестал гоняться за ним.
— Да и во втором анекдоте нет ничего необыкновенного,— скажете вы. А разве я говорил, что второй анекдот будет необыкновеннее первого?
Теперь, однако, сообразите, что ж это такое? — ведь настоящий отдел моих воспоминаний занимается историею общественной жизни Саратова, как я знал её в моём детстве,— и чем же наполнился? Есть некоторые страницы как будто путные, относящиеся к делу; на других — чёрт знает что, всё вместе — нескладица, какой свет не производил. Не скажу, что у меня сначала было намерение, чтобы вышло так,— не скажу и того, чтобы почти при самом начале не увидел, что выходит так,— не скажу, что если бы зрелое обдумывание да возможность следовать ему, то я почел бы именно такую манеру обработки предмета наилучшею для передачи вам сущности его,— но опять не скажу, чтобы, когда манера обработки стала выходить такая, то чтобы не показалось мне очень хорошо передающею сущность предмета.
Очень давно, не помню, в средних ли только веках моей личной истории, то-есть до третьего, четвёртого месяца 1848 года, или ещё в древности, то-есть до поступления в семинарию, мне стало думаться, что если арабский язык, как я прочел ещё в детстве, превосходит все другие необычайным богатством терминов для обозначения [664] верблюда,— то русский точно так же превосходит все другие богатством выражений для обозначения бессмыслицы.
— Чепуха, вздор, дичь, галиматья, дребедень, ахинея, безалаберщина; ерунда, нескладица, бессмыслица, нелепица, гиль, ералаш, сумбур, кавардак, бестолковщина, чушь, белиберда — продолжайте, немудрено дополнить до сотни, до двух, до трёх сотен.
Быть может, моя гордость несравненным богатством родного языка по этой части — только патриотическое пристрастие, национальное предубеждение; как мыслитель, я даже убеждён, что моё открывание в нём большего обилия, чем во всех других известных мне языках, зависит только от того, что я знаю его лучше других языков,— но как человек я не могу вырвать из моего сердца чувство, объявляемое за неосновательное пристрастие моим рассудком, и это чувство согревает меня, даёт приятную теплоту и моей речи. — Однако ж неприлично было бы обманывать ожидание читателя, который имеет право требовать от меня отчета о впечатлениях, оставленных во мне гражданственною и всякою тому подобною стороною моей обстановки, когда я сказал в заглавии, что дам такой отчет. Почему ж и не дать?
Прежде всего надобно объяснить, что такое Саратов. Некоторые,— в том числе все учившиеся географии или хоть чему-нибудь,— полагают, что Саратов не более, как город, находящийся в русской империи. Это мнение не лишено некоторого основания, но всё-таки оно до крайности неточно и ведёт к совершенно ложному взгляду на предмет.
Что такое есть Европа? — Это пространство земли, занимаемое очень многими государствами, из которых некоторые сильны, другие слабы, но из которых каждое имеет свою особенную верховную власть, свои особые законы, свои особые нравы, понятия и пользуется независимостью. Слабые государства ищут покровительства сильных, сильные, когда захотят, заставляют слабые исполнять их требования, берут у них сколько могут взять, иногда покоряют их и проч. Просвещённому читателю известно, что такое Европа.
Саратов есть Европа в чрезвычайно увеличенном и усложненном размере. В моё детство число его жителей считали,— как случится,— от 30 до 50 тысяч человек. По этим цифрам надобно считать, что Саратов заключал в себе от 6 до 10 тысяч государств. Не подумайте, что я играю словами,— я прошу принимать термин «государство» в самом строгом буквальном смысле, со всеми дипломатическими, юридическими и т. д. чертами, лежащими в понятии государства.
Как в Европе, так и в Саратове образ правления государств был чрезвычайно разнообразен. Были самодержавные монархии, конституционные монархии с парламентами, республики аристократические и демократические. Как и почему какое государство имело такой, а не иной образ правления, зависело от особенностей нации, [665] составлявшей государство, и других обстоятельств, определяющих форму правления и в Европе. Во всякой форме правления были, как и в Европе, примеры устройств, освященных временем, прочных, и, наоборот, недавних, борющихся за своё существование. Как в Европе, правительства, освященные давностью, считались со стороны всех других правительств свойственными каждое своему государству, и различие в формах правления нисколько не мешало этому взаимному признанию натуральности, целесообразности и хорошего достоинства существующего устройства. Поясним.
Англия — конституционная монархия; Швейцария — республика; Китай — богдыханство; Кабул — военная орда. Формы правления совершенно различны; но каждое государство издавна пользуется своею формою, и все остальные считают её натуральною для него, приличною для него. Англия не доказывает Швейцарии или Китаю, что они должны принять её форму правления. Швейцария точно так же находит, что смешно думать об обращении Англии или Кабула к швейцарскому устройству.
Точно так было в Саратове. В некоторых государствах, безусловно, владычествовало одно лицо,— в иных церемониальным и чинным порядком, как в Китае, в других — экстренными мерами, ежеминутно изменяющимися по прихоти и не знающими никаких форм, как в Кабуле. Лицо это было — иногда старший летами из мужчин, иногда и не старший летами, но старший богатством или чем-нибудь другим, иногда и решительно ничем не старший, кроме как властью, а во всех других отношениях младший и меньший некоторых из своих подданных. Но часто абсолютная власть принадлежала и лицу женского пола, даже и при военной форме правления. Были конституционные монархии, всяких видов, были республики, всяких форм устройства. Все эти государства взаимно признавали друг за другом свои разнообразные формы правления, когда видели их прочность каждой на своём месте. Приведу примеры.
В нашем семействе, в моё раннее детство, было пять человек совершеннолетних членов: моя бабушка, две её дочери и мужья дочерей. Жили все. Это была — чистейшая Швейцария, состоящая из пяти кантонов. Никто не присваивал себе никакой власти ни над кем из четырёх остальных. Никто не спрашивался ни у кого из четырёх остальных, когда не нуждался в их содействии и не хотел советоваться. Но [по] очень близкой связи интересов и чувств каждого со всеми остальными никто не делал ничего важного без совещания,— совершенно добровольного,— со всеми остальными. Ни революций, ни coup d'état, ни возмущений, ни узурпаторств не было; потому, видя прочность и безостановочное действие такой формы правления в этом государстве, все другие признавали её свойственною ему и даже не подвергали её критике с точки зрения своего устройства, как англичанин не рассуждает о швейцарском устройстве, что оно нехорошо для Швейцарии потому, что в нём [нет] палаты лордов и других английских принадлежностей. [666]
Так. Берем другое государство. Оно состояло из двух лиц, мужа и жены. Мужа звали Иван Родионович,— я называю его имя потому, что оно почти никому неизвестно, а имени жены не назову потому, что оно известно, а я пишу с учёною целью и потому избегаю всяких личностей; по этой же причине я умолчу и фамилию четы. Государство имело форму правления, среднюю между китайскою и старинною алжирскою, с примесью чисто идиотского элемента и сумасшедшего элемента. Муж был человек любивший есть,— жена (богатая) морила его голодом (как и себя). Муж не мог без вреда себе есть постной пищи,— жена кормила его ею, и он бывал нездоров; она ссылала его в изгнание; она возвращала его вновь на исправление мальчишеских обязанностей при ней,— не лакейских, этого мало, нет, какие исправляются так называемыми «казачками» — порядочные люди у нас в Саратове не заставляли взрослых слуг находиться при них по долгим часам в ожидании повелений «подай платок», «поправь ковер»,— взрослых слуг звали, когда встретятся надобности исполнить такое повеление, и позволяли им опять уходить по его исполнении. Да что описывать, форма известна: женщина гадкого характера без толку мучит мужа и помыкает им.
Но слушайте, к чему ж я описываю это государство, форма правления в котором не составляет особенной редкости. Чета сочеталась не в молодых летах; стало быть, покорность мужа не могла произойти из влюблённости; да эта женщина и в молодости, конечно, не была хороша собою; она не имела ни ума, ни хитрости, ни силы характера. На чем же основывалась её власть? Чета была богата; жена была старинной помещичьей фамилии, имела большое поместье. Муж не был помещик. Для меня было ясно: бедный человек женился на богатой, и натурально ему быть лакеем жены, у которой он на содержании. В таком убеждении я оставался всё своё детство, и уже когда потом был в Саратове учителем, то случайно услышал, что богатство-то принадлежало мужу; он даже и выкупил поместье жены, которая перед свадьбою была по уши в долгу. — Эта черта показывает вам, как мало слышал я в детстве о внутренних делах описываемого мною государства. А между тем о нём говорили очень много,— но исключительно только о войнах и других иностранных делах его правителя. Нация — то-есть муж — не возмущалась, Нерон — то-есть жена — сидел в своём деспотизме прочно. Поэтому никто не говорил, что глупо неглупому человеку быть лакеем скверной рожей и душой бабы, когда он человек с состоянием.
Из этого видно, что отношения между саратовскими государствами были чисто международные отношения. Все прочные правительства занимались только иностранною политикою друг друга, а внутренних дел и форм правления не дискутировали. — Но точно так, как и в Европе, когда правительство какого-нибудь [государства] было непрочно, когда нация искала помощи у заграничных держав против своего правительства,— тогда, по необходимости, [667] начиналась дискуссия, и, точно так же, как в Европе, иностранцы осуждали правительство, не умеющее быть прочным,— совершенно так, как Европа рассуждала о Бурбонах, когда они упали, о Луи Филиппе, когда он упал, и проч. И совершенно так же, как в Европе, в Саратове общественное мнение накидывалось главным образом не на принципы государственного устройства, а на частные личные недостатки и ошибки правителя.
Я ввёл читателя в предмет с этой стороны, с формы правления, потому что с этой стороны легче всего взойти на надлежащую точку зрения на Саратов, то-есть на собрание множества независимых государств. Но гораздо важнее другие стороны предмета, которые теперь легче будет увидеть так, как следует.
Имея независимое правительство, каждое государство имеет и свои особенные законы. В Англии вешают, во Франции рубят головы,— разница; в Англии солдат набирают вербовкою и секут (ныне уж очень мало); во Франции набирают солдат конскрипциею, но вовсе не секут; многие английские преступления вовсе не преступления по французским законам, законы о наследстве и множество других важных частей гражданского права в этих двух государствах различны. — Точно так же разнообразны были законы саратовских государств. Возьмем в пример законы о наследстве. В одном государстве наследовали поровну все дети, как во Франции; в других — один старший сын, как в Англии; в третьих — один младший сын, как в древности у некоторых славянских племен; в четвёртых наследство оста[ва]лось в общем нераздельном владении у всех сыновей, как у других славянских племен; в пятых наследовали одни дочери, а сыновья исключались из наследования, как было у амазонок. Возьмем другой пример, законы о браке. В большей части государств саратовских, как и европейских, господствовало единоженство; но как в Европе есть исключение — Турция,— так были исключения и в Саратове. Были государства,— я говорю о русской части Саратова, татарской части населения я совершенно не касаюсь в этом очерке, во-первых, потому, что я не имел с нею сношений в детстве, во-вторых, потому, что мусульманский мир более известен, чем русская система саратовских государств, до сих пор остававшаяся совершенно непонятною как для отечественных, так и для иноземных историков и географов. Итак, в Саратове было несколько русских государств, имевших многоженство. Все знали, что у такого-то господина жива прежняя жена, а он законно повенчан с другою женщиною. В противоположность этому, были в других государствах законы, которых нет теперь ни в одном из государств всех пяти частей света, но которые, по свидетельству Юлия Цезаря, существовали у британцев его времени: одна жена имела несколько мужей. Все знали, что у известной госпожи жив первый муж, а она законно повенчалась с другим. Как судили об этих законах? Точно так же, [как] в Европе люди разных государств о чужих законах,— с международной точки зрения. Если государство процветает, то законы его хороши [668] для него, хотя и различны от законов, которые считает хорошими для себя нация другого государства, рассуждающая об этих иностранцах. Но если государство плохо, то бывали строги в суждениях о всяком различии его законов от своих. — Нечего и говорить о том, что совершенно различны были в разных государствах законы о состояниях: в некоторых саратовских государствах существовало крепостное право, в других нет; из государств, в которых все были лично свободны, некоторые государства признавали неравенство политических прав между своими гражданами,— в них были или два сословия, как в древнем Риме, патриции и плебеи, или три сословия, как [в] Риме последних времен республики (патриции, всадники, плебеи) и нынешней Англии (nobility, gentry, people), или четыре, как в Швеции (аристократия, духовенство, горожане, простой сельский народ), и было кроме всех подобных, известных в обыкновенной истории сословий множество других, что и неудивительно, потому что во всей обыкновенной всемирной истории не наберётся столько различных государств и законодательств, сколько было в моё время в саратовской системе государств, заключавшей, как я сказал, от 6 до 10 тысяч правительств с особыми законами у каждого. Приведу некоторые примеры для засвидетельствования указанного мною превосходства саратовской системы государств над всею не только нынешнею землею, но и всею всемирною историею по обилию разнообразных законодательств о сословиях.
В нашем государстве, имевшем, как я сказал, пять человек полноправных граждан (почти столько же, сколько имела Спарта во времена попыток реформ Агиса), были следующие сословия: 1) помещики,— сословие, соответствующее потомственному дворянству русского законодательства,— мой дядюшка и по нём моя тетушка; 2) духовенство — моя бабушка, мои батюшка и матушка; 3) домовладельцы — мои бабушка и матушка; 4) лица, не имеющие недвижимой собственности в своей резиденции — батюшка, тетушка и дядюшка; 5) сословие, получающее доход,— мои бабушка, матушка и тетушка; 6) сословие, отдающее все свои деньги лицам сословия, получающего доход, и не имеющее никакой движимой собственности кроме платья,— мои батюшка и дядюшка; 7) — но довольно, довольно и этого перечня, составляющего только начало перечня сословий нашего государства, чтобы видеть, во-первых, чрезвычайную многосложность сословного состава, признаваемого его законодательством, и, во-вторых, его совершенную оригинальность, потому что во всей обыкновенной всеобщей истории от начала мира до наших времен нет примера такого сословного законодательства. Читатель уже видит, что в нашем государстве были лица, которые, имея право владения и действительно владея поместьями на правах, одинаковых с правами, какие признавались тогдашним русским законодательством, в то же время были лишены права иметь доход, обязаны были отдавать в дань всё получаемое ими и лишены были права иметь какую бы то ни было движимую собственность, кроме [669] платья,— такое лицо был мой дядюшка. Или: были лица духовного звания, подлежавшие тем же самым даням и ограничениям,— такое лицо был мой батюшка. Эти юридические положения, смею надеяться, беспримерны во всеобщей истории всего остального человечества. Но в саратовской системе государств было, кроме нашего, и несколько,— вероятно, довольно много,— государств, имевших подобные сословия. Подобные, говорю я,— и конечно, только подобные, а не совершенно такие, потому что при многосложности сословной части законодательств были всегда оттенки разности между двумя подобными сословиями двух государств.
Я хотел привесть несколько примеров, но раздумал. Довольно будет и одного, если я успел убедить вас взглянуть на дело с моей точки зрения,— вы сами легко наберёте сотни и сотни примеров на каждое моё слово; да пожалуй и не нужно будет подбирать: дело так известно всякому, что удобно можно заниматься общими соображениями о нём, как прямо говорим: зимою в Саратове или в Казани, или в Вологде бывает много снегу,— нечего описывать подробности, что такое зима, что такое снег, это явления слишком известные. Поэтому я не стану подробно доказывать и чрезвычайного разнообразия в обычаях и нравах разных наций саратовской системы государств: полагаю, что мой читатель не будет сомневаться в следующих выводах: по обычаям, различные саратовские нации представляли все степени и переходы и оттенки от наций, опрятностью подобных голландцам, до наций, стоявших на такой же степени неряшества, как эскимосы; от наций, сохранявших однажды сделанные привычки с постоянством, превосходящим английское, до других, у которых несравненно больше пятниц на одной неделе, чем бывает у французов по мнению людей, считающих французов ветренейшим и расположеннейшим к новизне из всех народов; от наций, равнявшихся простотою жизни и мыслей американским краснокожим, до наций, которые равнялись изысканностью обычаев древним сибаритам, и т. д., и т. д. — По отношению к нравам были также все степени и оттенки, от суровости, правдивости, приписываемой Ксенофонтом древним персам во времена Кира, до неимоверной лживости, приписываемой Маколеем новым гиндусам; были нации, пьянствовавшие несравненно больше англичан не только нынешних, но и XVII века; были нации, не употреблявшие и в мужском своём поле никаких хмельных напитков; нации, развратничавшие «более древних вавилонян и вавилонянок, описываемых Геродотом, и нации, равнявшиеся чистотою добродетели древним римлянам, у которых будто бы более 500 лет не было ни одного примера измены супружеским обязанностям, по словам чуть ли не Тита Ливия; были нации…
Но довольно, довольно. Не в том дело, что я не уверен в том, достаточно ли ясно вы можете представить себе разнообразие нравов, обычаев, законодательств и правлений в саратовской системе государств,— это вы можете представить себе удовлетворительно, я знаю; дело в том, что отношения между этими разнообразиями [670] были чисто международные, что это были разные государства с разными народами, бесчисленные государства с бесчисленными народами.
Представьте же себе теперь, что вас попросили припомнить всё, что помните из всеобщей истории, и всё, что вы помните из всяких географий, этнографии, путешествий,— и спросили: теперь, вспоминая всё это, скажи мне, какое ж мнение ты имеешь о понятиях, нравах, обычаях людей, понятия, обычаи, нравы которых пронеслись в твоей памяти? — Что вы можете сказать? Да вам вспомнился и Леонид в Термопилах, и Наполеон на Эльбе, и пиры Лукулла, и парфы, побеждающие неприятеля бегством от него, и фокусник, идущий по канату через Ниагарский водопад, и бедуин, питающийся одною горстью фиников в сутки, и парижанин, сидящий в театре, и всё на свете,— вы ничего не можете сказать о всех них вместе,— вы говорите: вопрос нелеп, надобно говорить о сотнях разных сотни разных мнений.
Так. Само собою, что я скажу о саратовской системе государств: нельзя сказать ничего общего об убеждениях и жизни бесчисленных её наций; но это само собою, а теперь я веду речь ещё к другому. Вообразите себе тысячу следующего ряда: англичанин, итальянец, древний скиф, средневековый барон, готтентот, кардинал Ришелье, персиянин, испанец, вор, Пётр Пустыннник…
И так далее, пока наберётся несколько сот,— вообразите, что они живут вместе, каждый по-своему, рассуждают каждый по-своему,— и вы выросли в этом обществе,— какие убеждения давала вам ваша обстановка?
Я вам скажу, какие:
Будь честен; пьянствуй; будь добр; воруй; люди все подлецы; будь справедлив; всё на свете продажно; молись богу; не пей вина; бога нет; будь трудолюбив; бей всех по зубам; кланяйся всем; от ученья один вред; бездельничай; от науки всё полезное для людей; законы надобно уважать; плутуй; люби людей; дуракам счастье; смелому удача; говори всегда правду; без ума плохо жить; будь тише воды, ниже травы; закон никогда не исполняется; закон всегда исполняется; будь —
неизвестно что, или что хотите, всё на свете.
Я говорю, что все люди моего времени выросли среди обстановки, внушавшей такие убеждения. Да какие? — Всякие,— то-есть по всякому умственному, нравственному, житейскому вопросу: да, и нет, и все степени среднего между да и нет.
Эта путаница невообразимая, неудобомыслимая,— это как то, если бы в одно время слышали крики сумасшедших, чтение умной лекции, пение Марио, лаяние собаки и все другие речи и звуки, могущие раздаваться на земном шаре. Ахинея.
Нет, не ахинея, а только хаос. Из него выйдет порядок, в нём есть все силы, которыми создается порядок, они уже действуют, но они ещё слишком недавно действуют; в нём есть всё, все элементы, из которых развернется прекрасная и добрая жизнь,— [671] потому что ведь это всё-таки же несомненно люди, у них есть глаза и руки, у них есть головы и сердца,— так,— что ж тут сомнительного, что они не обезьяны,— у обезьян совсем не тот вид.
Но если нельзя сомневаться, что этот хаос придёт в стройность, что из дикой бессмыслицы разовьется жизнь, приличная человеческому обществу, то теперь в целом ещё нет её. Всё ещё только кусочки, клочочки, перепутанные со всякою дрянью. И если не только нельзя сомневаться, что они очистятся и склеятся, если можно даже разобрать, чтò отбросится и чтò останется по очистке, и как это чистое построится в стройное целое,— ведь это можно разобрать,— то нужно же разбирать,— а чтобы разбирать, для этого нужны же силы и опытность не ребёнка. Для ребёнка это хаос, хаос одуряющий, сбивающий с толку,— дающий материалы, чтобы потом, после, вникнуть в толк,— но в детстве человека сбивающий человека с толку.
И думаю ли я, что это была особенная моя участь или хоть особенная участь моих соотечественников моего времени, или моих соотечественников всех времен,— или всех людей всех наций моего времени,— что это была их особенная участь? — Нет, я не вижу в этом ничего особенного: все люди всех племен с той поры, как начиналась в каждом племени историческая жизнь, появлялись хоть первейшие, слабейшие начатки превращения из совершенных дикарей хоть в варваров,— все люди вырастали в хаосе, сбивающем с толку.
Но сущность хаоса именно то, что в нём всё непоследовательно, всё зависит от случайности места, на котором привелось [быть] известной группе атомов,— и случайность, гибельная или безразличная для огромного большинства, бывает также случайно для некоторых такова, что даёт им случай понять когда-нибудь то, что это такое этот хаос, к чему он влечется, что из него выйдет.
Попал ли я в число таких случайных счастливцев? — Я полагаю. Если так, то постепенно и будет разъясняться моими воспоминаниями хаос, часть которого произвела их. Но ведь это должно и в рассказе отразиться так же, как шло в жизни,— а теперь пока я говорю о своём детстве, и рассказ о нём был бы неверен его характеру, если бы не начинался не с калейдоскопическим характером.
IV
Горы огибают Волгу полукругом, имеющим верст 20 по берегу в длину, верст 5, 6 в глубину по своей середине. Саратов лежит в этом амфитеатре на предгорьи северной стороны; местность живописна. Соколова гора,— как называется та часть стены амфитеатра, к которой прилегает Саратов,— видна со всех улиц города. Она подходит полною своею высотою к самому берегу реки,— отвесным обрывом,— это так обрезал её напор течения в разлив реки, когда вода поднимается на несколько сажен по этому обрыву. Когда вода спадает, остаётся между обрывом и водою узкая, [672] но довольно пологая полоса прибрежья. Противоположный конец амфитеатра синеет далеко мысом, врезывающимся в Волгу,— действительно ли это мыс, огибаемый рекою, я не знаю, я не был дальше подошвы этой стороны амфитеатра; но из Саратова он кажется мысом, далеко врезывающимся в реку.
Амфитеатр гор прекрасен. На 25, 30 или больше верстах полукруга горы множество лощин, буераков,— и диких, и светлых, весёлых,— иные из них прелестны. Мне помнится, например, Баранников буерак; в каком месте гор он, я не знаю, я ездил туда, когда мне было лет 6, 7, 8 — меня брал с собою мой батюшка. Там был раскольничий скит; к скиту присоединились какие-то мошенники, чуть ли не делатели фальшивой монеты; их открыли, перехватали или рассеяли, а старики, человек десяток, стали подозрительны. Кроме светской полиции, за ними должно было наблюдать теперь и духовное начальство; батюшка,— как благочинный,— должен был доносить, как живут старики, и по временам езжал взглянуть на это. Из разговоров, бывших там, у меня осталось в памяти только последнее моё посещение. Старик почтенного вида, в старинной полумещанской одеже, вышел из кельи, послышав, что кто-то едет, и с час гулял с батюшкою по тропинкам оврага, хвалясь своими пчелами, чем-то вроде нескольких яблонь или вишневых деревьев; толковали о сельских работах,— оба собеседника были опытные пахари,— я слушал с удовольствием и проникся таким уважением к старику, что когда мы подошли к ручью и я, увидев ковш, вздумал кстати напиться, то, поднося воду к губам, как-то инстинктивно перекрестился,— у меня не было тогда обычая перекреститься перед тем, как пить, но мне почувствовалось, что теперь надобно перекреститься, что иначе старик осудит. Старик был прост и разговорчив и, кажется, был рад гостю, с которым можно поболтать о сельском быте. — Я теперь только начинаю любить природу,— в себе я считаю это признаком пожилых лет,— в молодости я не был охотником любоваться ею, а в детстве и тем меньше. Но Баранников буерак даже тогда казался мне живописен и хорош.
В очень многих лощинах и ущельях гор — сады; и по предгорью внутри амфитеатра много садов,— быть может, до 150, до 200 в этом полукруге. В моё детство была молва, что садами умели и любили заниматься старики, что у нынешних владельцев мало этой охоты; если действительно было такое время ослабления любви к садам, [то] теперь оно уже прошло. Теперь опять много людей, с любовью занимающихся своими садами.
Верстах в 3, 4 от берега Соколова гора спускается в глубину амфитеатра довольно отлого; весенняя вода с северного края амфитеатра, нашедши небольшой перегиб в отлогости спуска, обратила его в глубокий овраг; этот овраг и отделяет предгорье, принадлежащее настоящему городу, от горы. Вдоль оврага подъем от берега в глубину амфитеатра ровный, пологий; но подальше к югу предгорье падает к берегу террасою; между террасою и берегом весенней воды [673] идёт полоса с полверсты шириною. Эта прибрежная полоса, крутой спуск террасы, вся терраса занята городом; ещё дальше вниз по Волге, к югу, терраса опять незаметно переходит в дно амфитеатра,— зато само дно поднимается довольно высоким берегом,— и это всё застроено, отчасти уж на моих глазах; ещё дальше начинаются поемные луга, с небольшими озерами или большими плоскими блюдечками воды, остающимися от разлива. Но до этих мест ещё несколько верст от нынешнего конца города.
Город тянется от Соколовского оврага по берегу версты на три, на четыре; в глубину амфитеатра от берега версты на две, на три и больше. Где-то в верховье Соколовского оврага — татарская слобода. По склону Соколовой горы, по соседству берега, много места вверх на гору занято предместьем.
Вдоль берега, версты две с половиною от мест, соседних с Соколовским оврагом, до другого, Ильинского оврага идёт почти совершенно прямая улица. На плане, бывшем у моего батюшки, она называется Царицынскою. Почти на половине длины этой улицы стоит наша церковь, Сергиевская, и от неё средняя часть улицы всегда, а большей частью и вся улица называлась в моё время Сергиевскою. На этой улице, в нескольких десятках сажен от нашей церкви, книзу по течению Волги, стоит наш дом.
С другой стороны церкви, церковь выходит своею оградою на площадь, которая вся ниже к берегу от Сергиевской улицы. Тут пространство между Сергиевскою улицею и берегом так велико, что с нижнего конца площади идёт к Соколовскому оврагу другая улица, с версту длиной, параллельная Сергиевской — Покровская.
Покровская улица другим концом выходит на площадь Старого собора. С площади Старого собора, параллельно оврагу, идёт в глубину амфитеатра Московская улица. Сергиевская улица кончается, пересекаясь нижним концом её. На Покровской улице жили наши родные; между площадью Старого собора и концом Сергиевской улицы стоит Гостиный двор; потому эти две улицы были мне, ребёнку, свои, знакомые, чуть не ежедневные.
Мимо нашего дома, от Волги в гору, идёт улица на площадь Нового собора, где архиерейский дом; а часть архиерейского дома отделена особым двором, на котором стоит консистория, куда я в первую пору детства беспрестанно ездил за моим батюшкою: скорее уйдёт из присутствия, когда сын тут ждёт и надоедает — зовет — по этому соображению и поощрялись моею матушкою мои поездки в консисторию. Немножко в сторону от Соборной площади, по направлению к Соколовой горе, жили наши родственники. Потому местность между Новым собором и нашим домом тоже была мне своя, ежедневная, знакомая.
Да ещё тоже знакомый, ежедневный в тёплое полугодие, был берег Волги, на три версты от Соколовского (Казанского, как зовут его в нижней его части, по Казанской церкви, стоящей подле него) оврага и до местности на версту ниже нашего места берега.
Что берег играл важную роль в жизни ребёнка, это разумеется; [674] но и вид Волги, хоть я не любил любоваться ею, был тоже родной,— роднее всего, кроме своего двора, моему детству. Окна дома, в котором жили мы, выходили [на] Волгу. Всё она и она перед глазами,— и не любуешься, а полюбишь. Славная река, что говорить.
Вот местности главного знакомства моего: Волга, берег, две улицы, идущие по берегу, две-три улицы подле нашего дома, идущие наперерез Сергиевской в гору, да небольшой уголок подле площади Нового собора. Остальной [город] отчасти был мало знаком, а большая половина его и вовсе незнакома моему детству.
Уж видно из этого, что, кроме родных, наше семейство мало у кого бывало. Кроме родных, да семейств и лиц, живших на нашем дворе, да семейств, живших на соседних дворах, да людей, которых я видывал бывающими у моего батюшки по должностным его отношениям, я в детстве видывал не очень многих близко к своему носу. А кого я не видел в двух, трёх шагах, того и не видел в лицо, хоть видел его в общем составе его одеяния, потому что с той самой поры, как помню себя, я помню себя таким же близоруким, как теперь.
Но всё-таки набирается много лиц, которые имели так или иначе влияние на мою детскую жизнь или оставили своими особенностями, приключениями или рассказами не совсем неважные мысли во мне, ребёнке.
Одно из самых первых моих воспоминаний о самом себе — у меня в руках рюмка, и я пью за здоровье своего приятеля. — Я уже говорил, что моё рождение дорого обошлось моей матушке: она сделалась страдалицею,— и была ею десять лет, пока, наконец, много поправилось её здоровье благодаря доброму Ивану Яковлевичу. Поэтому постоянными нашими гостями были медики. Многие из них были в дружеских отношениях с нами. Первый, которого я помню — Грацианский, уже немолодой мужчина, с грубоватым румянцем на лице,— вероятно, он был рябой, этот грубый оттенок очень часто бывает на рябых лицах. Он уехал куда-то из Саратова,— и вероятно, я был ещё очень мал, когда он уехал,— так что даже не помню его имени и отчества,— он продолжал переписываться с батюшкою и вот уже только по этим позднейшим разговорам я помню его фамилию. — Итак, когда он ещё жил в Саратове и лечил мою матушку, случилось и мне чем-то занемочь, неважным чем-то, потому что я помню себя лечащимся, не укладываясь в постель. Лекарство прописал Грацианский. Принесли лекарство, я отведал: не хочу пить; уговаривали, упрашивали, подкупали — не хочу. Что делать с парнем? — «Для нас выпей, за наше здоровье», говорили мои старшие. — «Не стану». — «Так выпей по крайней мере за здоровье Грацианского — ведь он тебе это прописал,— так за него». — «Ну, за его здоровье выпью». — Так и шло всё это леченье: я каждый раз пил микстуру не иначе, как за здоровье Грацианского.
Это занимательно для меня вот почему: видно, что я любил Грацианского: даже помню, что точно, любил; но, разумеется, ведь [675] я любил его гораздо же меньше, чем своих, матушку, батюшку, двоюродную сестру. Почему ж я мог отказываться пить за их здоровье, а пить за здоровье Грацианского не мог отказаться? Ясно: относительно чужого человека непростительна такая неучтивость, которую не примут в дурную сторону свои близкие. — Ведь это мотив, кажется, совершенно принадлежащий взрослому человеку; а между тем я был ещё в той поре детства, из которой имена не удерживаются в памяти. Когда мне говорили: «ну, вот, готово, налито,— пей же за него»,— его называли не фамилиею, а именем и отчеством, и я, произнося тост, произносил имя и отчество,— но какие они были, я не помню, сколько ж мне было лет? Вероятно 5, если не меньше. А уж имел тонкие мотивы соображений. А между тем я не был ребёнком чрезвычайно быстрого развития,— нисколько.
Дальше, я помню другого медика, Култукова. Он был у нас недолгим знакомым, жил в Саратове только каким-то промежутком между службою в действующих войсках и скоро уехал на Кавказ. Наши очень жалели потом, услышав об его смерти,— они тоже переписывались по его отъезде, и он просил там своих товарищей написать нашим об его смерти. И запомнился он мне тоже по мрачному рассказу. Говорили о его походной жизни, её тревогах. Он стал рассказывать об опасностях, которых избегал,— например, в турецкую войну часть войска, при которой он был, была отправлена на кораблях сделать какую-то высадку. Приплыли, сели в шлюпки, поплыли к берегу на веслах. На берегу были турецкие батареи. Ядро ударило в шлюпку, и когда очнулся Култуков, он очнулся сидящим на дне. Рванулся встать — нельзя. Сидит на дне и не может встать. Пока он ещё владел мыслями, он ничего [не мог] сделать,— но мысли уже стали туманиться, он чувствовал, что уже не в силах не дохнуть и не захлебнуться,— судорожно метнулся,— и поплыл вверх, и благополучно приплыл к берегу, бывшему в нескольких десятках шагов и уже занятому нашими. Тут он понял, какое обстоятельство держало его на дне. Он был в шинели. В шлюпке лежало множество ружей; когда он пошёл ко дну, шинель распахнулась, ружья навалились на развернувшиеся полы. Судорожное движение разорвало застежки воротника шинели, и он выплыл из савана. Это будто из Монте-Кристо; но это странный случай, не больше; а вот собственно то, что произвело на меня впечатление. Некоторые,— главные,— слова Култукова так и врезались целиком в мою память.
Это было в турецкую или в персидскую войну, не знаю. Култуков был в каком-то отряде, которому случилось иметь несколько очень утомительных дней похода, стычек, погонь за неприятелем. В неприятельской стороне была кое в каких местностях чума, как слышали наши. В таких обстоятельствах и медикам было очень тяжело, чуть ли не утомительнее, чем воюющим: беспрестанно приносят раненых, приводят пленных, которых надобно осматривать, не зачумлены ли они. Медиков было четверо. Дежурили поодиноч[676]ке, но и не в дежурные часы почти не имели отдыха. После нескольких суток без сна был на дежурстве Култуков; голова ломила, горела, глаза слипались,— почти как в бреду был человек. Привели пленного. «Хорош, не опасен», сказал Култуков. Через несколько часов в отряде явилась чума. Пленный уж чуть ли и не умер. Кто пропустил его? — «Я. Судите». Суд. Всё ясно: расстрелять. — «Правда. Я сам говорю: надобно расстрелять меня». Поблагодарил судей — сослуживцев, просил простить его в душе за то, что сделал всем такую ужасную беду. Я был спокоен, говорил он: дело решенное, что тут думать. Сидел, отчасти скучая, в ожидании смерти. Но вот, уж и недолго остаётся скучать: через два часа,— через полтора часа,— через час позовут расстреливать,— вот и идут за ним. — «Пожалуйте к своей должности. Приговор отменен». — «Что такое? Как можно, отменен? Нельзя». — «Расстрелять уж нельзя: вы одни остались». В эти часы, между приговором и исполнением приговора, все трое остальные уже заразились чумою, все умерли или уже сказали про себя, что умрут. Нельзя было оставить отряд без медика, и командующий генерал отменил приговор, когда последний из трёх остальных медиков прислал сказать, что умирает. «Итак, моя жизнь была спасена тем, что все мои товарищи были погублены мною. Что ж это такое, Евгения Егоровна? Где же справедливость, Гавриил Иваныч?»
Да, что отвечать на такие вопросы? «Да», произнесли один за другим и матушка, и батюшка, и сам рассказчик. И семи или восьмилетнему ребёнку тоже было понятно: «Что ж это такое? Где же справедливость? Да».
Как теперь вижу сидящего вечером в тогдашней нашей гостиной на кресле этого смуглого, черноволосого, курчавого, ещё молодого человека, просто и честно говорящего о судьбе, которая спасла его от смерти: «Что ж это? Где же справедливость?»
Но дольше всех медиков был нашим приятелем г. Балинский, наш сосед по домам, поляк и католик. В последние года полтора перед его отъездом из Саратова в деревеньку, которую он купил, уж несомненно было, что мой батюшка — самый главный его приятель: г. Балинский, приготовляясь к удалению на отдых, стал прекращать свою практику, времени у него стало довольно, и в последние месяцы, когда его семейство уж уехало, он проводил большую часть своих вечеров у нас.
Кстати, об этом предмете. В 1840 или 1841 году пришёл к нам какой-то господин странного и бедного вида, средних лет, и спросил батюшку. Батюшка вышел. — «Что вам угодно?» — Вошедший молча подал бумагу. — Батюшка взглянул на бумагу,— «пожалуйте, вот, в мою комнату». — Через несколько времени привёл посетителя в гостиную, где сидели матушка и бабушка, и отрекомендовал и познакомил с ними, как Наума Фаддеевича Носовича (в фамилии-то я не ошибаюсь, в имени или отчестве, быть может, только Фаддей уже наверное было, в имени или отчестве). Начались расспросы, рассказы, я тоже тут вертелся и слушал. После того на[677]чались заботы, какие дозволялись средствами бабушки и матушки,— изготовились, между прочим, сверточек с чаем, другой, несколько побольше, с сахаром,— ещё побольше с одною или двумя переменами белья,— Наум Фаддеевич уж и целовался со всеми, когда уходил, и до конца жизни остался нашим приятелем; но в помощи наших скоро,— так через полгода, что ли,— перестал нуждаться.
Я, в первое время знакомства, два раза начинал сильно доказывать Науму Фаддеевичу его ошибку. Я тогда уже много читал,— иные сотни страниц по многу раз,— огромный латинский курс Феофана Прокоповича,— как я жалел, что из 18 книг, предназначенных по плану курса, обработано и напечатано было только 12,— у Феофана Прокоповича трактат о filioque был превосходен,— аргументов было бесчисленное множество: из одного Адама Церникава триста цитат, и то лишь «важнейшие». Я представил Науму Фаддеевичу некоторые доводы. Он оба раза слушал меня ласково, но отвечал неохотно, и диспутировать с недиспутирующим было неудобно,— я бросил невыходивший спор и порешил на том, что Наум Фаддеевич человек неученый, и какие же диспуты заводить с ним? — Потому что у меня не было никакой другой мысли, кроме желания диспутировать.
Но вот что занимательно: как же это я, парень уж лет 13, не только сам не сообразил, что в положении Наума Фаддеевича неловко, неделикатно заводить с ним подобные диспуты,— не только сам не сообразил этого, а даже не догадался вывесть этого из того, как держат себя с ним мои старшие,— ведь мой батюшка не хуже меня знает тему filioque, что ж он не спорит о ней с ним? Скажете: ребёнок, где ж понять? А в 5 лет понимал, что деликатность требует пить за здоровье Грацианского. Тут дело было проще, неделикатность гораздо виднее. Из этого я хочу вывесть вот что: если видишь, что ребёнок не сообразил чего-нибудь, то ещё не следует прямо заключать: «где ж понять это ребёнку»,— очень может быть, что это чисто случайная вещь, не пришлось ему вздумать этого, и только,— ошибка с его стороны, опрометчивость, такая же, какая беспрестанно случается и с взрослыми, а не следствие его детских лет. Я, например, конечно, очень в силах был сообразить, что сделал ошибку своими пробами диспута.
Носович был присланный на житье в Саратов униатский священник, не захотевший подписать согласие на отделение от папы. Это дело он рассказывал подробно,— что это было, как это делалось и как потом он провёл время между своим отъездом из бывшего своего прихода и своим прибытием в Саратов.
Он был человек скромный, правдивый, ни в красноречие, ни в увлечение не вдавался,— каждое слово его рассказа так и дышало полнотою верности истине. Но я не скажу, что мои старшие поверили его рассказу, как рассказу правдивого человека,— характер принятия ими его рассказа был совершенно другой: его слушали, как бы он рассказывал, что вчера было сначала утро, потом [678] полдень, потом вечер,— что в прошлую зиму и в Пензе, и в Тамбове топили печь, ездили на санях, что в прошлую весну мужики в Симбирской губернии пахали,— его рассказ принимали так, что на лицах было написано: «Ну, конечно, иначе и быть не могло,— само [собою] иначе и предположить нельзя».
Странная вещь. Я не знаю, какие люди пишут, например, историю? и какие люди могут верить той истории, какую те пишут. — Я не встречал людей, способных писать историю, как она пишется, или верить ей в таком виде, как она пишется. У всех людей в здравом уме, которых я встречал,— и тоже у меня самого,— решительно у всех есть какой-нибудь рассудок,— сильный, слабый, твёрдый, хилый, но всё же есть; есть — большая, малая, какая случится, но всё же какая-нибудь — житейская опытность. Наблюдая других, наблюдая себя, я замечаю, что все мы сколько-нибудь — много, мало, но всё же сколько-нибудь — руководимся здравым смыслом, умеем отличать сказки от несказочного. При этих условиях я нахожу совершенно невозможным, чтобы кто-нибудь писал историю, как она пишется, или верил такой истории. Ведь мы же понимаем все, что Илиада, Нибелунги, романсы о Сиде, наши песни о Владимире,— что всё это прекрасно, как произведения поэзии, но что [это] не учёные исторические трактаты.
И с другой стороны, я вижу, что все читают историю и верят ей, вижу, что сам принадлежу к числу этих людей, вижу, что люди, похожие на обыкновенных людей в здравом уме, пишут историю, и сам пописывал статьи исторического содержания, будучи в полном уме. Странно.
Я смущаюсь тут вот в чём. Все мы знаем, как идёт жизнь,— рассуждаем обо всём, как умеем, на этом основании: мужик, например, по нашему рассуждению, пашет землю, чтоб родился хлеб, который насыщает голод, купец торгует, чтобы получать тоже прибыль, и т. д. — Как беремся за историю, пошло совсем другое: такая небылица в лицах, что ни пером написать, ни умом разгадать, только в сказке сказать. А пишут пером и разгадывают умом. — Вы видите перед [собою] не жизнь, какую вы знаете, а сцену итальянской оперы, где ходят так величественно, жестикулируют так благовидно, даже шутят и шалят так возвышенно и грациозно, и все поют, все поют так отлично искусно, и даже не сморкаются, не чихают — никогда. И вы верите, что это было так. Что вы делаете (то-есть и я в вашем числе),— можно понять забвение действительной жизни, когда вы смотрите и слушаете итальянскую оперу, читаете идеализирующую поэму, экзальтированный роман,— там с начала до конца выдержан свой тон,— вы поднимаетесь на воздушном шаре, несетесь так легко,— нет на вашей дороге ни ухабов, ни неровностей мостовой, ни подпрыгиванья вагона по рельсам, ни подергивания парохода от ударов машины,— так плавно, и самые порывы плавны,— так гладко и однородно. Легко замечтаться, забыть всякие стуки и толчки. Но в истории нет вам (и мне в вашем числе) и этого извинения,— это дикая, [679] дикая смесь фантастического с действительным,— это то, как если бы на сцену итальянской [оперы] ежеминутно выскакивали обыкновенные смертные в халатах и пеньюарах, армяках и сорочках и кричали бы о своих делах, а итальянская опера одновременно с этими эпизодами своим манерным,— прекрасным,— тоном. На одной и той же странице половина людей, мыслей, слов из фантастического мира, другая — из действительного,— и на каждой странице то же. Это не что иное, как сапоги в смятку,— кушанье, состоящее наполовину из двух материалов, которые оба очень хороши,— яйца в смятку — очень удобная пища, сапоги — очень удобная обувь; но вместе — яичница всмятку, в которую положены сапоги или которая влита в сапоги,— воля ваша, это неудобно ни для рта, ни для желудка, ни для ног.
Вы видите мою тенденцию: я беру вещь, которая всем известна,— например, выражение «сапоги в смятку». Спрашиваю: что это значит? Вы приходите в смущение,— никто в мире до меня не задавал себе такого вопроса, и вы говорите: эта вещь непонятна,— какой смысл заключается в выражении «сапоги в смятку», никто не знает; я с доброю, но гордою улыбкою объясняю: это значит вот что: сапоги в смятку значит: яичница в смятку, в которую положены сапоги. Вы видите, что это так, что это несомненно, и соображаете, что эти две прекрасные [вещи] составляют вместе нелепость, потому… — простите, вы (и я в вашем числе) ничего не соображаете, и потому вас (и меня в вашем числе) угощают (и я бывал в числе угощателей) сапогами в смятку, и от этого у очень многих ноги в сабо, в лаптях или вовсе босы,— потому что вы (и я в вашем числе) скушали их сапоги, и от этого у вас (и у меня в вашем числе) спазмы в желудке.
Но если я подобно вам имею теперь сильную привычку кушать сапоги в смятку, то я имел в жизни элементы — некоторые как человек, живущий между людьми, некоторые как человек, читающий книги,— эпизоды, учащие меня, что сапоги в смятку — не кушанье, а дрянь. Один из этих элементов я теперь начинаю показывать вам. Это — семья, в которой прошло моё детство. Я рано стал смотреть свысока на её понятия, и со стороны логики, теории, был совершенно прав. Насколько могли бы излагать мои старшие свои мысли в виде теории, теория была бы неудовлетворительна — даже и очень (почти настолько, насколько теории 99-ти из сотни моих читателей). Но они не были теоретики — они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от неё, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя — нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе.
А были они — все пятеро — люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, непрерывный, близкий [680] пример в такое время, как детство (не мог не лечь очень солидным весом, не мог не давать очень ясного света многому, когда для меня пришла пора разбирать теоретически), не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что́ правда и что́ ложь, что добро и что́ зло.
Я ни в чём не похож на человека, раздумье которого теперь мне вспомнилось: он был отважен,— я нет (он был пылок, рвался вперёд, я нет); его силы пропадали в напрасной борьбе,— я почти не боролся, всегда избегал борьбы,— а насколько есть во мне сил, они пошли и идут в дело, не пропадая; он грустил о напрасно убитой своей жизни,— я не имею ни права, ни охоты считать свою жизнь такою,— но в одном я схожусь с его воспоминаниями и чувствами:
Стучусь я робко у дверей
Убогой юности моей:
Не помяни мне дерзких грез,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой;
Не помяни мне глупых слёз.
Какими плакал я не раз,
Твоим покоем тяготясь,—
моя убогая юность дала живое чувство небогатой обыденной жизни,— внушила его мне так неодолимо, что из моих понятий легко выбрасывалась потом всякая нарядная ложь.
Судите сами. Мои старшие были люди известной системы теоретических мнений. По этим понятиям одна сторона в известном деле должна была считаться безусловно хорошею и правою, другая — безусловно дурною и виноватою. Вдруг является человек, начинающий речь с того, что он, безусловно, держится стороны, противоположной стороне, которой, безусловно, держатся мои старшие; начинает рассказ, без всяких прикрытий объясняющий, что в известном деле всё было прямо противоположно тому, что следует думать о нём по теоретическим понятиям моих старших. Мои старшие не только соглашаются без всякого спора, что он говорит истину,— они принимают его рассказ с видом, говорящим,— а потом, когда случается коснуться этого предмета, то и говорят между собою,— что, само собою разумеется, это дело не могло быть иначе.
Я очень хорошо знаю, что пример, в котором я выставляю действие элемента, чрезвычайно важного по моему мнению, не есть явление исключительное,— почти каждый, выраставший, подобно мне, в честном и небогатом семействе, беспрестанно видел такие примеры,— а такие люди составляют массу читателей; поэтому я знаю, что нелегко придать в глазах такого читателя делу то важное значение, какое оно действительно имеет: оно слишком обыкновенно, в нём нет ничего поразительного. Но я прошу обратить внимание на принцип, на силы, действующие в этом обыденном случае,— потому-то они и важны, что действуют постоянно, проявляются беспрестанно. Ведь характер этих сил можно, пожалуй, выставить [681] и ярко на случае, который был бы поразителен необычайностью,— я даже считаю полезным сделать такое пояснение.
Вообразите себе, что русский мужичок или французский мужичок, имеющий гораздо более сходства, чем саратовский русский мужик с симбирским русским мужиком (хотя саратовский русский мужик тоже не чрезвычайно, как вы и можете предполагать, отличается от симбирского),— вообразите себе, что он по щучьему веленью, по Иванушкину (то-есть моему) прошенью перенесен на время нашего с вами назидания его примером в самый центр Африки, где никогда не бывала нога европейца, и какие там народы живут, остаётся без дальнейших и точнейших известий не только для этого мужичка, не слыхивавшего ни о чём существующем далее 50 верст, или, что почти то же, километров от его села, но и для нас, образованных людей, с той поры, как средневековые космографии, одни и те же и на Западе, и у нас, поместили там людей, у которых нет головы на плечах, а находится рот с носом и глазами и всеми принадлежностями головы — на груди. Как можете себе вообразить, эти люди должны довольно значительно отличаться от нас или от французов, потому что, по всем вероятностям, когда голова помещается там, где по европейскому обыкновению помещаются лёгкие, то голова эта несколько не похожа на общепринятую, какую получают от природы русские и французы. Но если способ физического устроения этих людей и их манеры жизни могут казаться несколько странноваты, то можно предположить, что и наша фигура и наша манера жизни должна показаться не совсем похожею на обыкновенную у них. До сих пор я рассуждаю, как вы видите, очень правдоподобно.
После этой длинной присказки начинается сказка, состоящая лишь в десятке слов: эти люди и перенесенный к ним мужичок с первой минуты, с первого слова совершенно понимают друг друга, находят все друг в друге совершенно как следует по их обыкновению и совершенно сходятся друг с другом во всём.
Вот это уж удивительно, скажете вы,— это даже неправдоподобно. Что это удивительно, я согласен,— я и вперёд [сказал], что возьму пример удивительный; что это неправдоподобно, я не могу согласиться, потому что совершенно такие случаи видел я сотнями и тысячами.
Я видел изумительные вещи, каких не видывал ни Марко Поло, ни наш путешественник г. Муравьев, ни сам Гулливер (впрочем, далеко уступающий моему соотечественнику). Я, например, [видел] — в Саратове и в Петербурге, смею вас уверить, клянусь вам,— русских и немцев, знакомых между собою, даже приятелей, даже искренних друзей. — Да, я видел и в Саратове и в Петербурге людей разных наций и вер,— русских и немцев, русских и французов, французов и немцев, православных и католиков и протестантов, и раскольников, и мухаммедан, живущих между собою ладно,— по крайней мере, не зарезывающих друг друга, не отравляющих друг друга,— клянусь вам, видел. [682]
Но нет,— неужели я в самом деле видел это? Позвольте, ведь я ещё не сошёл с ума,— могу соображать, что возможно и что невозможно,— нет, я понимаю, что это невозможность, я не видел этого, это был обман чувств. Эти люди, если бы они были действительные люди, а не фантомы, созданные моим бредом, должны были все до одного кусаться, грызться и целиком съедать друг друга.
Мне странно, чтò я за человек: я знаю, что фантазия у меня очень слаба; будь у меня хоть настолько фантазии, насколько есть у пятидесяти человек из сотни, я был бы великим художником, потому что я очень хорошо знаю, в чём заключается поэзия, в чём состоит художественность,— но я только знаю, что и как надобно писать художнику,— а не умею, не могу,— значит, у меня слишком слаба фантазия. — Но если так, то каким же образом у меня [удалось] фантазии создать такие полные, законченные типы, как: русский, француз, немец,— множество других,— католик, раскольник, лютеранин, гернгутер, множество других,— вы согласитесь, что у самого Шекспира нет десятой доли того количества типов, какое выставляю я вам этими двумя началами перечней,— и самые полные, законченные типы Шекспира — Гамлет, Яго, Макбет, Лир — не имеют тысячной доли той полноты, яркости, законченности, рельефности, живой выразительности, как любой из сотен типов, поставляемых мною перед вами,— откуда ж у меня взялась такая изумительная сила поэтического творчества? — Ведь эти типы, мои типы, точно такие же создания фантазии, как Офелия, Гамлет, Дездемона,— в действительности нет лиц, соответствующих им; нет, я слишком скромен: я и с этой стороны сильнее самого Шекспира фантазиею: нет в действительности лиц, которых мы знаем из Шекспира под именами Ромео и Джульетты, Макбета и леди Макбет, но есть лица, очень похожие на них. Мои типы, столь живые, столь яркие, не имеют ничего подобного себе в действительности. Шекспир по силе идеализации — пигмей передо мною, Геркулесом,— его полеты [в] сферах поэтического творчества — куриные полеты перед моими, орлиными.
Но я не горжусь этой силой,— я знаю, откуда она у меня, я знаю, какая она. — Видите ли, в моём организме нет ни малейшей наклонности к чуме, он сам не в состоянии породить ничего, сколько-нибудь похожего хоть на слабый симптомик чумы (я этому, разумеется, очень рад),— но перенесите меня в чумный город,— и как нельзя легче разовьет мой организм превосходнейшие симптомы чумы. Повальность даёт силы бессилию, вносит зародыш и даёт ему роскошное развитие. И мой бред — повальный бред. И вы, кто бы вы ни были, имеете этот бред,— иначе вам не попалась бы в руки эта книга. Она, видите, предназначена к обращению только в кругу людей, зараженных тем же повальным бредом.
Дикий бред, страшный бред. — Вы, может быть, не знаете, что это бред — у вас нет интервалов светлого простого человеческого сознания. У меня они есть. Они часты. Они продолжительны. Но [683] нет, не может же быть, чтобы и у вас не было. Ведь вы всё-таки человек.
Но по частому и продолжительному прерыванию моего бреда интервалами здорового человеческого смысла я принадлежу к наиболее счастливым из моих собратий по бреду. Я обязан своей семье этим счастием.
Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье. Мои старшие были люди в здравом уме.
Фаддей Ильич по своём приезде в Саратов провёл несколько дней — не голодный, вовсе нет: его покормил в эти дни кто-то из постояльцев ли, из хозяев ли, постоялого ли двора, квартиренки ли, где он остановился ли, был ли оставлен,— и не голый, потому что у него,— на нём самом,— была пара белья, а посверх белья тоже было всё, чему следует быть на человеке мужского пола и не простого звания: сапоги, брюки, жилет, галстук, сюртук,— всё было,— и шапка, даже похожая на фуражку, с козырьком, как следует. Но пить чай в эти дни ему не привелось,— да что-то и давно уж не случалось, и пища была в эти дни более здоровая, нежели роскошная,— вроде хлеба (т. е. чёрного, «хлеб» по-саратовски — только ржаной хлеб, а пшеничный — калач, пирог), хлеба с квасом, и, вероятно, не простым квасом, а квасом с луком,— каша, вероятно с маслом,— полагаю, и щи,— горяченькое-то очень хорошо,— надеюсь, были и щи,— едва ли с говядиною, потому кто же ест говядину кроме как по праздникам. Едят многие, но те не едят, при которых он пропитывался,— но ведь они живут восхваляя бога,— и он жил, восхваляя бога даже больше, чем они, потому что сравнительно с прежним попал в роскошь по отношению к пище: вступил, можно сказать, в землю обетованную после скудного жития пустынного, продолжавшегося для него, впрочем, не 40 лет, а в 40 раз меньше. Но что пища? — Не о хлебе едином жив будет человек,— приволье-то какое! Сидит он, например, в комнате, где воспринимает пищу от доброхотных дателей, своих новых друзей, граждан славного города Саратова, и где пользуется он кровом и одром нощным,— сидит он, я говорю, в этой комнате,— дверь есть в ней, но [не] то важность, дверь-то всегда бывает, а важно, что вздумал Фаддей Ильич, отворяет дверь, идёт,— двор,— он и по двору идёт,— калитка,— отворяет калитку,— улица,— он и по улице идёт,— да так и ходит по всем улицам. Экое приволье-то какое!
Да это ещё что! До такого ли приволья и благоденствия дожил Фаддей Ильич в нашем Саратове! — Через несколько дней он достал бумагу, препровождавшую его под зоркий и строгий надзор к моему батюшке и никак не хотевшую написаться и препроводиться к моему батюшке, который потому и дремотствовал много дней по части строгости к Фаддею Ильичу, не имея понятия ни о существовании этого субъекта для строгости, ни о своей обязанности неослабно бдеть строгостью над этим субъектом. Но вот [684] Фаддей Ильич упросил, написали, выдали ему эту бумагу,— и новый Беллерофонт понёс документ, в котором прописано всё, чему следует подвергнуть подателя документа,— понёс, отличаясь от прежнего Беллерофонта тем, что знал содержание несомого документа и сам добивался получить его для отнесения. Конечно, не без страха думал о прописанном в бумаге подвергнутии его всему, что там прописано,— но,— о, Фаддей Ильич был в таком гарпагонском настроении характера, что Гудсон Лоу, к которому он шёл под тяжёлую стражу, представлялся ему человеком, который, строго надзирая за ним,— будучи, конечно, и груб, и придирчив, и подозрителен, и враждебен,— всё-таки, авось, не согласится ли представить по начальству, что оный злонамеренный и достоискореняемый Фаддей Ильич, при всей своей свирепой неблагомысленности, имеет нечто якобы вроде желудка, аки бы сильно подведенного к ребрам, на наполнение какового чрева требуется провиант,— то не благоугодно ли будет ассигновать Фаддею Ильичу впредь до искоренения от 23⁄7 до 24⁄7 коп. сер. в сутки, что вполне достаточно, ибо, конечно, баловать Фаддея Ильича не следует,— и, почему знать? На эту гипотезу может прийти такое решение: выдавать Фаддею Ильичу впредь до его искоренения, о скорейшем достижении которого надобно стараться, по 23⁄7 коп. сер. в сутки. На крылах и летел Беллерофонт с роковым документом,— приятно, приятно, хотя не без большой горечи эта приятность.
И вдруг,— эх, да какое же счастье! — и горечи-то не оказалось никакой в роковом документе,— одна беспримерная сладость от него! — Фаддей Ильич видит, что не замечают, не хотят замечать его злонамеренности и достоискореняемости,— лицо, обязываемое документом грызть, пилить и сверлить глазами и зубами ту особу, о которой прописано в документе, прочитав документ, подходит к Фаддею Ильичу с явным намерением применить к нему обычаи, соблюдаемый саратовскими священниками при встрече с товарищами по званию,— у нас тогда священники при встрече целовались,— исполняет этот обычай, как будто Фаддей Ильич не Фаддей Ильич, прописанный в бумаге, а Фаддей Ильич, бывший на свете три года тому назад,— и дальше,— что ж это такое за блаженство человеку! — женщины, дети, порядочно одетые,— похожие на тех, какими когда-то был он окружен — господи, что это такое! — он видит семейную жизнь, ему говорят, что мы очень рады вашему знакомству, Фаддей Ильич,— и вдруг, чай,— так ли? — так, у него в руке чашка, в чашке чай,— с сахаром,— и он пьёт этот чай. Вот так притча вышла!
Везет, везет счастье Фаддею Ильичу! Идёт он домой, так,— да полно, то ли в этом узелке? ой, замечтался старик! — Щупает, нюхает: да не замечтался же, так: чай и сахар! — А в кармане жилета уж не может же быть его,— щупает — он, он, точно, он в кармане, целковый-то, не фантазия, а настоящий целковый! Чай, сахар, деньги в руках, и — ходи по всем улицам, куда глаза глядят! — О, о, раздолье-то, приволье-то, роскошь-то! [685]
Фаддей Ильич рассказывал все эти свои ощущения моим старшим,— конечно, и мы, дети, вертелись тут же. Он рассказывал их не таким тоном, каким передаю я, и я очень жалею, что не нашёл в себе умения передать его ощущения его добрым, кротким тоном, не имевшим никакого оттенка иронии,— незлобивая речь его без всякой задней мысли, речь, действительно дышащая только чувством отрады, произвела бы гораздо более сильное впечатление. Но, хоть и я человек кроткий, я не в силах выдержать незлобия Фаддея Ильича.
Люди с простым житейским взглядом на вещи не могут, если они не злы, переварить таких рассказов. И мои старшие качали головами и говорили: «нехорошо, нехорошо». И я, ребёнок, чувствовал вслед за моими старшими, что нехорошо, когда человек доведен до чувствования таких отрад.
Скоро жизнь Фаддея Ильича в Саратове стала и вовсе поправляться. Во-первых, целковый его скоро чуть ли не упятерился. Иаков, тогдашний архиерей, был очень сильным ревнителем распространения своей паствы: он очень усердно занимался сокрушением раскола. Он считал это своею обязанностью по совести, перед богом. У него были очень аскетические понятия и о вещах, которые могли бы скорее этой представляться ему в таком же виде, в каком знают их обыкновенные люди. Быть может, мне придётся подробно рассказать о том, как по его мнению священники не имеют надобности ни в жалованьи, ни вообще в каких бы то ни было денежных средствах для жизни. Но независимо от всего этого, он был человек добрый. Услышав от моего батюшки об обстоятельствах Фаддея Ильича, он дал из своих денег рублей 5, чуть ли даже не рублей 7 серебром для передачи ему. Для Иакова это был значительный расход: он сам был очень беден деньгами. А для Фаддея Ильича это была сумма и вовсе значительная. Он был в восторге. Иаков усердно взялся за просьбу моего батюшки потребовать назначения содержания Фаддею Ильичу,— и содержание было скоро назначено. Помню, что цифра была от 25 до 28 рублей, но только не помню, в год ли, или в треть; если в треть,— богатство; но если и в год, обеспечение хорошее. Конечно, если и в треть, то чаёв много не разопьёшь, но щей можно есть вволю; рубашек много не накупишь, а перемывка всё-таки будет; это очень хорошо, когда есть перемывка: снимешь, знаете, рубашку для мытья,— покуда её вымоют, имеешь другую, носишь; ту вымыли, эту отдаешь, вымытую надеваешь,— и никакого затруднения нет. А с одною рубашкою трудно обходиться. Можно, но есть трудность, говорил Фаддей Ильич.
Уже высоко поднялся Фаддей Ильич по лестнице благосостояния, когда получил содержание. Но судьба подняла его ещё выше. Не знаю, через наше ли семейство, или как иначе, он познакомился с семейством Горбуновых (Николая Максимовича и Евлампии Никифоровны,— имена нужны, потому что Горбуновых в Саратове не одно семейство), людьми хорошими,— у них был под городом [686] сад, который тогда давал мало дохода, потому что был запущен во время долголетнего житья гг. Горбуновых вне Саратова. Фаддей Ильич знал, любил садовое дело и стал садовником. Николай Максимович и Евлампия Никифоровна не имели тогда больших денег, сами порядочно нуждались. Потому не мог и Фаддей [Ильич] делать больших работ для поправки сада,— не было средств,— и хозяева сада не могли давать ему большого жалованья; но всё-таки и у него было занятие, любимое им, и сад поправлялся, и хозяева сада давали Фаддею Ильичу, сколько могли,— он стал жить в полном благоденствии.
И жил, пока умер. Умер скоро. Напрасно, с одной стороны, это было напрасно потому, что ему уже было очень хорошо жить; с другой стороны — и потому, что впоследствии стало бы ему жить ещё лучше. Когда я был у гг. Горбуновых в этом саду в 1859 году, сад был уже хороший, и хозяева уже получали от него порядочный доход, и наверное не обделяли бы Фаддея Ильича из порядочного дохода, как не обделяли даже из небольшого. Наверное его обстоятельства улучшались бы вместе с их обстоятельствами, потому что они люди хорошие.
Значит, Фаддей Ильич не имел никакой причины жалеть, что судьба перебросила его в Саратов: он сошелся в нём с хорошими людьми; моё семейство было хорошее, полюбило его,— H. M. и Е. Н. Горбуновы — также, и их знакомство было для него ещё гораздо полезнее, чем знакомство с моим семейством.
Он и не считал себя особенно несчастным. Напротив. Правда, была у него мечта о жизни другого Фаддея Ильича, который сам жил так, как его саратовские знакомые,— который сам делал для других то, что они делали для него. У того Фаддея Ильича был большой хороший дом, с большим садом,— в том доме весело играли дети. Ну, да мало ли что было? — Фаддей Ильич называл себя счастливцем,— эти дети были не родные его дети, это были дети его сестры, овдовевшей и поселившейся у него. Какое для него счастье! — сестра — всё-таки далеко не то, что жена, племянники и племянницы далеко не то, что сыновья и дочери,— слава богу, слава богу, что далеко не то! — у других его компаньонов были дети и жены,— значит, он перед ними был счастливец.
Фаддей Ильич был во время моего детства не единственным украшением Саратова в том архитектурном стиле, к которому относился.
Когда я был очень маленьким ребёнком, по саратовским улицам бродили трое или четверо старичков в персидском платье,— желтые, сморщенные,— как они перебивались зимою, бог их знает,— зимою что-то не помнятся они мне,— вероятно, они прятались безвыходно на холодное время; но как начинали дребезжать винтики и гайки дрожек, появлялись и старички персияне и бродили по городу до осени. Три, четыре самые тёплые месяца они вероятно проводили на солнышке всё время, пока есть солнышко,— всё грелись на нём,— устанут бродить, сидят,— точно кошки ищут где по[687]больше пригревает, и усадятся; сидели они уж по-русски на скамьях; но говорить по-русски не учились; с детьми были ласковы — мне говорили, что они и дарят бедным детям понемножку деньжонок; что они ласкали детей, это я часто видел. Со взрослыми не входили в сношения, но если кто заговаривал с ними, то они отвечали знаками благодарности — ласковым киваньем голов, улыбкою,— на сочувствие, которое понимали по выражению лица говоривших,— но сами не завязывали и таких отношений и не старались продолжать их. Видно было будто такой принцип: «Против вас я не имею ничего, я вижу, что вы человек добрый; я такой же, как вы видите. Но — вы русский; согласитесь, что нам не приходится сближаться. Пока вам угодно обращаться ко мне, я обязан деликатно отвечать на ваши чувства; но я не желал бы иметь сочувствия себе ни от кого из русских. Считаю это излишним». — Так они сидели на солнышке и бродили, как тени,— и хоть знакомые, но чужие.
Два раза в год они оживлялись и быстро, как могли, шли стариковским дрожащим бегом или пожалуй отчего не сказать и «бежали» вниз, к Волге, поскорее свидеться с персиянами, которые тогда непременно останавливались на два, на три [дня], или и больше, в Саратове и на пути в Нижний, и возвращаясь оттуда. Итак, два раза в год был для саратовских желтых старичков восхитительный праздник. Они не расставались ни на минуту с проезжими персиянами, пока те жили в Саратове. У этих проезжих персиян были тогда два знакомые приюта для остановок: в доме купцов Скорняковых и в доме моей прабабушки. Вот поэтому-то я и слышал, что старички молодели и веселели с своими земляками и болтали без умолку с утра до ночи.
Впрочем, они вообще были очень болтливы: бродя по улицам, всё болтали между собою. — Но вот, вместо троих, стали бродить только двое. Когда мне было лет 10, бродил уже только один. Этому уж не с кем было болтать. Он что-то много лет бродил один.
Кто были эти персидские старички, зачем они жили в Саратове — никто не знал; когда они появились в Саратове, тоже неизвестно,— только, вероятно, тогда они были помоложе,— значит, это очень давно,— может быть, в XIX веке, может быть ещё в XVIII,— а если судить по желтизне и сморщенности их лиц, то надобно полагать, что гораздо раньше,— очень правдоподобно, что это были остальные из персидских пленных, оставшихся в руках туземцев Саратовской губернии из войска Дария Гистаспа. — Если так, то очень жаль, что я тогда ещё не был так усерден к науке, как стал впоследствии: старички, оставшись вне театра своей отечественной истории ещё на первых порах её, конечно, не могли бы сами рассказать ничего о важнейших её временах: Ксеркс, Артаксерксы, Марафон, Платея, Микале, Лизандр, Агезилай, Александр Македонский, всё это было уже после них; но и времена Кира, Гистаспа имеют довольно большую важность; а главное, старички дали бы алфавит для чтения гвоздеобразных надписей. Жаль, что не пожили [688] они ещё лет пяток,— тогда я уже интересовался по статье «Энциклопедического лексикона» Плюшара[499] вопросом о чтении гвоздеобразных надписей.
Фанатизм Фаддея Ильича,— потому что не может же быть, чтобы он не был фанатик,— напоминает мне приключение другого господина, той же веры.
Двор моей бабушки тянется, вероятно, сажен на 50 в длину, вниз по Волге, и спускается к ней тремя террасами. Двор моего батюшки — тут же рядом, выше продолжение верхней террасы. — На второй из террас двора моей бабушки стоит, между прочим, маленький флигель. Когда мы жили уже все на дворе моего батюшки, этот флигель отдавался в наем. Поселилось в нём очень бедное мещанское семейство, с тем расчётом, что само всё станет жить в крошечной кухоньке его, а комнаты будет отдавать жильцам-нахлебникам. Кто были эти жильцы, нам уж не было никакого дела; может быть, бабушка и слыхивала о них,— а может быть, и вовсе нет; времена были ещё простые, полиция ещё не требовала от хозяев извещений о проживающих у них,— то-есть был ещё такой же порядок, какой и до сих пор остаётся в Англии, которую Саратов обогнал в этом отношении лет 15–20 тому назад,— не знаю, как теперь ведётся в Саратове новый порядок, составляющий прогресс Саратова перед Англиею,— вероятно, полиция уж открыла в нём что-нибудь хорошее, а на первое время она была недовольна нововведенною своею обязанностью отбирать справки от проживающих,— говорила, что это лишнее обременение, которое ни к чему не ведёт; честные люди и так не прячутся от полиции, а мошенники — все известны: мошенник не может жить без того, чтобы не быть известен полиции; иначе он в один день угодил бы в острог. — Жители давно имели эту аксиому самым общим и твёрдым своим убеждением. — Итак, в те времена полиция ещё не требовала, чтобы хозяева доставляли ей извещения о том, кто переселяется на их двор, кто съезжает с него, а бабушка в это время была уже плоха здоровьем, не бродила по двору для хозяйских распоряжений, как прежде; потому, я полагаю, ей и вовсе не приходилось узнавать, кто жильцы у мещан во флигеле на втором уступе её двора. А мы, остальные, положительно не знали ни одного из них.
Но вот, однажды поутру, приходит пожилой офицер, спрашивает мою бабушку,— его просят в комнату, где она сидела вместе с остальною семьею,— сделайте одолжение, садитесь, что вам угодно.
— Я отставной поручик Иосафат Петрович Скарино, Пелагея Ивановна,— честь имею рекомендоваться вам, потому что я перехожу жить на ваш двор, к мещанам,— он назвал фамилию мещан, которую я теперь не припомню.
— Очень приятно познакомиться.
— Это нужды нет, Пелагея Ивановна, что я одинокий человек: я обе комнаты у них снял. Потому что, что же мне не жить в обеих комнатах, хоть я и один? [689]
— Это ваша правда, тут нет ничего предосудительного.
— И я теперь зашёл к вам в стареньком вицмундире, а у меня есть и новый вицмундир, Пелагея Ивановна,— право, есть.
— Я верю, Иосафат Петрович,— это очень хорошо, что вы по будням носите тот вицмундир, который попроще и постарше, а новый надеваете по праздникам.
— Я так и делаю, Пелагея Ивановна; у меня тоже и панталоны (тогда в Саратове наименее предосудительным названием этой статьи туалета считалось «панталоны») — тоже не одни,— у меня их двое суконных; эти, вы видите, заштопанные,— а другие у меня новые, хорошие.
— Это хорошо, Иосафат Петрович. — И так дальше. Буквально, это было начало разговора, который так и шёл дальше. Иосафат Петрович тут же без утайки во всём исповедался моей бабушке и остальным нам: все свои вещи, все свои нравы, и всё, всё, до капли. Это был при очень, очень недалёком уме,— почти идиотстве,— простяк и в смысле откровенничанья. — Прекрасно. Так он и заходил к нам частенько,— он был человек отставной, жил своею маленькою пенсиею, делать ему было совершенно нечего,— часто он ходил на гауптвахту у Нового собора проводить там время с дежурным офицером, если офицер хотел говорить с ним; но больше с солдатами, потому что офицер редко хотел пользоваться его собеседничеством, а из солдат всё найдется кто-нибудь, что не очень поскучает и таким немудрящим компаньоном; тоже сиживал Иосафат Петрович у себя под окном, поглядывая на крышу соседнего флигеля, сиживал на крыльце у себя, ходил постоять на берег Волги, ходил и в церковь, тоже очень часто, каждый день,— он был очень усерден к нашему храму божию, Сергиевскому, но только по будням,— по праздникам ходил в Новый собор, потому что там служит архиерей и все военные бывают. Обо всем этом он, разумеется, очень подробно сообщал моей бабушке, а кстати пользовались этими сведениями и все мы, кому случалось здесь сидеть. А очень часто случалось сидеть тут всему семейству, потому что обыкновенно приходил он около времени чаю, поутру,— идёт из церкви и зайдёт посидеть.
Вот однажды Иосафат Петрович во время чаю и начинает рассказывать, что вот ныне сподобил бог его причаститься.
— Как, Иосафат Петрович, значит, вы католик (время было вовсе не обычное для говения у православных)?
— Как же, я католик. А я разве ещё не сказывал вам?
— Нет ещё, не сказывали.
— Как же это я позабыл сказать?
Мой батюшка, сидевший тут же, услышал этот разговор.
— Так вы католик, Иосафат Петрович? Что же это вы всё в нашу церковь ходите? Ведь это для вас может быть нехорошо: ваш священник узнает, побранит вас; да ещё и нас с Яковом Яковлевичем (другой священник, товарищ моего батюшки по Сергиевской церкви) бранить станет. [690]
— Нет, батюшка, Гавриил Иванович, я спрашивался; он говорит: ходи, говорит, нужды нет.
— А когда так, то, разумеется, это ничего,— сказал мой батюшка.
— Я, батюшка, Гавриил Иванович, всегда так спрашивался; во скольких городах на службе бывал,— всегда спрашивался у своего священника,— что мне, говорю, русская церковная служба привычнее,— потому что ведь всё по-русски, между русскими,— ну, наши священники и говорят: ходи, говорят, ходи.
Конечно, Иосафат Петрович имел гораздо менее возможности, чем великий князь Владимир Святославич, из-за которого по Нестору состязались вероучители греческие, латинские, иудейские и мухаммеданские,— но всё-таки и судьба вероисповедания Иосафата Петровича поучительна: с молодости до старости ходил человек в русские церкви,— и надобно полагать, что не трудно было бы совладеть с умом человека такого необширного ума, если бы кто-нибудь вздумал обращать его из католичества; но вот, так и дожил он до кончины в преклонной старости, не натолкнувшись ни на одного охотника обратить его, хоть подходил под благословение по крайней мере к сотне русских священников. Но положим, русское духовенство не считается чрезвычайно усердным к деланию прозелитов; так зато католическое считается самым усердным и ревнивым. Мне кажется, трудно предполагать, чтобы в течение 30 или 40 или 50 лет, когда Иосафат Петрович всё спрашивал разрешения ходить в русскую церковь, ему приходилось в разных городах спрашивать всё одного и того же католического священника,— вероятно, тоже по крайней мере десяток католических священников перебывали его духовными отцами,— и никто из них не… [691]
[Автобиографические отрывки]
Наша улица. I. Корнилов дом
Мы играли с бабушкою в шашки.
— Пелагея Ивановна, какой-то мужик велел вам сказать, что пришёл Никита Панфилыч,— сказала служанка.
— Зови сюда,— сказала с радостью бабушка.
— Здравствуй, Полинька!
— Здравствуйте, Никита Панфилыч! — Они обнялись и поцеловались несколько раз.
Я смотрел с удивлением. Много неказистых родных было у нас, но такого я не видал ещё ни одного. Коренастый, приземистый мужик в нагольном длинном полушубке, ещё здоровенный мужик, хотя уж был по виду лет 60, а по разговору вышло потом за 70, облобызался с моею бабушкою, назвал её милою племянницею. Шашечница была отодвинута в сторону, и Никита Панфилыч уселся на моём стуле, широко расставив колени, положил на полушубок между колен мерлушчатую высокую шапку весом фунтов в пять, вынул из шапки синий ситцевый платок, долго утирал им пот,— а бабушка в это время говорила:
— Лет двадцать не виделись, Никита Панфилыч,— что это вы не заходили столько лет?
Обтершись, Никита Панфилыч начал толковать,— но о Никите Панфилыче будет особая история, а теперь пока важно только то, что Никита Панфилыч сказал:
— А вот от тебя, Полинька, пойду к Корнилову,— тоже давно не виделись.
— Бабушка, Никита Панфилыч пойдёт к Корнилову? — сказал я.
— А [это] твой внучек, что ли? — спросил Никита Панфилыч.
— Внучек Николя, вот с ним в шашки всё играем,— сказала бабушка, погладила меня по голове и подвинула за руку вперёд к Никите Панфилычу. [692]
— Здравствуй, Николя,— сказал Никита Панфилыч, тоже гладя меня по голове.
— Да вот ему всё хотелось, Никита Панфилыч, побывать в Корниловом доме,— сказала бабушка,— всё заглядывается на него, как идём мимо.
— Что ж, Николя, пойдём со мною, я тебя сведу,— сказал Никита Панфилыч.
Вот каким манером я сподобился видеть внутри Корнилов дом, и вдобавок самого Степана Корнилыча с супругою.
Точно, нельзя было не пожелать побывать в Корниловом доме. Три-четыре казенные здания — корпус присутственных мест, дворянское собрание, семинария — были гораздо больше его, но из частных домов он был тогда самый большой в нашем городе,— в два этажа, 18 окон на нашу улицу и 7 окон на Московскую улицу. Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная тоже железная кровля была красная.
Мы с Никитою Панфилычем остановились в передней, по-нашему — прихожей. Он уселся на коник,— в нашем городе в прихожих тогда везде были коники — длинные ящики или сундуки во всю длину прихожей, заменяющие собою лавки. С четверть часа мы посидели, дожидаясь, пока кто заглянет в прихожую и увидит нас. Вошёл слуга, из мелких приказчиков или «молодцов», и был послан Никитою Панфилычем к Степану Корнилычу с таким же докладом, какой получила моя бабушка: «скажи, что пришёл Никита Панфилыч»,— тоже Никита Панфилыч был немедленно поведен к Степану Корнилычу. Через три большие комнаты, показавшиеся мне тогда великолепными, а теперь припоминающиеся мне грязноватыми сараями почти без мебели, прошли в маленькую комнату с лежанкою. На лежанке сидел Степан Корнилыч, старик маленького роста, ещё не дряхлый, но очень старый: волоса из седых стали уже желтыми. Лицо издали показалось мне румяным, но из близи я рассмотрел, что оно было покрыто кровавыми жилками. На старике были высокие валеные сапоги с кожаного обшивкою подошв, нанковый халат, засаленный до того, что только пониже колен можно было рассмотреть зеленые полоски по желтому полю, а с колен до самого ворота всё слилось в густой изжелта-чёрный цвет от толстого лака жирной грязи.
— Здравствуй, Никита Панфилыч, давно не видались, садись.
Никита Панфилыч расселся точно так же, как у бабушки. Я стоял, опершись локтем на коленку Никиты Панфилыча.
Обменявшись с ним несколькими словами, хозяин спросил про меня:
— А это кто с тобою? внучек, что ли?
— Правнучек приходится,— Пелагеи Ивановны внучек,— сказал Никита Панфилыч, погладив меня по голове, и, взяв за руку повыше локтя, подле плеча, подвинул к лежанке. [693]
Хотя мой нос подвинулся к Степану Корнилычу от нагольного полушубка, но всё-таки услышал сильный прелый и жирный запах от одежи и рук Степана Корнилыча.
Степан Корнилыч тоже погладил меня по голове, Никита Панфилыч отодвинул назад к себе, я снова оперся на его коленку локтем и так простоял всё время нашего посещения, часа три, я думаю, и, должно быть, не устал, не помню.
— Чайку надо с тобою выпить, Никита Панфилыч. Прасковья Петровна, вели чаю дать.
Никита Панфилыч начал свои рассказы, которые говорил и бабушке, Степан Корнилыч слушал. Молодец внес самовар, поставил прибор. Степан Корнилыч слез с лежанки, подсел к столу с чаем; стол был простой липовый, крашеный «мумиею» (кроваво-красная краска), как и стулья.
— Давай чай наливать,— таким чаем тебя никто не угостит, как я,— не умеют, надо знать, как с ним обходиться.
Он взял толстое, грязноватое полотенце, разостлал его по широко расставленным коленам по своему засаленному халату, так что концы висели с обеих сторон поровну, высморкал нос рукою, обтер руку о халат, взял полотенце обеими руками — на половину рука от руки — в горсть, так что середина полотенца свернулась и натянулась, этим натянутым свертком он два раза провёл у себя под носом — утерся — и снова разложил его на коленях прежним развернутым порядком, ототкнул жестяную чайницу, взял в правую руку, подставил левую ладонь, высыпал на неё чаю, сколько было нужно по чайнику, заткнул чайницу, отставил к стороне, наложил правую руку на левую, на которой лежал чай,— а руки были весьма потные и грязные, какие даже у меня редко бывали после игры в бабки (по-нашему — в козны),— и начал растирать чай. Тер долго, начал так, что провёл ладонь вдоль ладони, потом так вертел ладонь на ладони, потом снова вёл вдоль,— сделал раза четыре такую смену дирекции, сказал: «теперь можно в чайник,— от этого вкус в нем: не растёр — вкусу того не будет».
Когда он снял правую ладонь с левой, на левой ладони была куча мелкого порошка щепотки в три, порошок был весьма влажный от вошедшего в него пота, так что были в нём довольно большие комочки, слегка слипшиеся. Пока чайник стоял на самоваре, Степан Корнилыч раза два вытирал полотенцем пот с лица, наконец стал вытирать им чашки. В это время вошли в комнату двое,— эти, конечно, без всякого доклада, потому что были благородные; один из них — Андрей Васильич, о котором будет особая история, человек, знакомый со всем городом, другой — незнакомый ни мне, ни кому.
— Вот господин учёный,— сказал Андрей Васильич и назвал: Пётр Арсеньич такой-то (назвал фамилию учёного), коллежский советник приехал к нам (при слове «коллежский советник» Степан Корнилыч встал, поклонился и снова сел); обращается к вам, Степан Корнилыч, как здешнему старожилу, чтобы вы ему порасска[694]зали, что ему хочется узнать о нашей старине,— и старину вы помните, и о нынешних делах тоже,— а он хочет книгу писать об этом.
— Можно,— сказал Степан Корнилыч,— много помним, извольте, сударь Пётр Арсеньич, спрашивать. Только вперёд скажу, об нашем соляном праве не спрашивать: потому, мне нет выгоды об этом рассказывать, потому что всякое право — значит, и наше тоже — секретом держится. А об других обо всяких делах могу рассказывать.
Приезжий учёный стал расспрашивать, и видно [было], что он доволен ответами Степана Корнилыча. Степан Корнилыч отвечал в таком духе:
— А относительно старины вы, сударь, спрашиваете, лучше ли тогда было. Как можно, сударь? нет, сударь, хоть привольности, точно, больше было, зато и притеснения было не в пример больше, и порядку не было. Наше купеческое право возьмите: теперь почта из Москвы к нам два раза в неделю ходит,— тогда этого не было; по дорогам разбои были, по Волге разбои,— теперь этого нет. Меня в пример возьмите — 2-й гильдии купец, а грамоте не знаю; какое же купеческое право без грамоты?
Лет через пять мне случилось читать статью расспрашивавшего учёного о нашем городе, и я нашёл там, что он с признательностью упоминает «о множестве интересных сведений, сообщенных ему почтенным и умным старожилом нашего губернского города, купцом Степаном Корнилычем Корниловым». И точно, похвала была не напрасна. Да возьмите уж то, что 85-летний старик, безграмотный, не испугался сообщить всё, что знал (кроме своего соляного права), учёному, который всё будет записывать и описывать,— это редкость. Часа полтора, я думаю, говорил он, и учёный всё слушал со вниманием.
Промежду разговоров напились чаю,— хорошо, что учёный не видел его приготовления,— а я пил, ничего, хоть и видел. Закусили,— и Степам Корнилыч, угощая других, сам выпил только одну рюмку Ерофеича.
Но вот Андрей Васильич[500] подмигнул своему товарищу,— как я теперь вспоминаю, старик начинал повторяться, и Андрей Васильич знал, что больше уж нечего от него узнавать,— подмигнул товарищу и спросил:
— А сколько вам лет, Степан Корнилыч?
— Да 98, батюшка.
— Сколько было в Пугачи?
— 16 лет было.
— Это значит, теперь должно быть 86,— с Пугачей только 70 лет прошло.
— Ну, коли так, так в Пугачи было больше,— значит, под 30 было. [695]
Но этот приступ Андрея Васильича ещё не подействовал на учёного: вещь известная, что старики любят прихвастнуть годами.
— А вы бы рассказали, Степан Корнилыч, Петру Арсеньичу, как Петра Великого встречали.
— Как же батюшка, с почетом встречали, как следует великого царя,— в колокола звонили, хлеб-соль подносили в Старом соборе — на паперти в верхней-то церкви, на галдарее. И так милостиво говорил со всеми и шутить изволил, всем сказал привет, и мне: «ты, говорит, Степан, у меня соль-то с Елтона покупаешь али воруешь?» (Ведь я ратманом тогда был, так подле, значит, самого головы стоял.) — «Не ворую, говорю, ваше императорское величество, а покупаю». — «Ой, воруешь, говорит, меня не обманешь, брось воровать,— вишь палка-то у меня какая,— она воровские спины любит». — Пошутить, значит, изволил — шутник был, но грозный, как есть царь.
При этом рассказе теперь не только приезжий учёный — даже и я выпучил глаза: если б Степан Корнилыч был пьян, ещё можно было бы понять такую гиль,— но нет, он выпил ещё только одну рюмку, и по глазам было видно, что совершенно трезв.
— Да как же вы говорите, Степан Корнилыч,— продолжал Андрей Васильич,— что вы тогда ратманом были: ведь и по вашим словам вам 98 лет, а Пётр Великий уже 115 лет как умер,— значит, тогда ещё и отец-то ваш соску сосал, а может и не родился ещё.
— Так что, я тебе врать что ли стану? — сердито сказал Степан Корнилыч.
Андрей Васильич завёл другой разговор, продолжая закусывать. Степан Корнилыч выпил ещё несколько рюмок. Тогда Андрей Васильич возобновил пробу.
— А что, Степан Корнилыч, ведь Логинов-то врёт, англичанин правду пишет, что в наших местах море было? (После я узнал, как произошёл такой вопрос: редактор «Губернских ведомостей» писал статьи, в которых доказывал, что Мурчисон ошибся в том, что юго-восточный край России был некогда дном моря; редактор «Ведомостей» понимал в геологии едва ли не меньше, чем я, и над его полемикою против Мурчисона много смеялись грамотные люди в городе.)
— Врёт Логинов, море здесь было, точно.
— Да вы-то почему знаете, Степан Корнилыч?
— Чать, своими глазами видел — до самых Хвалынских гор было, я бывал на Хвалынских горах, смотрел на море. И, шумно плещет.
— Пойдёмте, Андрей Васильич,— сказал приезжий. Гости ушли.
Я тогда совершенно растерялся от уверения Степана Корнилыча, что он видел море у Хвалынских гор. Но в это время он был уже навеселе. Но и теперь мне трудно понять рассказ Степана Корнилыча, ещё трезвого, о том, как он встречал Петра Великого. [696]
Конечно, ясно, как это образовалось в нем: привык кричать на домашних, не терпел противоречия никакой дикой своей выходке, в первый раз соврал, вероятно, навеселе и по упрямству продолжал утверждать то же самое и пьяный и трезвый. Но всё-таки вещь неимоверная, и тем нелепее, что Андрей Васильич уже не один десяток раз подъезжал к нему при чужих людях с этим вопросом, чтобы выставить его дураком на посмеяние,— и он всё-таки каждый раз повторял свой рассказ.
По уходе Андрея Васильича Степан Корнилыч с Никитою Панфилычем продолжали закусывать и выпивать. Никита Панфилыч, ещё крепкий, оставался в своём уме, когда Степана Корнилыча уже совершенно разобрал хмель, и старик приложил руку к уху, загнув голову набекрень, и затянул какую-то скверную песню. Но не успел он пропеть двух-трёх стихов, как влетела в комнату старуха и прямо на него, как ворона на падаль.
— Ах ты, старый чёрт, пьяница, снова горланишь, буянишь!
Старуха взмахнула жгутом вроде того, каким бьют друг друга дети в своих играх, только скрученным из большого шейного бумажного платка, и весьма круто, так что удары жгута раздавались отчетливо и звонко, как от палочных ударов. Старуха держала Степана Корнилыча за шиворот и била жгутом, не разбирая места; удары сыпались по затылку, по темени, по вискам.
Почему для наказания служило такое необыкновенное орудие — крепкий, как палка, жгут из огромного платка? Дети таких жгутов, не делают, да едва ли были дети в доме. Откуда же взялся этот жгут? Неужели Прасковья Петровна сделала его и постоянно держала наготове именно для этого употребления? Иначе трудно объяснить, зачем такая замысловатость? Почему не просто кулак, не палка, не плетка, вещи готовые, а жгут? Но как ни непостижимо происхождение жгута, он работал над стариком страшно.
Никита Панфилыч испугался.
— Прасковья Петровна, вы его убьёте так; уж если сердце взяло, лучше таскайте его за косы!
— Не убью! Здоров нахальник, выдержит!
А он едва барахтался под её рукою и всё твердил: «прости, Параша, виноват, не буду». Наконец Прасковья Петровна подняла его пинками со стула и наполовину потащила, наполовину погнала пинками и ударами жгута.
Застучал засов, повалилось что-то, т. е. старик, снова стукнул, засов, и Прасковья Петровна воротилась к нам.
— Заперла в чулан разбойника, чтоб проспался.
— Больно уж вы без разбору бьёте по голове, Прасковья Петровна, как можно так! — повторял Никита Панфилыч.
— Он 60 лет надо мною надругался. Это что? Никита Панфилыч, уж я тебе показывала.
Прасковья Петровна повернулась к Никите Панфилычу и ко мне, стоявшему опершись на его колено, одним ухом, потом другим:
— Смотри, где серьги-то! [697]
В одном ухе серьга была вдета на половине, в другом выше половины,— и точно, ниже не было для них места: нижние половины ушей были в клочках, глубоко изорваны, чуть не [до] самого корня. Но ходить без серег зазорно женщине, и потому как муж вырывал серьги с клочком ушей, Прасковья Петровна отыскивала подальше от отправной каймы и повыше новое место для этого необходимого украшения. На каждом ухе было десятка по полтора следов этих прежних положений. Прасковья Петровна, как услышал я из разговора её с Никитою Панфилычем, была старше двумя годами,— в Пугачи ей было уже 18 лет,— но она сохранилась бодрее мужа, потому что смолоду вовсе не пила и теперь пила, по её словам, с умом, без безобразия, днём только по рюмочкам, на ночь больше. Благодаря этому она уже несколько лет вымещала на Степане Корнилыче старые поругания и учила его разуму.
Посидев с нею полчаса, Никита Панфилыч простился и отвёл меня домой.
И самого Никиту Панфилыча видел я один только этот раз, и стариков Корниловых тоже. О Степане Корнилыче мне уже и не случалось слышать ничего в следующее время, когда я был знаком с его внуком, но Прасковью Петровну, пережившую мужа несколькими годами, внук помнил.
Когда она получила перевес силы и трезвости над Степаном Корнилычем, она, разумеется, взяла в свои руки и доходы и сохраняла эту власть после него, до самой смерти. Доход они получали большими кушами: Степан Корнилыч в это время уже не торговал,— он употребил деньги на покупку и устройство большой крупчатой мельницы и уже давно не сам заведывал ею, а отдавал в аренду. За аренду платили ему 30 000 руб. (ассигнациями), сумма по тогдашнему (в 30-х годах) весьма большая, и это продолжалось лет по крайней мере пятнадцать. А он с Прасковьею Петровною жили весьма скупо и грязно, так что едва проживали по полторы тысячи в год. Следовало ожидать, что найдется после старухи большой наличный капитал,— он и действительно составился, старуха сама говорила об этом дочери. И дочь, и гости, при которых случалось, видели, как поступала Прасковья Петровна с деньгами, которые арендатор приносил три-четыре раза в год.
Деньги в то время были все серебряные и золотые, серебряные — больше всего испанские пиастры с двумя столбами, золотые — «лобанчики», луидоры с портретом Людовика XVIII, по высокому лбу которого они и были прозваны лобанчиками. Ассигнаций было разве на одну пятую долю против серебра и золота. Вот Прасковья Петровна сложит в фартук мешочки и свертки, составлявшие порядочный груз, с полпуда или и до пуда, и кряхтя потащит эту ношу,— идёт за службы на задний двор, где баня и тоже амбары и разные клети. Калитку за собою запрет, а сама скрывается за службами, так что нельзя подсмотреть, где она зарывает в землю [698] или в какой клетушке прячет деньги. Она и умерла, не успев сказать дочери, где спрятала, и деньги пропали.
От этого Корниловы, которые считались людьми богатыми при Степане Корнилыче и Прасковье Петровне, оказались не весьма богатыми по их смерти, а лет через десять стали вовсе небогаты, по бестолковости дочери-вдовы, которой досталось заведывать всем.
Дочь эту, Дарью Степановну, я видел много раз лет через пять и десять после того, как видел стариков. Женщина высокого роста, широкой кости, дородная, но и весьма толстая, она своею вялою фигурою и мямлящим порою голосом заставляла вас предполагать в ней идиотку, и чем дольше вы её слушали, тем тверже оставались в этом мнении. Слова были так бессвязны, она, говоря медленно и вяло, делала, однако, после каждых десяти слов такие повороты от одного предмета к другому, не имеющему никакого отношения к прежнему, что никто не мог её понимать, кроме очень близких знакомых, вперёд знавших всё, что она могла сказать. Вот, например, одна из её речей:
— Саша у меня что-то жалуется, что в Москве засуха, мельница стала, воды мало, потому что Иван Игнатьич ворот не чинит, я и говорю: Фленочка, тебе надо в деревне жить.
Это означало вот что: сын, учившийся в московском университете, писал ей, жаловался на строгость экзаминаторов,— она забыла договорить, а вместо того заключила фразу сожалением, что арендатор мельницы не внес в срок денег,— но до этого она не успела договорить, забыла, успевши сказать только причину, которой тот оправдывался в неисправности, и уже заговорила о другой своей жалобе на сидельца Ивана Игнатьича, заведывающего домом; а Фленочка, её двоюродная племянница, бедная чахоточная девушка. И она все эти четыре вещи спутала в одну, хотя между ними нет ни малейшего отношения, и ни об одной из них не сказала того, что хотела сказать. И ещё если бы это говорилось бойко, скороговоркою,— тогда хоть речь её была бы несколько бестолкова, но по крайней мере можно было бы думать, что хоть она сама понимает, что говорит, что идиотство только в её словах, от прыганья языка, а ход мыслей у неё в голове всё-таки имеет какой-то смысл. Но нет, она говорила эту бестолочь тихо, спокойно, систематически. Чистая идиотка.
Особенно знаменита была [она] в нашем детском кругу своею манерою молиться. Я, когда был ещё ребёнком, задолго до того, как стал видеть её, уж знал два образца её молитв по рассказам её родственниц-девочек, наших знакомых, и особенно по рассказам этой Фленочки, которая была старше нас годами пятью и которую я помню уже только взрослой девочкой, почти невестою. Вот одна из её многих таких молитв, переданных нам, маленьким, Фленочкой. Молитва относится к вечерней поре, читается перед отходом на сон грядущий. [699]
Дарья Степановна становится перед кивотою,— она женщина усердная в вере, как и все, не бог знает какая богомолка, как и все, но в молитве усердна, и вздыхает, кланяясь в землю, и поплачет от умиления.
— Отче наш …сех, да святится — Лиза (сноха), ты ещё не ложишься спать? — имя твое, да при… — Нет ещё, матушка. — Да будет воля твоя (поклон в землю), яко… на земли. Вот в углу-то таракан ползет… Хлеб наш… — Татьяна… — даждь нам днесь.
— Что угодно, Дарья Степановна? — Дарья Степановна теперь, встав с полу, поворачивает лицо к Татьяне:
— Снег на дворе ещё ли идёт или перестал?
— Идёт ещё, Дарья Степановна.
Дарья Степановна повертывается снова лицом к земле и продолжает: днесь и остави, и т. д.
И хоть бы думала-то или спрашивала о чём-нибудь по хозяйству что-нибудь с толком, а то вещи совершенно ненужные.
Но серьёзнее всего доказывается её крайняя глупость тем, что деньги, запрятанные матерью на заднем дворе, так и пропали. Ей говорили: «Сломайте всю дрянь, построенную на заднем дворе, разберите все по бревну, по доске; не найдете — перекопайте землю на аршин,— не могла же мать своими старыми руками закапывать бог знает как глубоко,— серебро и золото найдется всё в целости, а если бумажки и нашлись бы уже сгнившими, то бумажек было не так много; почти весь капитал возвратите». — Но нет, не могли втолковать ей это. Она только жаловалась и охала,— да и охать начала уже лет через пять по получении наследства, когда дела её стали плохи, а прежде думали, что мать сказала ей, где деньги. её родственники — наши знакомые — были люди небогатые и не могли ничего сделать против неё, напротив, должны были оказывать ей уважение. Через год после того, как она стала жаловаться и охать на безденежье, ловкий и богатый купец Сырников сделал смелый, но верный оборот: продал всю свою лавку, занял денег, подъехал к Дарье Степановне и купил у неё дом. После того тотчас он повёл большую торговлю. Все говорили тогда: «Отыскал спрятанные деньги,— должно быть, так». Теперь он из немногих миллионеров нашего города, где купечества много, но особенно богатых купцов меньше, чем во многих других городах, далеко уступающих нашему общею суммою своих торговых оборотов.
Сырникова я никогда не видел и ничего не знаю о нём, кроме того, что он оборотливый купец. Мои воспоминания теряют всякую связь с домом Корнилова по переходе этого дома в его руки. Но мои воспоминания о семействе Корниловых получают гораздо больше определительности именно со времени продажи дома. Она показала обеднение Корниловых. Дарья Степановна раньше почти не бывала у своих небогатых родственников, наших знакомых,— теперь гордиться было уж нечем, она стала часто бывать у них, я тут видел её, потом её сына и сноху. [700]
При такой хозяйке, разумеется, всё пошло прахом, и когда он подрос и занялся делами — лет через пять после смерти бабушки — он вместо огромного куска земли с богатою мельницею нашёл уцелевшими уж только 200 десятин.
Отчего так глупа была Дарья Степановна? Случайно ли попал [в] её голову кусок такого коровьего мозга, или вдруг разразились в бедной голове следствия дикой пьяной жизни, одуряющей жизни трёх-четырёх предшествовавших поколений, или отец и мать как-нибудь при родственном наказании отшибли ей рассудок неосторожным ударом, или такого особого удара не было, а вообще они заколачивали её в глупость постепенно? Не знаю.
И что же вы думаете! Женщина такой замечательной глупости всё-таки сама могла много помочь выйти в несколько порядочные люди и приобрести кусок хлеба своему сыну, который вместе с нею остался бы бедняком по её милости.
Как она была одна дочь у отца и матери, так и у неё был только один сын. Сама она была безграмотна, подобно своим родителям, но сына отдала в гимназию — почему? Бог её знает, разобрать было нельзя. Иной раз она говорила: «хоть чтоб был благородный», в другой раз: «без ученья нельзя». Вернее всего, что она и эти объяснения повторяла понаслышке, как попугай, но тем замечательнее. Если говорить высоким слогом, то она, по всей вероятности, была «орудием времени» — и верным орудием: отец и мать её, люди, далеко бывшие всё-таки не ей четой по уму и характеру, говорили ей, что это ненужно,— она не слушалась; они велели взять сына из гимназии,— не слушалась. Сын был мальчик хороший, но не бойких способностей, не переходил из класса в класс и ленился, да и не хотелось,— она не жалела денег на взятки учителям и всё-таки дотащила его к 20 годам до седьмого класса, из седьмого класса не могла вытащить,— сама отправилась с ним в Казань и поместила в университет на юридический факультет. Слов «университет», «факультет» она никогда не могла выучиться произносить, но ездила в Казань каждую весну во время экзаменов, хлопотала, тратила деньги и всё-таки добыла сыну аттестат действительного студента, привезла назад и определила на службу. Ученик и студент он был плохой, но чиновник вышел хороший,— недалёкий, не бойкий делец, но работящий, всё-таки был образованнее других,— тогда, лет 30, 20 назад, в провинции было весьма мало университетских между чиновниками,— и шёл себе по службе, года через два был столоначальником в гражданской палате,— по небогатому столу, но всё-таки мог кормить себя и жену, потому вздумал жениться. Или нет: поэтому только мог бы жениться, и мать стала говорить: «пора жениться», а вздумал жениться потому, что влюбился — однако это слово не годится в таких рассказах, и оно в той жизни, в какой я вырос, вовсе неизвестно. В тех кругах тогда говорили: «понравилась ему девушка»,— это в хорошем смысле, а в дурном говорили: «хочет любовницей иметь» или «хочет связь завести». [701]
II Жгут
Архиерей брал моего батюшку своим провожатым по «епархии», а ехал он по епархии в заволжские уезды. В день отъезда папенька отправился к архиерею очень рано поутру,— осмотреть карету, уложить вещи и сделать все такие сборы; как будут они кончены, так и поедет папенька с архиереем прямо на пристань, где со вчерашнего дня стоит «дощаник» (небольшое судно с палубою)[501] для перевоза архиерея с его свитою через Волгу; итак, с архиерейского двора прямо на дощаник; заехать домой ещё раз проститься будет нельзя, хотя для этого довольно было бы менее четверти часа,— наш дом был менее чем в полуверсте от архиерейского, и можно бы, кажется, отпустить на четверть часа человека, который проработал над вашими удобствами с 4 часов утра до 12 или до часу. — Архиерей был Иаков (бывший потом в Нижнем), писавший учёные сочинения о местных наших золотоордынских древностях,— эти брошюрки он переписывал с рукописных листков профессора нашей семинарии Г. С. Саблукова (после бывшего профессором Казанской Академии), одного из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей, каких я знал,— печатавший и свои проповеди, которые замечательны не сами по себе, а по переписке. Папенька был человек, страшно заваленный работою: он своею рукою писал от 1 500 до 2 000 «исходящих» бумаг в год,— да кроме того, производил бог знает сколько следствий, кроме того был тогда членом консистории (интересно его удаление от этой должности: история изумительная,— хорошо, если можно будет рассказать ее),— кроме того, имел службу по своей приходской церкви,— много было дела. Но у него был хороший почерк, хоть вовсе не каллиграфический, почему-то почерк этот стал нравиться Иакову больше всякого каллиграфического, и он отдавал свои проповеди переписывать моему папеньке; папеньке, человеку до такой степени заваленному работою (которая почти вся проходила под резолюциями Иакова, стало быть была известна, велика ли), имевшему тогда уже под 50 лет, слабевшему глазами. Если бы Иакову пришло в голову, что это — лишнее обременение, он, конечно, не стал бы делать этого. — Вот, так и теперь: если бы Иакову пришло в голову, что папенька имеет семейство, что папенька приехал укладывать его вещи в 4 часа утра, что семейство ещё спало в это время,— если б Иакову пришло это в голову, он отпустил бы папеньку перед отъездом к нам и не на четверть часа, а на час. Но ему не сообразилось этого, хоть всё это знал не хуже самих нас. [702]
И семья наша знала, что это не сообразится ему: потому с вечера условились, что мы поедем ждать проезда архиерейской кареты в дом родственников, у пристани. Когда карета поровняется с домом,— вот, папенька и скажет: «ваше преосвященство, позвольте забежать (50-летнему забежать!) — на минутку проститься со своими — они тут меня ждут»,— папенька не посмел бы сказать и этого,— как можно задерживать? — но задержки от этого не выходило: проулки, спускающиеся к Волге,— по-нашему, «взвозы»,— у нас очень круты, тогда ещё не были мощены, были страшно изрыты весеннею водою в течение сотни лет,— карета должна была вилять слишком медленным шагом между крупных рытвин,— значит, папенька и успеет сбегать, перецеловать нас и догнать карету. Архиерей добрый,— отпустит. — И точно, отпустил, и мы простились с папенькою.
Но мы ждали проезда архиерейской кареты очень долго: Иаков хотел выехать часов в 12,— и мы забрались к родным часов в 11, а архиерей выехал уже перед вечернями, в половине 4-го, и благодаря этому долгому ожиданию были мы свидетелями случая, о котором и пишется мною этот рассказец. Но прежде,— кого же благодарить за это промедление, интересное в воспоминании? — В 11 часов приехала к Иакову «Дмитриха» — г-жа Дмитриева — одна из наших тогдашних пожилых аристократок средней руки, и просидела у него часа четыре, рассказывая о телятах, об овсе, о гусыне, которая кладет что-то очень много яиц, и о своей Матрене, умеющей отлично варить щи,— но больше всего о телятах. Бедняжка Иаков три-четыре раза в неделю проводил так время с Дмитрихою и другими праздными идиотами и идиотками,— и как папенька не смел сказать ему: «ваше преосвященство, позвольте мне на четверть часа съездить домой»,— так у Иакова недоставало духу сказать: «извините, мне некогда». — Преемник Иакова стал без церемонии говорить это, и только в нашем, духовном кругу поняли тогда, что он в этом прав; весь город негодовал,— даже люди, считавшиеся умными и не надоедавшие ему сами, обижались за других таким «невежеством». А наши духовные не могли не понять,— им слишком часто приходилось ждать по нескольку часов, да и слышали они жалобные стоны измученного Иакова по отпуске гостей. — Так вот, Дмитриха сидела, Иаков страдал, и 20 человек, собравшихся провожать его,— священники, иные прямо от обедни, то-есть не пивши чаю,— тоже страдали, а Дмитриха сидела до 3 часов, хотя и знала, что Иаков хочет ехать в 12,— она, видите ли, очень уважала его преосвященство, не могла расстаться с ним; и правда: в самом деле, очень уважала.
Какого звания был старец, с которым произошла неожиданная для меня сцена, это всё равно,— это могло случиться во всяком звании. Он ещё занимал должность и служил более или менее исправно. Росту был маленького, крепкого сложения, но сильно выпивал, и оттого в глубокой своей старости стал уступать силами своей жене, которая была старше его двумя годами,— ей в «Пу[703]гачи» (то-есть во время Пугачевского бунта) было 14 лет, а ему 12,— но она выпивала только под вечер, потому и сохранилась молодцеватее мужа.
Когда мы приехали, старик был на службе. Семейство всё было дома,— беседа шла, ничего себе. Я сидел и скучал. Но вот, явился со службы старик,— назову его хоть Трофимом Григорьевичем,— потолковавши несколько минут, он обратил внимание на меня.
— Что, учишься по-латыни?
— Учусь, Трофим Григорьевич.
— Это полезный язык. А хрии умеешь писать?
— Нет ещё, не учился, Трофим Григорьевич.
— Я ведь до реторики доходил,— мастер хрии писать. Теперь таких не пишут. У нас писали по 5 листов, что твоя проповедь.
Итак, разговор был учёный. Старик постепенно разгорячался,— он был уже выпивши, но немного,— сказавши, что в Пугачи ему было 12 лет, он тут же прибавил, что ему теперь 98 лет,— а это было в начале 40-х годов, да и по спискам подчиненных, лежавшим у папеньки, я знал, что ему было 84 или 83 года,— потом пошёл и дальше,— стал рассказывать, как он встречал Петра Великого, приезжавшего в Саратов,— но не сказал о том, как он видел море,— стало быть, ещё был в своём уме. А море он видел вот как. Тогдашний редактор наших «Губернских ведомостей» написал статейку, в которой оспаривал мнение, что саратовская степь была морским дном; разумеется, он не имел понятия о геологии, это знали и смеялись над ним. Однажды зашла об этом речь при Трофиме Григорьевиче,— дело было вечером, следовательно, он был уже пьян,— он вскочил и закричал: «так, врёт Леопольдов, тут было море, я сам видел, до самых Хвалынских гор,— прямо, бывало, с Хвалынских гор на корабли садятся, морские пристани там были». (Хвалынск уже на границе Симбирской губернии.) — С тех пор так и засело это в Трофиме Григорьиче: как пьян, так и начинает рассказывать о море, которое он видел с Хвалынских гор. — Но теперь дальше Петра Великого он не заходил, значит, ещё не был пьян. После встречи Петра Великого стал он мне рассказывать что-то о Москве, в которой случилось ему быть, и заинтересовался предметом.
— Трофим Григорьич, не кричи, мешаешь нам говорить,— строго сказала жена.
— Я не кричу, Мавруша; — и точно, он не кричал; однако понизил голос,— но опять воодушевился, заговорил громко. — «Постой же, я тебя поучу, старый»,— и я не успел моргнуть глазом, как уже вижу — старуха подбежала, подняла мужа за шиворот одною рукою,— старик повиновался, поднять и нагнуть было не трудно,— и… [704]
III [ИЗ РАССКАЗОВ О СТАРИНЕ]
В конце прошлого века священник одного из сельских приходов Пензенской епархии, к составу которой принадлежала тогда и нынешняя Саратовская, был переведён из прежнего своего прихода в другой, тоже сельский, находившийся за несколько сот верст от прежнего. Фамилия его осталась неизвестна мне — по имени и отчеству он был Иван Кириллович. Жену его звали Мавра Перфильевна. Оба они были, надобно полагать, люди ещё очень молодые, и детей у них была только одна дочка-малютка Полинька. Весь скарб, с которым они отправлялись на новое место, можно было уложить на одну телегу, на которой ещё и оставался простор для жены священника с её малюткой. Дело было летом. Чтобы устроить прикрытие от солнца для жены и дочки, Иван Кирилыч набрал ивовых прутьев и сплел из них прекраснейшую кибитку. Была у него и лошадь; запрягли её и отправились в путь. Жена с дочкой сидели под кибиткою, муж, держа концы вожжей в руках, шёл рядом. Благодаря этому лошади было не очень тяжело. Но всё-таки жаль было лошади. Иван Кирилыч придумывал, каким бы образом облегчить её труд. Возможность нашлась скоро: ветер был попутный, дорога шла мимо лесов; Иван Кирилыч вырубил две длинные палки, укрепил их впереди телеги в стоячем положении, привязал к ним полог и таким образом устроил парус. Ветер надувал парус, и лошади стало очень легко везти телегу.
Два дня или три, а может быть и четыре Иван Кирилыч и Марья[502] Перфильевна с дочкой ехали благополучно и без всяких приключений. Но вот однажды утром Марья[503] Перфильевна услышала вдали ружейный выстрел. Местность была совершенно пустынная, дорога шла лесом и очень большими прогалинами, через которые виднелись по сторонам луга и озера. Во всё утро не попалось путешественникам ни одного проезжего или прохожего. Что такое этот выстрел? Не разбойники ли это? Мавра Перфильевна не могла отогнать от себя страшной мысли, но тревожить мужа своей боязнью не хотелось ей; выстрел был сделан где-то очень вдалеке, так что Иван Кирилыч, повидимому, и не расслышал его; быть может, разбойники проедут где-нибудь стороною, так что и не заметят Мавру Перфильевну с мужем и дочерью. Через несколько времени послышался другой выстрел, уже ближе. Мавра Перфильевна не могла теперь сдерживать более свою тревогу.
— Иван Кирилыч, ты не слышал?
— Что?
— Я говорю, ты не слышал?
— Слышал. [705]
— Что ж нам теперь делать?
— Нечего нам делать: едем, то и едем, только.
— Как же только? Ведь это разбойники!
— Полно, Мавруша, какие разбойники! Это, должно быть, какие-нибудь городские купцы разъезжают по деревням с товаром, а вот едут мимо озер, увидали уток, ну и стреляют.
— Нет, нет, Иван Кирилыч, это разбойники, уж я знаю, что разбойники, гони лошадь-то!
— Эх, Мавруша! Если это разбойники, то у них лошади получше нашей, да и клади меньше — не уедем от них. Только ты напрасно беспокоишься, вовсе это не разбойники, я говорю тебе — это проезжие купцы стреляют уток.
Настаивать или нет, чтобы муж сел на облучок и погнал лошадь? Муж послушался бы: он был сговорчив и любил угождать жене, но действительно была правда в его соображении о том, что гнать лошадь пользы не будет: не ускачешь от них; если заметили, то догонят. То не лучше ли в самом деле ехать шагом, как ехали? Пустить лошадь вскачь — будет много стуку от телеги, тогда разбойники наверное услышат, а теперь они, может быть, ещё не заметили и проедут мимо. Это соображение заставило Мавру Перфильевну сидеть молча и заботиться лишь о том, чтобы не дать какого-нибудь повода раскричаться Полиньке, чтобы не прискакали разбойники на голос малютки.
Полинька дремала или вовсе почивала. Это было хорошо.
Довольно долго не было ничего слышно с той стороны, где разбойники. Быть может, свернули куда-нибудь дальше.
Но послышался опять выстрел, и уже гораздо ближе.
— Иван Кирилыч, гони лошадь! Теперь уже всё равно; видно, что уж заметили нас, гони лошадь!
— Видишь ли что, Мавруша, ускакать от них не ускачем, а если это разбойники, то опаснее будет, когда мы поскачем от них: будем ехать шагом, то догонят нас они, увидят, что мы не гнали лошадь от них, значит не имеем от них опасения, думаем — они добрые люди, то, может быть, и у разбойников будет жалость к нам обидеть нас, когда мы считаем их за добрых людей.
Муж рассуждал справедливо. Мавра Перфильевна замолчала. Муж раза два посмотрел на неё.
— Мавруша! Да что ты в самом деле перепугалась? Лица на тебе нет! Это ты совсем напрасно. Поверь ты мне — вовсе это не разбойники, сама увидишь, как поровняются с нами; должно быть, купцы стреляют уток. Или, может быть, не купцы, а барин какой-нибудь или приказный. А скорее всего, что купцы — чаще они попадаются по таким местам.
Какие странные люди эти мужчины! Иное он сообразит как следует. Вот хоть бы о том, [что скакать] ещё хуже, чем ехать шагом. Но упрямые они. Заберётся ему что-нибудь в голову, и не соспоришь с ним. Не разбойники это, купцы! Вот поди и переспорь, его! [706]
Стал слышен шум колес, топот лошади в стороне за лесом. Может быть, бог и пронесет мимо. Топот был быстрый, по дребезжанью телеги тоже было заметно, что едут быстро. Всё ближе и ближе; но всё-таки не видать ещё за лесом. Должно быть, на эту дорогу выходит какая-нибудь дорожка с другой стороны. Вот хорошо было бы, если бы они выехали на эту дорожку далеко впереди и скакали бы, не оглядываясь. Что ж? Погони за ними не слышно, так чего же им оглядываться?
— Иван Кирилыч! Ты попридержи лошадь-то! Остановимся, постоим, пока они проедут.
— Нет, Мавруша, останавливаться поздно: та дорога, по которой они выедут на нашу, выходит уж совсем вблизи от нас,— всё равно не утаимся. Да и чего нам таиться от них? Увидишь, купцы.
Мавра Перфильевна высунулась из кибитки взглянуть на дорогу впереди. Действительно, дорожка с той стороны, откуда приближался шум, выходила на эту дорогу вовсе подле, шагах в тридцати, не больше. Мавра Перфильевна стала смотреть направо, налево, нельзя ли свернуть в сторону за деревья; нет, место было низменное, поросло березой и осиной так густо, что нельзя провезти телегу между деревьями. Будь воля божия!
Проехали мимо той дорожки, Мавра Перфильевна оглянула[сь], нет, дорожка была извилистая, не видно их.
Проехали ещё шагов тридцать. Слышно стало, что те выехали на эту дорогу.
— Здравствуйте, батюшка! — сказал один голос, такой звонкий, здоровый, настоящий разбойничий.
— Здравствуйте, батюшка! — сказал другой голос, такой же.
— Доброго здоровья и вам желаю, почтенные господа! — отвечал Иван Кирилыч.
— Что это вы, батюшка? Должно быть, с места на место перебираетесь? В телеге-то поклажа. Да и на телеге-то прилажена кибиточка. Семейство, значит, ваше с вами?
— Точно так, господа. Из одного прихода в другой перемещаемся, а в ккбиточке точно сидят у меня жена с маленькой дочкой.
— Откуда же вы переходите, батюшка, и куда?
— А вот видите ли, почтенные господа, прежний мой приход был… — и принялся Иван Кирилыч рассказывать о прежнем приходе, о том, как просился у архиерея в другой приход, потому что тот приход слишком бедный, и т. д., и т. д. Те слушали. Досказал Иван Кирилыч, спрашивает:
— Теперь позвольте спросить у вас, почтенные господа, кто такие вы и куда едете?
— А мы, батюшка, купеческие прикащики, на доверии у хозяина. Вот он даёт нам товар, а мы с этим товаром разъезжаем по селам. Вот едем так-то, видим озера, а на озерах утки сидят. Мы, знаете, вынули ружьецо, да и постреляли немножко. [707]
— Так, так, господа. Отчего же и этим не развлечься от скуки.
И продолжается у них такой разговор. Совсем как есть приятели. И всё выложил им Иван Кирилыч, как есть все: до того дошёл, что и рясы свои пересчитал им, и женины наряды, и сколько денег, даже и то сказал. А денег у них было много: известное дело, был в том приходе домик, была скотинка; продали, а новых расходов ещё никаких не было, все деньги ещё целы; «Господи, хоть бы он о деньгах-то промолчал перед ними, нет, ведь и это выложил им!»
Ехали лесом, теперь выехали на прогалину.
— Но вот, батюшка, теперь есть место рядом ехать, этак-то будет ловчее разговаривать.
Хлопнули по лошади, она пошла поскорее, сворачивая в ту сторону, с …
IV Бабушкины рассказы
I. Переселение прадедушки и прабабушки в новый приход.
Вот, расскажу я вам, Любинька, Николенька, какое было происшествие с батюшкою, матушкою, когда они ехали в новый приход.
По какому это было случаю, что архирей[504] перевёл батюшку вскоре после посвящения — на втором году, должно быть, судя по тому, что я была тогда грудной ребёнок, или не дальше, как на третьем — в новый приход, не умею сказать: может быть, прежний приход был уж очень беден, то батюшка и просил архирея; а не мудрено и то, что мужики просили архирея перевести к ним батюшку, знавши его за человека хорошего; но только, как бы то ни было, перевёл архирей батюшку в новый приход. Расстояние было, должно быть, не маленькое; может быть, и двести или триста верст, а может быть и больше, потому что епархия была тогда либо пензенская, либо тамбовская, до самого Царицына всё одна: не знаю какая, пензенская ль она была, или тамбовская,— только очень большая: народу тогда в здешних местах было ещё мало; всё леса да леса были.
Ну, распродали батюшка, матушка всё лишнее, чего на одну телегу не положить, и уложили на одну телегу, что у них оставлено было взять с собою. Много ли, немного ли, а всё же поклажа. А лошадь-то одна. А у матушки грудной ребёнок — это я; идти ей нельзя же было бы много, хоть бы и не заботлив был о ней муж. [708] А батюшка в ней души не чаял, стало быть, ей всю дорогу ехать: батюшка не допустит её сойти с телеги, кроме как разве, чтобы немножко ноги размять, когда устанет сидеть. И устроил же ей батюшка спокойствие для сиденья и прикрытие от жару, от дождя! Она говорила, такую кибитку устроил, что вроде даже карету[505] вышло. Ну, а это опять всё равно, что клажа, как же? — Хороший-то навес во всю телегу, разве это мало тяжести? Он кожаный был и с дверкою: как есть карета. Теперь, как же и об лошади-то не подумать было, нельзя ли ей доставить облегчения? Подумать-то всякий хозяин подумал бы; и думают, да что придумывают? — Ничего. А батюшка придумал: привязал к переднему краю своей кареты по бокам по жерди, стоячие, как бы сказать аршина четыре в вышину; как подует попутный ветер, батюшка привяжет к этим жердям полог, и выходит парус; ветер-то и помогает лошади везти, а попутный то ветер дул много; большое, говорит матушка, облегченье было лошади. — Ну, сам батюшка на телегу не садился, это уж вы сами можете понимать. Всю дорогу шёл пешком.
Хорошо. Едут день, едут другой, может быть и третий, а то и четвёртый. Почти что всё лес, да лес, да кое-где между лесом пустые полянки; деревня от деревни — двадцать верст, это близко, а то и все пятьдесят, коли не семьдесят. Деревень почти только те и видели батюшка с матушкою по дороге, в которых ночевали; это уж всегда подгонял батюшка так, чтобы ночевать в деревне, для матушки и для ребёнка: ежели переезд велик очень,— ну, на кормежке среди дня поменьше даёт проклажаться[506] лошади: как бы-то? Лошадку-то жалеет, а жену-то с младенцем больше.
Ехали они таким манером три дня, четыре ли. Проселок, места пустые. По целым дням ехали, ни души не встречавши. Известно, какая езда по некоторым проселкам в наших местах и теперь, особенно летом; а тогда и той не было. Совсем пустые места были. Едут; попутчиков как есть никого: встречных — иной день одна телега, либо две, а в иной день и ни одной во весь день. Едут, всё одни да одни! Только на четвёртый ли день, или уж на пятый, едут они после кормежки — значит, уж полдень прошёл — слышит матушка, издали, сзади, громко так вдруг раздалось, щелкнуло вроде сильного треска: пу! Что такое? — Через минуту опять: пу! Приподняла занавеску — кожу-то, вроде дверцы,— высунулась, говорит батюшке: «Иван Кирилыч». — А он идёт подле лошади, вожжи держит; обернулся на её голос. «Слышишь, Иван Кирилыч, пукань-то?» — «Слышу, Мавруша». — «Это что такое? Это из ружья стреляют». — «Из ружья, Мавруша». — «Садись, гони лошадь». — «Зачем, Мавруша?» — «Ускакать от них, ведь это разбойники». — «Какие разбойники, Мавруша? Барин какой-нибудь или офицер едет, от скуки по уткам стреляет; по сторонам-то озера попадаются». — «Садись, гони лошадь, говорю тебе. Какое там по [709] уткам стреляют: разбойники». — «Разбойники не станут шума подымать, Мавруша, они тайком ездят». — «Известно, не без надобности стреляют: стало быть, попался им кто, убивают. Садись, гони лошадь!» — «Да не бойся ты, Мавруша, не разбойники это; догонят нас, увидишь: барин либо офицер. А если и разбойники это, как ты говоришь, гнать лошадей не в пользу нам: у нас кладь; они порожняком; да и лошади-то у разбойников не такие бывают, как наша. Поскачем, только на себя их наведем стуком от колес. Нам от них не ускакать. Шагом-то ехать, ежели и разбойники, ежели и догонят, скорее не тронут: много ли корысти-то зарезать-то нас? Будут видеть, какое наше богатство, и велики ль у нас должны быть деньги; а мы едем себе спокойно, стало быть и не понимаем, что они разбойники, слухов об них от нас не пойдёт,— так зачем им нас резать? Поздороваются, как будто добрые люди, и поедут мимо. Так-то, Мавруша: хоть бы это и разбойники были, бояться их нам с тобою нечего. А ускакать нельзя, а попробовать скакать — беда; значит, мы поняли, кто они, и нельзя им упустить нас из рук, чтобы мы не подняли в селе шуму про них. То и будем себе ехать шажком, хоть бы это были и разбойники. Только это не разбойники. Не бойся, Мавруша».
Что ты прикажешь делать? Не столкуешь с человеком: уперся на своем; и слушать его, то будто и дело говорит. Запахнула занавеску матушка, сидит, плачет. — Слушает: тихо, не пукают. Думает матушка: ну, может, сделавши своё, убивши, ограбивши, повернули разбойники в лес к себе, а нас и не слышали. Утешает себя этими мыслями. Хорошо. Проходит, может быть, полчаса — всё тихо. Успокоилась было матушка: уехали разбойники в лес. Только вдруг опять: пу! но уж совсем близко! Догоняют! — И стук от колес будто слышно. Слышно же и есть: и стук от колес, и топот от лошади: рысцою бежит, должно быть. Ну, теперь уж поздно и говорить мужу, чтобы садился, гнал лошадь. Сидит матушка, дрожит.
Совсем близко подъехали. Пошла у них лошадь шагом.
— Здравствуйте, батюшка. — Это сзади-то раздалось.
— Здравствуйте, господа. — Это батюшка отвечает.
— Вы отец иерей будете или дьяконствуете?
— Священник я, господа.
— И тем лучше, батюшка. Значит, вот на полянку выедем, можно будет поровняться с вами, надобно будет слезать, под благословение к вам подойти. А куда едете?
Батюшка говорит, куда; называет село, в которое переведён: Сосновка это была.
— Знаем, батюшка. Выходит, мы с вами до самого конца вашей дороги будем попутчиками. Мы тоже в Сосновке должны побывать и дальше поедем. Мы приказчики; разъезжаем везде тут, большие круги делаем везде, всё покупаем.
Ну, видно, полянка вышла: слышно матушке, поехали они в объезд мимо её телеги. Давши им поровняться, пропустивши их [710] немножко, приотпахнула матушка свою дверцу, выглянула осторожно одним глазком в щелку: тележка небольшая, крашеная, красивая такая; сидят двое, в синих азямах, оба большие и высокие, и плечистые. И ножа, пожалуй, вынимать не станут: руками придушат. Опустила занавеску. И плакать-то боится, сидит ни жива, ни мертва.
— Здравствуйте ещё раз, батюшка. Благословите.
— Бог вас благословит, господа.
Благословляет батюшка одного, другого: слышно это матушке по словам, какие говорит священник, когда благословляет; говорит эти слова раз — и слышно, чмокнул тот руку батюшки так звонко, будто с усердием; говорит батюшка благословенье в другой раз, слышно и другой чмокает, тоже звонко так, тоже, видно, благочестивый.
Идут с батюшкою, разговаривают. О себе рассказывают сначала: и от какого купца ездят приказчиками, и какие деньги с собою возят, и всё такое; и кто сами, о своих родных и обо всём. Потом батюшку спрашивают: первым делом о супруге, детки есть ли, батюшка отвечает; и мало того, что отвечает, всё им выкладывает, о чём и не спрашивали: как скот, вещи распродали, сколько денег выручили, сколько прежде было скоплено… Господи, твоя воля! До чего затмение-то рассудка может доходить! Что им нужно знать, о чём и спросить остерегаются, о том он им сам докладывает!
— Ну,— говорит услышавши всё, что ни нужно было знать: — Ну,— говорит,— когда так, батюшка, то и тем лучше, что вот мы вам нашлись попутчики: конечно, хоть и смирные здесь места, ничего такого не слышно, а всё же вам, будучи при деньгах, хотя и небольших для другого, а для вас немалых, тем больше для злого человека, при том же голого, даже очень завидных, лучше с нами-то, чем одному. Мы в обиду не дадимся; у нас два ружья, да кинжалы, нам без того нельзя: нам по всяким местам приходится ездить. Так мы до ночлега вместе с вами.
— Благодарю вас покорно, господа,— отвечает батюшка. ещё благодарит!
— Проводим, батюшка. Но только клажи-то у нас поменьше, да и лошадка-то побойчее; ей с вашею долго-то в ногу идти как будто скучновато; она у нас рысцою бегать охотница. Мы свернем, поищем, озерка нет ли опять, не попадётся ли уток. Поколесим, да и опять к вам. Не то, что для опасности, потому что это больше к слову только сказано — какие в здешних (местах) опасности! — а для того собственно, что в разговорах время идёт приятнее, когда, вот как теперь, вы нам понравились, а надеемся, что и мы вам не противны. Между собою у нас уж всё сто раз переговорено; ну, и едем… [711]
V Наше счастье
Рассказ П. К. Голубевой её внучке и внуку.
Ну, сама я этого не помню, Любинька, Николенька, а рассказываю вам, как мне говорила матушка. Где же мне помнить, когда и Малаша не помнила. Ей было тогда четвёртый год, я думаю.
Стало быть, четвёртый год, либо пятый батюшка с матушкой жили на новом месте, потому что, вы знаете, Любинька, Николенька, Малаша была грудная малютка, когда они ехали туда. Я, говорит матушка, уж хорошо ходила; и была у них Параша; и она была тогда грудная и вовсе ещё маленькая; сколько ей было недель, не знаю, только немного ещё.
Хорошо. Вот раз — в зимнее это было время — вечером, только ещё не поздно, слышат батюшка с матушкой скрипит снег на улице под чем-то тяжёлым, только не под возом, потому что едет это тяжёлое с большой скоростью, да и лошадей запряжено, слышно, что-то больше тройки, больше чем у возов не бывает. Ближе, ближе,— проехало это тяжёлое мимо их окон и остановилось, значит, у их ворот. Ну, когда так, дело понятное: это едут в возке — так назывались зимние кареты — и хотят проситься переночевать у них. Так тогда делалось: кроме как у священника, негде было переночевать, кто не хотел терпеть духоты и смраду. Оно и теперь в глухих местах ещё так, Любинька, Николенька. А тогда и по большим дорогам так было; тем больше по таким малопроезжим, как там у них.
И точно: постучался кто-то в ворота; заскрипела калитка, отворил, значит, работник. Входит в переднюю,— у них даже передняя была, такой хороший был у них дом,— входит в переднюю слуга в хорошей шубе, кланяется и говорит: батюшка и матушка, барин просит у вас позволения переночевать. Они говорят: милости просим. Уходит слуга, заскрипели ворота, въезжает на двор возок, входит в комнату мужчина, молодой мужчина, высокий, собой красавец; здоровается, подходит под благословение к батюшке, но только, принявши благословение, руку батюшкину не поцеловал, а пожал. Ну, батюшка знал, что в высоком кругу не целуют руку у священника, и матушка об этом слышала; стало быть, это ничего. Поздоровавшись, приняв благословение, садится,— просит и их сесть; сели. Он говорит о себе, что едет издалека и далеко, стало быть, больше приходится ему ехать по большим дорогам, как это обыкновенно выходит в дальних поездках, но что местами приходится ему с одной большой дороги на другую переезжать проселком, для сокращения пути, вот как и здесь. Рассказавши это о себе, спрашивает у них, давно ли они здесь, хорошо ли устроились и всё такое. Между тем слуга принёс погребец, принёс какой-то сундук. Не сундук, а вроде будто сундука, только кожа[712]ный,— чемодан, значит, это был, только хорошей работы, каких батюшка с матушкой и не видывали; вынимает из этого сундука, из погребца, столовое бельё, посуду, закуски разные, чай, кофей, сахар; чай-то батюшка с матушкой уж сами пили, хоть, разумеется, только по праздникам; кофею хоть сами не пили, но видывали,— стало быть, и о нём понимают, что это такое; вынул ещё что-то — желтая плитка, красноватая; ну, что такое это, батюшка с матушкой не знали. А что посуда серебряная, позолоченная, некоторая и золотая, это — вы сами понимаете, Любинька Николенька,— не могло быть им в диковинку; как же хоть даже им не знать, что вельможи едят с серебра и с золота? Это всегда все знали. [713]
Воспоминания
№ 1. Воспоминания о Некрасове
Мы приехали в Петербург в мае 1853 [г.][507], Оленька и я. Денег у нас было мало. Я должен был искать работы. Довольно скоро я был рекомендован А. А. Краевскому одним из второстепенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним знакомым[508]. Краевский стал давать мне работу в «Отечественных записках», сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных сотрудников. Это было очень мало. Я должен был искать работы и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в «Современнике». Редактором его был, как печаталось на заглавных листах, Панаев[509]. Я думал, что это и на деле так. Несколько месяцев прошло прежде чем я нашёл случай попросить работы у Панаева, которого видел у одного из людей, знавших меня по университетским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришёл к нему, он даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли я в сотрудники «Современнику». Пусть я приду завтра утром. Я пришёл. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие длинных статей. Я принёс Панаеву мои рецензии скоро; если не ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли я работать в «Современнике», и опять пригласил посидеть, поговорить. На следующее утро я пришёл. Он сказал, что я гожусь работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня посидеть, поговорить.
Через несколько времени,— через полчаса, быть может,— вошёл в комнату мужчина, ещё молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живёт в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его [714] увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом, поклонившись мне в ответ на мой поклон, и оставляя после того меня без внимания, подошёл к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел»… спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли её Панаев или что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его голоса: «Панаев…» я был поражён и опечален ещё больше первого впечатления, произведённого хилым видом вошедшего: голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. — Переговорив о деле, по которому зашёл к Панаеву — это была минута или две — он повернул,— не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека и если видел, то о чём они потолковали; не слышал ли Панаев от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Да. Но вот, прежде познакомься: это» — он назвал мою фамилию. Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь; сказал своим шепотом «здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чём был спрошен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведённых на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом, как дряхлый старик. — Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всём, о чём хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошёл к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне — дальше двери,— где сидели Панаев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог ясно расслышать его шепот, сказал: «Пойдём ко мне». Я встал, пошёл за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поровнялся с ним; и поровнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется журнал мною, а не им?» — «Да, я не знал». — «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною. — Вы, должно быть, не любите разговоров о том, чтÒ вы пишете, и вообще, о том, чтÒ [715] относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого». — «Да, я такой». — «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уж несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике». Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня ещё были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад ***». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. — «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперёд. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберётся у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. — Пойдём ходить по комнате». — Я встал, и мы пошли ходить по комнате[510].
Этому началу первого моего разговора с Некрасовым теперь двадцать девять лет. Разумеется, я не могу ручаться, что помню слово в слово то, что говорил он в эти две, три первые, навсегда установившие мои отношения к нему, минуты, пока я сидел, а он оставался стоять. Но смысл и тон был тот самый, это прошу считать достоверным.
Мы стали ходить по комнате. Он говорил мне о денежном положении «Современника»; само собою разумеется, чистейшую правду, безо всякой утрировки. (Я в довольно скором времени стал сам знать денежные дела журнала и тогда мог судить, верное ли понятие давал мне о них Некрасов в этом разговоре.) Существенные черты тогдашнего положения «Современника» были: он обременен большими долгами за прежние годы издания. (Не умею теперь с точностью припомнить, какой цифры достигали они тогда, около конца осени 1853 [г.]; быть может, не очень ошибаюсь думая, будто мне помнится, что сумма долгов за прежние годы была около 25 000.) Расходы по изданию едва покрываются с году на год подпискою[511]; да и то лишь при помощи кредита: те из расходов, которые имеют коммерческий характер, производятся в долг, с уплатою из подписки следующего года; главный кредитор — Прац (хозяин типографии, в которой печатался тогда «Современник»). Он человек с хорошим состоянием, много денег лежит у него в запасе, вне оборотов; потому он охотно терпит отсрочку уплаты долгов за прежние годы с году на год и отсрочку уплат за каждый текущий год до новой подписки. И он не алчный человек, не ростовщик; проценты берёт не грабительские. Но цены работ в его типографии много выше, чем в других; это очень убыточно. Он берёт дороже других типографщиков не понапрасну: работа у него исправнее и изящнее. Но эти преимущества работы важны лишь [716] для печатания изящных, роскошных изданий, например, книг с хорошими рисунками и на дорогой бумаге. А в журнале, печатающемся торопливо, на обыкновенной бумаге, разница мало заметна и не важна для публики. Потому печатание журнала у Праца имеет результатом совершенно лишний расход в несколько тысяч рублей. (Если не ошибаюсь, тысячи 4 рублей в год.) Следовало бы перенести печатание журнала в другую, менее дорогую типографию. Но до сих пор не было возможности сделать этого, потому что журнал связан с типографиею Праца долгами её хозяину. — И так далее, и так далее, с этою же точностью вёл Некрасов подробный рассказ и обо всех других сторонах денежного положения журнала. Вполне ознакомив меня с денежными делами «Современника», он перешёл к рассказу о своих денежных отношениях к журналу. Хозяин и по совету и по деловому расчёту не он один; Панаев имеет на журнал равные с ним денежные права. А Панаеву нечем жить, кроме получения денег из кассы «Современника». Он легкомысленный ветреник, любит сорить деньгами. — «Я держу его в руках; много растратить нельзя ему: я смотрю за ним строго. Но за всякою мелочью не усмотришь; кое-что он успевает захватывать из кассы без моего позволения; это он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия[512]. А надобно же нам с ним и жить прилично: беллетристы любят хорошие обеды; любят, чтобы вообще было им приволье и комфорт в квартире редактора. Без того они отстанут от сотрудничества. Поддерживать приятельство с ними стоит очень дорого, потому что для этого надо жить довольно широко; но это расход, необходимый для поддержания журнала»,— и так далее обо всём, относящемся к личным расходам Панаева и его самого, и обо всём, тому подобном. — «Сам я не в тягость кассе журнала. Когда у меня нет своих денег, я беру деньги из неё или занимаю, делая заем иногда, как заем журнала у книгопродавцев, в магазинах которых его конторы; в особенности у Базунова» (контора «Современника» и в Москве была тогда при магазине Базунова); «вообще, я расходую и деньги подписки и займы журнала, как хочу, на свои надобности. Но у меня бывают временами свои деньги; я из них употребляю на расходы журнала, сколько считаю возможным, а свои заимствования из его кассы уплачиваю всегда всё. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой доли из его доходов в вознаграждение себе за редакторский труд. Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных денег. Видите ли, я играю в карты; веду большую игру. В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но не могу долго выдержать рассудительности в игре; следовало бы играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь были б уж очень порядочные деньги. Но как наберётся у меня столько, чтоб можно было начать играть в банк, не могу удер[717]жаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть в банк. Это несколько раз в год. Каждый раз проигрываю всё, с чем начал игру. Остаюсь ни с чем и принужден брать деньги из кассы журнала или у его кредиторов, чтоб опять поправиться»[513]. Он продолжал говорить, объясняя мне, какие расчёты и надежды можно иметь в денежном отношении на «Современник» и на него, и заключил своё всестороннее, точное объяснение всего выводом совета мне:
«Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи; и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журнал не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки „Современник“ не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго? Панаев говорил, вы уж работаете для Краевского. Он враг нам, т. е. мне. Панаева он понимает правильно и потому не имеет вражды к нему. Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надёжный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для вас. А пока я буду — я уж говорил — до новой подписки буду давать вам на каждый месяц столько работы, сколько будет у меня денег дать вам. Начнётся подписка, вы будете писать для меня столько, сколько будете успевать писать». — После этого он повёл разговор о том, какой состав будет иметь книжка «Современника» на следующий месяц, и [стал] соображать, какую работу и сколько работы для этой книжки даст он мне.
Таково было начало моего знакомства с Некрасовым, и таков был первый его разговор со мною[514]. [718]
Мне казалось, что человек, говорящий так просто и прямодушно, заслуживает полного доверия. Само собою разумеется, что это оказалось справедливым. Я постоянно видел, что Некрасов держит себя относительно меня совершенно так, как обещал.
Когда Краевский увидел, что Некрасов считает меня полезным сотрудником, стал и сам считать меня таким. Это предсказание Некрасова сбылось; и дело пошло дальше тем самым ходом, как он предсказывал. Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для «Современника» и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудности кассы и шаткости дел «Современника», о денежной надёжности Краевского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Краевскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует поступить. Было ясно, что Краевский поставит вопрос так, как предвидел Некрасов: «Если хотите оставаться моим сотрудником, откажитесь от сотрудничества у Некрасова». При безденежье и шаткости положения «Современника» благоразумие требовало последовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я чувствовал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краевского ему. У него иной раз мало, иной раз вовсе нет денег. Но он всё-таки не допустит меня слишком нуждаться: как при безденежьи берёт у Базунова или у какого-нибудь другого книгопродавца деньги для своих безотлагательных надобностей, так будет находить деньги и для моих. Он полагает, что ему не долго остаётся жить на свете. Это, вероятно, так. Но это лишь вероятность. А пока он жив, он не допустит меня нуждаться, это не вероятность, а достоверность. Потому, не будет ли мне благоразумнее, наперекор его совету, держаться его? — Краевский несколько раз возобновлял разговор о своём желании, чтоб я работал исключительно для него, и с каждым разом говорил настойчивее. Я по-прежнему отвечал ему, что посоветуюсь об этом с Некрасовым; говорил с Некрасовым снова и снова, и слышал от него всё прежний совет: «благоразумнее будет вам держаться Краевского». Наконец, Краевский сказал мне то, чего, как предсказывал Некрасов, да и сам я теперь понимал, следовало ожидать: «Вам нельзя участвовать вместе и в „Отечественных записках“ и в „Современнике“. Вам надобно выбрать между мною и Некрасовым». — Я отвечал: «Почему ж мне нельзя участвовать вместе в обоих журналах? Участвуют же в них обоих очень многие другие». — «Это совсем не то,— сказал Краевский: — другие, на которых вы ссылаетесь, кто они, чем участвуют они в журналах моём и Некрасова? Это поэты, беллетристы. Написал стихи или роман, отдал редактору, и [719] только всего. Участия в редакционной работе они не принимают. Я не говорю с ними о делах моего журнала; Некрасов не говорит с ними о делах своего. Они посторонние журналам люди, и отношения между журналами не касаются их. Ваше положение не то. Вы пишете статьи в тех отделах журналов, которые составляют редакционную часть их; вы участвуете в редакционной работе. Я говорю с вами о делах моего журнала, Некрасов о делах своего. Вы по необходимости вмешаны в отношения между нами и нашими журналами. А эти отношения враждебны. Помогать вместе и мне и Некрасову — это неудобно. Ваше участие в редакционной работе и у меня и у Некрасова растет, и отношения, бывшие прежде только неудобными, становятся неудобными до невозможности. Нельзя долее откладывать решение. Чтобы быть сотрудником „Отечественных записок“, вы должны отказаться от сотрудничества в „Современнике“. Откажитесь». — Я отвечал, что посоветуюсь с Некрасовым. Он, выслушав, чем мотивировал своё требование Краевский, сказал: «Теперь, когда вы услышали это от него, я скажу вам, что он прав. Ваше положение сотрудника в двух враждебных один другому журналах неловко и подает повод к невыгодным для вас предположениям. Вы живёте вне литературного круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в „Современнике“ против „Отечественных записок“, в „Отечественных записках“ против „Современника“. Говорят, вы передаете мне редакционные тайны „Отечественных записок“, а Краевскому редакционные тайны „Современника“. Так это или нет, известно лишь мне относительно слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной половине слуха, но о другой неизвестна. И мне тоже. Выдаете ль вы мне Краевского или нет, я знаю. Но выдаете ль вы Краевскому меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, что вы не выдаете его мне? Вы скажете, что я не опасаюсь предательства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб он пренебрегал слухом о том, что вы предатель. Он совершенно в праве находить невозможным, чтобы вы, участвуя в его журнале, оставались сотрудником моего». — Я понял, что действительно хочу невозможного, желая убедить Краевского отказаться от его требования, и сказал Некрасову, что, убедившись теперь в необходимости сделать выбор между ним и Краевским, я откажусь от сотрудничества Краевскому. Он отвечал: «не пришлось бы вам раскаиваться. Подумайте хорошенько». — Я отправился к Краевскому и сказал, что, убедившись в основательности его требования, благодарю его за расположение, которое он всегда оказывал мне, и прошу его принять без гнева мой отказ от сотрудничества ему. Он ждал противоположного и сказал это без утайки; не стал скрывать и того, что не может не осуждать моего решения, кажущегося ему неблагоразумным; но прибавил, что, бывши в самом деле расположен ко мне, остаётся, несмотря на досаду, которую я сделал [720] ему своим неблагоразумным выбором, человеком, искренно желающим мне добра. Словом, он держал себя при прощаньи со мною, как прилично человеку хорошего тона и, в сущности, не дурной души. — Кстати замечу, что во всё продолжение моего сотрудничества он был неизменно ласков и искренно доброжелателен ко мне, так что я не могу сказать о его отношениях ко мне ничего кроме хорошего; и насколько я знаю его, а я мог в то время узнать его довольно близко,— я знаю его за человека недурного. — Когда я пришёл к Некрасову и сказал, что остался при своём решении и отказался от сотрудничества Краевскому, он отвечал: — «Ну, когда дело сделано, то я скажу вам, что, быть может, вы и не будете иметь причины раскаиваться. Действительно, денежное положение моё плохо, но всё-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским»[515].
И, разумеется, я не имел причины раскаиваться. Об этом нечего и говорить; потому что, если б я не был доволен своими отношениями к Некрасову, что ж помешало бы мне, сделавшемуся через несколько времени человеком, пользующимся расположением публики, возвратиться к Краевскому? Он не отказал бы мне в хороших условиях сотрудничества. Нуждается ли эта моя уверенность в доказательствах? Вероятно, нет. Но если бы нуждалась, достаточно припомнить один из многих фактов, отнимающих возможность сомнения. Когда я начал писать для «Современника», самым важным и самым деятельным сотрудником его, собственно журнального отдела его, был Дружинин[516]. Этот бойкий журнальный работник любил мальтретировать тех, нападать на кого приходила ему охота; а охота полемизировать была у него чрезвычайно сильная. Главною целью своих нападений он избрал Краевского и восхищался тем, что постоянно раздражает его своими насмешками. Когда Некрасов говорил с людьми, близкими и ему и Краевскому, что вражда между «Современником» и «Отечественными записками» дело напрасное и что лучше бросить её, Краевский возражал, что он не может примириться с «Современником», пока в этом журнале пишет Дружинин; если Некрасов перестанет позволять Дружинину нападать на него, этим он не может удовлетвориться; в наказание за обиды ему Дружинин должен быть выгнан из «Современника»; он не может допустить, чтобы такой дрянной забияка оставался терпим в литературе. — Когда я стал писать исключительно для «Современника», я вытеснил из него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писавшего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его литературные понятия были слишком различны от моих; и при моём возрастающем влиянии на общий тон журнальных отделов «Современника» Дружинин оказался непригодным для него по образу мыслей. Как только [он] увидел, что ему надобно вовсе удалиться из «Современника», Дружинин предложил своё сотрудничество Краевскому и был принят им с распростертыми объятиями. Предположим — хоть и мудрено предположить,— что прежде я [721] не знал, рад ли будет Краевский моему предложению вернуться к нему. После приема, сделанного им Дружинину, не могло не стать ясно для меня, что он будет очень рад мне. Ни в одной из статей «Современника», о которых возможно было ему думать, что они писаны мною, не было ничего обидного лично ему, ничего подобного нападениям на него, насмешкам над ним, которыми непрерывно раздражал его Дружинин. И вытеснивший Дружинина из «Современника» журналист несомненно должен был казаться сотрудником, приобрести которого для «Отечественных записок» будет гораздо важнее, чем было для них приобрести сотрудника, забракованного «Современником». Что ж мешало бы мне возвратиться к Краевскому, если б я не был доволен отношениями Некрасова ко мне?
Нахожу надобным говорить об этом потому, что людям, не знавшим денежных расчётов между Некрасовым и мною, могло казаться совершенно противное тому, что было на деле. Меня знали, как человека, не умеющего отстаивать свои денежные интересы; о Некрасове некоторые думали, что он способен охранять свои выгоды до нарушения справедливости. Разница между нами в этом отношении была не совсем та, какую можно было предполагать людям, не знавшим фактов. Во всё продолжение моих деловых отношений к Некрасову не было ни одного денежного вопроса между нами, в котором он не согласился бы принять моё решение. И, кроме одного случая, он принимал моё решение без малейшего противоречия. Этот единственный случай денежного спора между нами был таков, что я сам считал себя неправым в своём требовании. Я и не возражал на доводы Некрасова; я только говорил, что остаюсь при своём требовании. И он, после длившегося часа три тяжёлого для нас обоих разговора, вполне принял моё решение. Дело в том, что я придумал это решение из желания успокоить болезненную мнительность Добролюбова (бывшего тогда за границею)[517]. Я жертвовал интересами Некрасова и Панаева, чтоб избавить Добролюбова от фантастических сомнений. За свои интересы Некрасов не стоял; он хотел только охранить интересы Панаева. И был совершенно прав, доказывая, что я требую нарушения их. Но я, ничего не возражая, не принимал никаких резонов, и, скрепя сердце, Некрасов пожертвовал мне интересами — не своими: свои он с первого слова отдал на мой произвол — но интересами постороннего спору, беззащитного при покинутости Некрасовым, беспомощного и безответного Панаева. — Если доведу рассказ до того времени, к которому относится этот спор, изложу его с подробною точностью.
Поправка к одной из строк страниц[ы] начала. В том месте, где я говорю о степени точности, с какою передаю первые слова Некрасова мне, я выражаюсь: «этому разговору теперь двадцать девять лет»; не двадцать девять, а тридцать; разговор был не в 1854, а в 1853 году. Причина ошибки — арифметический недосмотр. Прошу исправить. [722]
№ 2. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым.
(Ответ на вопрос)
О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него. Но никаких определённых воспоминаний об этом у меня не осталось. Без сомнения Добролюбову и мне случалось говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых, долгих разговорах вдвоем: одним из главных предметов их были дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои произведения ещё в нём; едва ли возможно было нам не касаться иногда того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову. Но вероятно в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него.
По всей вероятности, Добролюбов в это первое время своего личного знакомства с Тургеневым думал о нём как о человеке точно так же, как Некрасов: это хороший человек. Вероятно талантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичными Добролюбову или мне.
Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда, и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями. Без сомнения он был очень любезен и с Добролюбовым, но, об этом я говорю лишь по соображению, а не по воспоминаниям.
Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли совершенно иной характер, когда Добролюбов поселился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова, и, обедая у них, стал проводить значительную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это началось, вероятно, в 1857 г. Переселение Добролюбова в квартиру рядом с квартирою Панаева и Некрасова произошло таким образом.
Добролюбов, человек с довольно большими практическими способностями в ведении тех дел, которыми интересовался, совершенно неглижировал своей житейской обстановкой, и потому она, на[723]сколько её устройство зависело от его участия, всегда была очень неудовлетворительна.
По выходе из Педагогического института Добролюбов поселился на квартире сырой и производившей неприятное впечатление своими мрачными стенами, штукатурка которых была старая, полуобвалившаяся, потускнелая, загрязненная. Меблировка (от хозяев) была очень скудная и дрянная, так что первая комната, служившая приемной, представляла вид амбара почти пустого. Мне не раз и не два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посещений не выходило, разумеется, никакого результата для улучшения его житейской обстановки. Как только вздумалось Некрасову побывать у него, она изменилась. Некрасов проехал от него прямо ко мне и начал разговор прямо словами: «я сейчас был у Добролюбова, я не воображал, как он живёт. Так жить нельзя. Надобно приискать ему другую квартиру». За этим началом следовало продолжение, переполненное упрёками мне за мою беззаботность о Добролюбове. — «Положим, вы сам не умеете ни за что взяться, но хоть сказали бы вы мне». — Особенно много огорчала Некрасова сырость квартиры Добролюбова. Он говорил, что при слабости здоровья Добролюбов может сильно пострадать, если останется в такой обстановке. Вернувшись домой, Некрасов тотчас же поручил брату (Фёдору Алексеевичу) разыскивать квартиру для Добролюбова. Дал такое же поручение и своему слуге Василию. Когда я зашёл к Некрасову, часа через два, через три после того, как он был у меня, он говорил уже о том, что затруднений с устройством сносной жизни для Добролюбова будет гораздо больше, нежели я могу воображать. Приискать порядочную квартиру и меблировать её, разумеется, нетрудно, но это ещё ничего не значит. Надобно устроить, чтобы у него и обед был хороший. Как быть с этим? Обедать каждый день в ресторане это скучно, да и некогда Добролюбову. Надобно приискать какого-нибудь добросовестного слугу, умеющего хорошо готовить. Это нелегко. Но как-нибудь устроится и это. Я ушёл. Когда пришёл к Некрасову на следующий день утром, услышал от него, что дело уладилось удобнее, чем можно было надеяться.
Панаев и Некрасов жили тогда уже на той квартире в доме Краевского, которую продолжали занимать столько лет потом. По чёрной лестнице этой квартиры, в том же этаже было помещение из двух комнат с передней. Не умею теперь припомнить, были ли жильцы в этой небольшой квартире, или она стояла пустая. Но так или иначе она была в запущенном состоянии. Слуга Некрасова, поискавши квартир по городу, вспомнил об этой и сказал Некрасову. её тотчас же начали поправлять[518], и дня через два или три Некрасов уже мог переселить туда Добролюбова[519]. [724]
Поселившись тут, Добролюбов не имел своего особенного обеда; он обедал у Панаевых, вместе с которыми обедал Некрасов. А в те дни, когда Некрасов обедал особо от Панаевых на своей половине, Добролюбов обедал, как ему когда лучше нравилось, или с Некрасовым или с Панаевым. Изредка ему случалась надобность обедать на своей квартире. Это бывало, например, когда у него гостил кто-нибудь из его приятелей, служивших в провинции и приезжавших побывать в Петербурге, если этому приятелю не хотелось обедать у Панаевых; или когда Добролюбову был недосуг оторваться надолго от работы на время обеда (обед у Панаевых был, разумеется, неторопливый; по окончании его обедавшие пили чай и долго оставались вместе). В таких случаях Добролюбову приносили обед от Панаевых. Пил чай вечером он очень часто на своей квартире или потому, что не хотел отрываться от работы, или потому, что у него был кто-нибудь. Но утром он обыкновенно приходил пить чай к Некрасову и, если имел досуг, оставался тут и завтракать. Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала; так что довольно большую долю своей работы по редижированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова.
Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге[520], заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него всё время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут всё время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Таким образом Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе у Некрасова много времени каждый день.
Та половина квартиры Панаева и Некрасова в доме Краевского, которую занимал Некрасов, состояла из двух комнат: зала и спальной. Была кроме передней ещё одна комната, но ту нечего считать, потому что она служила только умывальной. В ней никогда никого не бывало, и даже мне случалось заходить в неё лишь тогда, когда надо было отмыть слишком запачканные чернилами руки. Вход в неё был из передней прямо. Из передней налево были двери в зал — это была очень большая комната. Двери из передней были с длинной стороны, противоположной окнам. В дальней налево поперечной стене зала были двери в спальную. Проснувшись, Некрасов очень долго оставался в постели; пил утренний чай в постели; если не было посетителей, то оставался [725] в постели иногда и до самого завтрака. Он и читал рукописи и корректуры и писал, лёжа в постели. Тургенев, конечно, не принадлежал к тем посетителям, которые мешали Некрасову оставаться в ней. Одевшись к завтраку или иной раз и пораньше завтрака, Некрасов приходил в зал и после того вообще оставался уже в этой комнате. Тут вдоль всей стены, противоположной дверям в спальную (вдоль поперечной стены направо от дверей из передней), был турецкий диван очень широкий и мягкий, а невдалеке от дивана по соседству с окном стояла кушетка: Некрасову было так же удобно валяться на этой мебели в зале, как на постели в спальной, куда он, раз вышедши в зал, уходил только по каким-нибудь делам; например, для того, чтобы заняться работой без помехи от гостей, продолжавших и без него благодушествовать в зале, или для того, чтобы без помехи от них переговорить с кем-нибудь, уводимым туда для деловой беседы. Таким образом, вообще говоря, одна из двух комнат половины Некрасова оставалась пустою: пока Некрасов в спальной, там с ним те близкие знакомые, кого принимает он в спальной; переходит он в зал, переходят с ним туда и они. Мне, разумеется, очень часто была надобность оставлять Некрасова и его гостей в зале и уходить в спальную одному, чтобы работать там. Иногда делывал так и Добролюбов, если почему-нибудь не хотел переходить с работою в свои комнаты; но вообще, даже я оставался в той комнате, где Некрасов. Тем больше надобно сказать это о Добролюбове: когда я должен был исполнять подвернувшуюся на квартире у Некрасова спешную работу, не имея времени уйти с нею домой, то я занимался ею один; мои работы были такие, в которых Некрасов не принимал участия; а доля Добролюбова в редижировании журнала относилась более всего к тому отделу, которым занимался и Некрасов, так что они любили работать вместе, советуясь между собою, помогая друг другу. Тургенев, разумеется, мог проводить время в той из комнат Некрасова, в какой хотел; он был тут свой человек, вполне свободный делать, как ему угодно и что ему угодно; но он бывал тут собственно для того, чтобы разговаривать с Некрасовым, и потому постоянно держался подле него. Некрасову часто случалось по деловой надобности уходить от Тургенева; Тургенев от Некрасова не отходил, кроме, разумеется, тех случаев, когда бывало много гостей и гости разделялись на группы.
Как держал себя Добролюбов относительно Тургенева в первое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я этим не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности говорить со мною об этом; он не имел охоты быть экспансивным со мною относительно вещей неважных, да и некогда нам было толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, ни мне.
Итак, человек не наблюдательный, я очень долго или не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу [726] или если, может быть, иной раз и замечал, чего, впрочем, не полагаю, то оставлял без внимания эти во всяком случае маловажные для меня впечатления. Сколько времени длилось это, не умею определить годами и месяцами; но помню, что когда Добролюбов писал свой разбор романа Тургенева «Накануне» и я читал эту статью в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чём-нибудь особенном в отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Я полагал, что они такие же, как между Тургеневым и мною: горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное расположение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых, однако ж, и всякому желанию расходиться между собою. Через несколько времени после того, как вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова о «Накануне»[521], я, разговаривая с Тургеневым (у Некрасова, я с ним виделся в то время почти только у Некрасова), услышал от моего собеседника какие-то суждения о Добролюбове, звучавшие, казалось мне, чем-то враждебным. Тон был мягкий, как вообще у Тургенева, но сквозь комплиментов Добролюбову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои разговоры со мною о нём, звучало, думалось мне, какое-то озлобление против него. Когда через несколько ли минут или через час, через два остался я один с Некрасовым (не помню, ушли ли мы с ним в другую комнату говорить о делах или уехал Тургенев), я, окончив разговор с Некрасовым о том, что было важнее для меня и, вероятно, для него — о каких-то текущих делах по журналу, спросил его, что такое значит показавшийся мне раздражённым тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом. «Да неужели же вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова». Некрасов стал рассказывать мне о причинах этой ненависти — их две, говорил он мне. Главная была давнишняя и имела своеобразный характер такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело в том, что давным-давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить»,— встал и перешёл на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, т. е. каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. После множества таких случаев Тургенев отстал наконец от заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивались только обыкновенными словами встреч и прощаний, или если Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его длинные речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону. [727]
Понятно, что Тургенев не мог не досадовать на такое обращение с ним. Но, вероятно, он умел бы и дальше скрывать от меня своё неудовольствие на Добролюбова, если б оно не усилилось в последние дни до положительной ненависти по поводу статьи Добролюбова о его романе «Накануне». Тургенев нашёл эту статью Добролюбова обидной для себя: Добролюбов третирует его как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей. Я сказал Некрасову, что просматривал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов отвечал, что если так, то я читал статью без внимания. При этих его словах я сообразил, что действительно просматривал её торопливо, пропуская строки и целые десятки строк, и целые столбцы корректуры. Дело в том, что я вообще уж давно перестал читать статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что в какой-нибудь из них лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству[522]. Обыкновенно этим обстоятельством бывало желание Добролюбова, чтоб я взглянул, не делал ли он какой ошибки, излагая мысли о предмете мало ему знакомом. Так было и тут. Добролюбову приходилось говорить о положении Болгарии, о чувствах болгарских патриотов, о том, до какой степени возможно находить их желания сбыточными. Ему казалось, что эти вещи знакомее мне, чем ему, и он просил меня просмотреть относящиеся к ним места его статьи. Я и искал глазами в статье только этих мест, пропуская всё остальное не читанным. Просмотрев их, я сказал Добролюбову, что не нашёл в них никаких ошибок.
Услышав от меня, что и в самом деле так: я читал статью Добролюбова действительно торопливо, Некрасов сказал мне, что Тургенев действительно прав, рассердившись на эту статью: она очень обидна для самолюбия автора, ожидавшего, что будет читать безусловный панегирик своему роману. Что обидного Тургеневу в этом разборе его романа, я и теперь не знаю сколько-нибудь положительным образом. Издавая собрание сочинений Добролюбова, я, разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана она в «Современнике», с рукописью Добролюбова[523] (в типографию посылались для набора вырезки из «Современника» или те корректуры, которые уцелели). Перечитывал статью во второй раз в корректуре нового набора. Но, конечно, моё внимание при этом было занято не размышлениями о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нём, и я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о нём.
Некрасов имел тогда ещё очень большое расположение к Тургеневу, но в его рассказе не было ни малейшего порицания Добролюбову, он только смеялся над обманутыми надеждами Тургенева на панегирик роману; посмеялся и я. Увидевшись после того с Добролюбовым, я принялся убеждать его не держать себя так неразговорчиво с почтенным человеком, достоинства которого старался изобразить Добролюбову в самом привлекательном и достойном [728] уважения виде; но мои доводы были отвергаемы Добролюбовым с непоколебимым равнодушием. По уверению Добролюбова, я говорил пустяки, о которых сам знаю, что они пустяки, потому что я думаю о Тургеневе точно так же, как он; Тургенев не может не быть скучен и неприятен и для меня. Если мне угодно не выказывать этого Тургеневу, я могу не выказывать, он не убеждает меня держать себя прямее и откровеннее. Но мне хорошо не уходить от разговоров с Тургеневым, потому что мы видимся сравнительно редко; а толковать с Тургеневым столько, сколько приходилось бы ему, нашёл бы невыносимым и я. Нечего было делать, я отстал от внушения моих прекрасных чувств Добролюбову.
Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать здесь, поэтому довольно будет заметить, что Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нём. Если я не желал разрыва между ними и сам не выказывал Тургеневу, что желал бы уклоняться от разговоров с ним, у меня был на то мотив, не имевший ничего общего с приятностью или неприятностью, занимательностью или незанимательностью их для меня. Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собою. Добролюбов был об этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники.
Таким образом тянулись отношения между Добролюбовым и Тургеневым довольно долго: они беспрестанно встречались в комнатах Некрасова, обменивались словами «здравствуйте» и «прощайте», других разговоров между собой не имели, но посторонним людям могли казаться людьми, которые не имеют ничего друг против друга. Не умею теперь припомнить, чем прервались их свидания: отъездом ли Добролюбова за границу или ссорою Тургенева с Некрасовым; не помню, который из этих фактов предшествовал другому; но, во всяком случае, когда оставался другом Некрасова, Тургенев не мог открытым образом дать волю своему ожесточению против Добролюбова.
Из-за чего произошёл разрыв между Некрасовым и Тургеневым, я не имею положительных сведений[524], мне никогда не случалось спросить об этом у Некрасова, потому что я очень мало интересовался дружбою Тургенева с ним, а ещё меньше того озлоблением Тургенева на него. А с очень давних пор без прямого моего вопроса Некрасов почти никогда не говорил ни о чём из своей личной жизни. При начале знакомства со мной он хотел иметь меня обыкновенным приятелем-собеседником, каким и бывают у каждого хорошие его знакомые, и рассказывал мне о том интересном лично для него, что случалось ему припомнить по ходу разговора; деловой разговор прекращался, заменяясь обыкновенным приятельским; но скоро Некрасов бросил это; не умею сказать, почему именно. Быть может, ему стало казаться, что я не интересуюсь ни его воспоминаниями о давнем, ни его личными радостями и печалями в настоящем. Быть может, на его экспансивность подавляющим образом [729] действовала моя замкнутость: я в то время не любил говорить ни о чём, относящемся к моей внутренней жизни; по крайней мере мне самому так казалось. Вероятно и Некрасову казалось так. Если ему действительно казалось так, то понятно, что у человека такого умного, как он, скоро должно было исчезнуть влечение быть экспансивным с человеком, который не отвечает тем же. Разумеется, мне нравится выставлять эти причины, которые не бросают на меня дурной тени. Но могло быть и то, что я перестал казаться Некрасову человеком, с которым удобно говорить откровенно о делах, не представляющихся ему заслуживающими серьёзного симпатичного внимания. Я мог своими замечаниями на его рассказы шокировать его. Для ясности расскажу один случай этого рода, относящийся к очень позднему времени наших отношений. Мы сидели вдвоем у круглого стола в зале Некрасова: вероятно, он завтракал и я кстати ел что-нибудь; вероятно так, иначе не зачем было бы нам сидеть у этого стола. Я сидел так, что когда опирался локтем на стол, мне приходилось видеть камин. На камине стояла бронзовая фигура, изображавшая кабана. Хорошей ли работы она была или нет, и потому дорогой ли вещью была или дешёвой, я никогда не интересовался знать, мне никогда не случалось и взглянуть на этого кабана сколько-нибудь пристально. Впрочем, a priori я был уверен: эта вещь хорошей работы; иначе не стояла бы тут. — Произошла какая-то маленькая пауза в разговоре: по всей вероятности, Некрасов говорил что-нибудь и на эту минуту остановился, чтобы отодвинуть тарелку и взять другую. А мне в это время случилось повернуться боком к столу и опереться на него; подвернулся под глаза мне кабан и я сказал: «а хороший кабан». Некрасов, которого редко видывал я взволнованным и почти никогда не видывал теряющим терпение, произнес задыхающимся голосом: «ни от кого другого не стал бы я выносить таких оскорблений». Я совершенно невинным и потому спокойным тоном спросил его, что ж обидного ему сказал я? — Он, уже снова овладев собою, терпеливо и мягко объяснил мне, что я множество раз колол ему глаза замечаниями о том, что этот кабан хорош, и рассуждениями, что такие хорошие вещи стоят дорого; а так как эти мои соображения были вставками в разговоры о денежных делах между нами и неудовлетворительном положении кассы «Современника», то получался из них ясный смысл, что он тратит на свои прихоти слишком много денег, отнимая их у «Современника», т. е. главным образом у меня. Я постиг в моих мыслях, что если бы пауза длилась ещё несколько секунд, то я успел бы и произнести предположение о приблизительной цене кабана, и моему умственному взгляду явилась истина, что действительно рассуждения мои о кабане должны были по ходу наших разговоров очевиднейшим образом иметь тот самый смысл, какой теперь нашёл я в них при помощи Некрасова. Я произнес одобрение себе, вроде спокойного подтверждения истины: «ну, так» или «а что же, так», и, как ни в чём не бывало, повёл разговор о том, о чём шла речь раньше. Хоть по этому ничтожному [730] случаю легко сообразить, сколько любезности приводилось по всей вероятности находить Некрасову в моих замечаниях, делаемых по рассеянности безо всякого внимания к их смыслу для него. Само собой понятно, что не могла не остыть в нём охота рассказывать что-нибудь интимное о себе такому собеседнику, который вставлял в паузы рассказа совершенно посторонние делу замечания, отношения которых к предмету рассказа не замечал, потому что произносил их без всякого намерения, не придавая им никакого значения.
Не умею рассудить, достаточны ли эти соображения для объяснения тому, что Некрасов вскоре после начала моего знакомства с ним утратил влечение к интимным рассказам мне о своей личной жизни, или были ему даны моими неловкостями ещё какие-нибудь мотивы, догадаться о которых не приходит мне в голову. Но факт в том, что я после двух, трёх вечеров вдвоем с ним у него, при самом начале знакомства уже не слышал от него рассказов о его личной жизни иначе, как по какой-нибудь очень серьёзной надобности ему предоставить мне участие в его отношениях к кому-нибудь из людей очень близких или очень интересовавших его. Одним из таких случаев, например, было то странное недоразумение, для прекращения которого привелось мне, по желанию Некрасова и Добролюбова, проспать Германию от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути тоже всю сухопутную дорогу[525].
Итак, мне не случилось ни разу слышать от Некрасова ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужденный припоминать и соображать, могу найти больше причин для этой ссоры, чем представлялось мне тогда при отсутствии интереса вдумываться в неё. Очень может быть, что главными поводами были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого личного участия, но которые необходимо должны были, как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Тургенева. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отношениях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности говорить здесь много. Я держал себя с Тургеневым сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что в сущности, я думаю о нём точно так же, как Добролюбов. Бывали случаи, когда я и прямо наносил обиду ему по необходимости избавить «Современник» от какого-нибудь рекомендуемого им произведения, которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу здесь для примера два таких случая.
Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, выражая желание, чтобы я прочел её. Я развернул: это был один из томиков повестей Ауэрбаха; не помню заглавие, шварцвальденские ли рассказы или что-нибудь другое: — Тургенев очень хвалит их и советует перевести в «Современнике»; особенно он настаивает на том, что надобно перевести один из этих рассказов,— на котором [731] и вложена закладка. У меня с Некрасовым были уже раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого я никогда не читывал, но достаточно знал по панегирикам ему, из которых видно было: он жеманник, пресный и скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого автора не заслуживающим перевода в «Современнике», но что я судил так о нём, никогда его не читавши. Некрасов передавал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из Ауэрбаха, я переменю мнение о нём и что в частности тем рассказом, который отмечен в книжке, я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть Barfüssele. Она не понравилась мне. Других рассказов я и не пробовал читать. Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего из неё переводить не стоит. — Тургенев долго не отставал и много раз спорил со мною и был очень раздражён неуспехом, но эта неудача его хоть оставалась никому, кроме нас, неизвестной; а другой случай подобного рода произошёл в присутствии многочисленного общества.
Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными. На них собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них постоянно бывал приглашаем цензор; бывали и кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых, бывал Арапетов.
Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, приглашенных раз навсегда бывать на этих обедах, был такой строгий с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литераторов, что, например, ни один из однофамильцев Ив. Ив. Панаева[526] никогда не бывал приглашаем на эти собрания. (Бедняжка цензор, конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкновенно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах.) После обеда гости оставались тут, до какой поры кому было удобно. Первыми уезжавшими обыкновенно бывали те, которые отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше.
И вот, после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть её. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем камином, на котором стоял кабан. (Камин был в дальнем от окон углу стены, противоположной дивану.) Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея — высокое художественное [732] произведение. Разумеется, по одному первому акту ещё нельзя вполне оценить её, но уже и в нём достаточно обнаруживается сильный талант и т. д., и т. д. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ареопаге, выражали своё сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал с своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать её в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы, так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем дело и кончилось. Не помню, каким языком вёл я спор. По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нём положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. Но понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литературных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Вообще, при моём вступлении в «Современник» Тургенев имел большое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал в редижировании этого отдела журнала, но было же много разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетристах. Находя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего против рекомендации плохим романам или повестям со стороны Тургенева. А когда сблизился с Некрасовым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на «Современник» не могло не быть неприятно Тургеневу.
Надобно упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Излагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить о нём, я не скоро довёл бы до конца ответ на вопрос, которым занимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. Огарев должен был уплатить пятьдесят тысяч рублей жене, с которой разошелся. Взамен платы он предоставил в пользование ей часть своих поместий. Огарева умерла. Поместья должны были быть возвращены Огареву; но управлявший поместьями, дальний родственник Ивана Ивановича, бестолковый плут, расстроивший своё, прежде довольно большое состояние хитрыми, но глупыми спекуляциями, не желал возвращать поместья, да если б и хотел, то затруднился бы при запутанности своих дел. Дело усложнялось чрезвычайно запутанными расчётами о том, какие из долгов, ле[733]жавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым. Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, вообразили, что плут, в управление которому были отданы поместья, был приискан в поверенные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берёт себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещённых людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захотел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некрасова в те годы, в которые были делаемы г-жою Огаревой неприятные её мужу распоряжения. Но Герцен имел неосторожность высказать своё мнение, не ознакомившись с фактами, узнать которые было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рассматривать дело с должным вниманием к фактам. Я полагаю, что истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна теперь всем, оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена и всем учёным, занимающимся историею русской литературы того времени, потому считаю возможным не говорить ничего больше об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его странными поступками ошибках Герцена[527].
Авторитет Герцена был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, т. е. тенденциями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своём образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться другом человека, которого чернит руководитель массы, к которой принадлежал он. Делает честь ему, что он долго не уступал своему влечению сообразоваться с мыслями Герцена и подобно людям менее робким, более твёрдым, как, например, П. В. Анненков, оставался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слишком долго не мог он выдерживать давления авторитета Герцена. И кончилось тем, что он поддался Герцену.
К важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать дружбу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших сильно в том же направлении. К ним принадлежат, например, желания других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Тургенева.
Когда я говорил, что мне не были определительно известны причины разрыва Тургенева с Некрасовым и что я могу только угадывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной книги для справок; но вчера я получил Посмертное издание стихотворений Некрасова (четыре тома 1879). Просматривая «примечания», помещенные во второй части четвёртого тома, я нашёл [734] в них цитату из моей статьи («Полемические красоты», напечатанной в № 6 «Современника» за 1861 год). Вот это место, очевидно служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах разрыва Тургенева с «Современником», т. е. по необходимости и с Некрасовым,— рассуждения, основанные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как это видно из того, что в моём ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? — Ссылаемся на самого г. Тургенева».
Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим, все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым и что единственным, решившим дело, мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», т. е. на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне, имевшему неизменным правилом твердить в разговорах с нападавшими на статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что всё написанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю всё, то разумеется были у меня положительные основания думать так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова и от самого Тургенева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы слышали только то, что уже сами знаем, мы забываем, что наши прежние сведения были повторены нам словами других. Так, например, вероятно, никто из нас не помнит, было ли ему рассказано кем-нибудь, что Пушкин великий поэт и что он умер от раны, полученной на дуэли; а, вероятно, у всех нас было много разговоров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне было много случаев слышать от Некрасова объяснения причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно само собою; но было много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как мы перестали видеться у Некрасова. Не говоря о чём другом, надобно только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были членами комитета «Общества пособия нуждающимся литераторам и учёным» в первый год по основании этого Общества[528]. Комитет собирался каждую неделю. Собирался он у Егора Петровича Ковалевского, который был председателем. До начала заседания долго шли всяческие серьёзные и шутливые приятельские разговоры между всеми обо всем на свете; по окончании заседания они возобновлялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьёзных собеседников в этом приятельском кружке был Тургенев. Я, [735] постоянно повертывавший разговор в шутливое направление, говорил, я полагаю, ещё гораздо больше, чем он. Вообще, мы с ним толковали, оставаясь в гостиной вместе со всеми другими; но часто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым излагать её историю с своей точки зрения мне? По здравому смыслу несомненно, что не мог. Но на деле этот резон не мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на Добролюбова; тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были мои отношения к Добролюбову, этого нельзя было не понимать и наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове: людям, знавшим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, было известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова мне несравненно бесполезнее, чем на самого меня: и однако же Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай.
Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные чтения. Обыкновенным местом для них служил зал Пассажа. Тут, недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн по которым развешивался занавес, так что образовался особый отдел в роде кабинета не очень широкого, но очень длинного. Тут и заседал заведывавший чтениями комитет. Эти заседания, занимавшиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеется, совершенно благополучно обходиться без моего участия в совещаниях. Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности относительно моих сотоварищей, всё время проводил в каких-нибудь своих особых занятиях: усевшись в дальнем углу, рассматривал соседний стул или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкапчиках каких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы для обогащения своего ума познаниями. А если говорить серьёзно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слушания того, что читалось публике, я никогда не был повинен. Натурально всякий другой из членов комитета, усердно слушавший чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, подходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную иеремиаду его о том, как всегда обижал, теперь после разрыва его с Некрасовым ещё больше обижает его Добролюбов[529]. Под конец он почувствовал, что элегический тон выходил слишком нелеп. Какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек, жалующийся на Добролюбова? И в особенности человек, который сам знал, что я думаю о нём так же, как Добролюбов? Итак, Тургенев догадался, что он делает себя смешным; чтобы поправить свою репутацию в своём собственном мнении, обратил своё горе в шутку. Мы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, которую тогда же я похвалил, чем очень порадовал его. И когда стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял её [736] каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней сказано мне: «Вы простая змея, а Добролюбов очковая». Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выходило, конечно иное; именно так: «Я сказал ему, что он простая змея, а Добролюбов — очковая». Но другие стали подходить после, а пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно серьёзную тему, что со мной он может уживаться и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце.
Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбова, то в тысячу раз легче было ему доходить в разговорах со мною до жалоб на Некрасова. Вижу из той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым, по рассказам самого Тургенева — иначе я не мог бы ссылаться на него самого; и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей памяти, так что я и не предполагал их существования, то понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме известного мне.
Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети». Мне случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать объяснения по вопросу об отношениях этого романа к лицу Добролюбова; попадались на глаза и кое-какие отрывки из этих объяснений[530]. Но это были только отрывки; и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были объяснения, взятые все вместе. Мне самому случилось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал,— рассказ какого-то из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович о разговоре её с Тургеневым. Она жила тогда за границей, где-то или в Италии или во Франции; быть может в Париже. Тургенев, живший в том же городе, зашёл к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отмстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил, как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его. Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается: ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова. Это действительно портрет действительного лица, но совершенно иного; это медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл ей фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило её. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания. Г-жа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев [737] сознался наконец, что действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман.
Мое личное мнение об этом деле основано на фактах, которые случилось мне слышать об одном из прежних романов Тургенева — «Рудин».
Вскоре после того, как «Рудин» был напечатан, В. П. Боткин приехал на несколько времени в Петербург. Он поселился жить, как обыкновенно делал в те годы, у Некрасова и проводил большую часть утра и после своих разъездов по городу всё остальное время дня в той комнате, где случалось бывать в эти часы Некрасову. Потому я постоянно виделся с ним в этот его приезд, как и в другие, подобные. Особенно близкого знакомства со мною он не заводил, но был очень добр ко мне и потому охотно разговаривал со мною. В один из очень длинных разговоров втроем, между Некрасовым, Боткиным и мною, случилось Боткину заговорить с Некрасовым о «Рудине». Я вставил в их беседу о нём какие-то маловажные слова, имевшие тот смысл, что портрет Бакунина, начерченный Тургеневым в лице Рудина, едва ли верен. По всей вероятности, сходство утрачено через то, что черты слишком изменены с намерением сделать их дурными. Некрасов на это сказал: «Да, но если б вы видели, каково был изображен Бакунин в третьей или четвёртой редакции романа, которую Тургенев хотел отдать в печать как окончательную. Только благодаря Василию Петровичу он понял, что обесславил бы себя, если бы напечатал роман в том виде. Тургенев переделал роман, выбрасывая слишком чёрное из того, что говорилось там о Рудине». — Я попросил Боткина рассказать мне, как это было. Боткин стал рассказывать. Тургенев начал писать с намерением изобразить Бакунина в блистательнейшем свете. Это должно было быть апофеозом. Он дописал или почти дописал в этом направлении, когда струсил. Ему вообразилось, что репутация его способности понимать людей пострадает, если он изобразит главное лицо своего романа только одними светлыми красками. Скажут: где же тут анализ, открывающий в человеческом сердце тёмные уголки. Без тёмных уголков никакое человеческое сердце не обходится: кто не нашёл их, тот не умел глубоко заглянуть в него. Тургенев начал переделывать роман, стирая слишком светлые краски и внося тени. Долго возился он, то стирая слишком много, то опять восстановляя сияние ореола. В разных стадиях этой колеблющейся переделки он читал совершенствуемый роман тем из приятелей, эстетическому вкусу которых доверял: читал и Некрасову, и ему (Боткину), и Дружинину, и Коршу (Евгению Фёдоровичу), и Кетчеру, и не помню теперь ещё кому-то. Каждый судил, разумеется, по-своему, и Тургенев уступал в чём-нибудь советам каждого. Но в общем переделка шла к тому, что тёмные краски делались всё гуще и гуще. Этим, конечно, сглаживались несообразности остатков прежнего панегирика со вносимыми в него страницами пасквиля. И когда не осталось в романе ничего, кроме пасквиля, Тургенев увидел, что теперь ро[738]ман хорош: всё в нём связно и гармонично. Он объявил приятелям, что вот роман наконец готов для печати, он прочтет им его, и начал читать. В собрании приятелей, на котором происходило чтение, был и Василий Петрович. Выслушав, он стал говорить Тургеневу, что напечатать роман в таком виде будет невыгодно для репутации автора. На этом месте рассказа Боткина Некрасов, ограничивавшийся прежде короткими и маловажными напоминаниями и замечаниями, сказал, что продолжать будет он и продолжал, попросив Боткина слушать и направлять, если он скажет что-нибудь не так. Действительно, самому Боткину было бы затруднительно продолжать рассказ с прежнею подробностью и живостью, приходилось бы передавать негодующую речь, имевшую характер нотации, какие читают взрослые солидные люди зашалившимся школьникам. Боткин, в те годы, когда я знал его, был человеком очень умеренных мнений, более склонявшимся на сторону осторожного консерватизма, нежели расположенным одобрять что-нибудь рискованное или эксцентрическое, прогрессивное. Но он не забывал, что люди, с которыми был он дружен в молодости, были в сущности люди честные, и был возмущен сплошною клеветою на одного из них. Рудин был в этой окончательной редакции романа, с первого слова и поступка до последнего фанфарон, лицемер, мошенник, и только фанфарон, лжец и мошенник, больше ничего. Когда Боткин кончил свою оценку характера, какой дан Рудину в этой редакции романа, Тургенев был смущен до того, что оставался совершенно растерявшимся. Он, повидимому, сам не понимал, что такое вышло из его Рудина. Тут Боткин остановил Некрасова возражением, которое начиналось словами в таком роде: «извините, Некрасов, он понимал», и продолжалось беспощадным анализом некоторых сторон характера Тургенева. Боткин говорил с ядовитым негодованием. Когда он кончил, Некрасов не мог сказать ничего в защиту Тургенева и только убеждал Боткина судить снисходительнее о человеке, который если поступает иногда нехорошо, то лишь по слабости характера. После этого эпизода Боткин и Некрасов докончили рассказ об истории переделок романа. Боткин сказал тогда Тургеневу, что если он не хочет погубить свою репутацию, то должен вновь переделать «Рудина» или бросить его. В таком виде, как теперь, роман не может быть напечатан без позора для автора. Тургенев сказал, что переделает. И переделал. По мнению Боткина и Некрасова, роман, испытавший столько перипетий, вышел в том виде, как напечатан, мозаикой клочков противоположных тенденций, в особенности в характере Рудина. На одних страницах, или клочках страниц, это человек сильного ума и возвышенного характера, а на других человек дрянной. Кажется, и мне самому думалось тогда, что характер Рудина — путаница несообразностей. Не умею припомнить теперь ни того, думалось ли мне так тогда, ни того, так ли это на самом деле[531].
Но выдержан или не выдержан в романе характер Рудина, во всяком случае это вовсе не портрет Бакунина и даже не кари[739]катура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это портрет Бакунина. Такими ярлычками нельзя не признать, например, того, что Рудин оратор, и того, что он иногда забывает отдать приятелю какие-нибудь ничтожные деньги, взятые в заем. Вероятно, подобных заимствований из характера или биографии Бакунина очень много в романе, но я плохо помню его.
В заключение истории переделок «Рудина» расскажу последнее, что случилось мне узнать о его судьбе. Не умею определить теперь, через сколько времени после того, как он был в первый раз напечатан, Тургенев издал собрание своих сочинений. Панаев, отдавая мне экземпляр этого издания, передал мне желание Тургенева, что если я буду писать что-нибудь об этом издании, то чтоб я не упоминал о прибавлении, которое он сделал к «Рудину»: роман теперь кончается тем, что Рудин участвует в одном из парижских народных восстаний (Панаев, разумеется, называл, в каком именно, но я теперь не умею припомнить в каком: в июньском ли междоусобии, или в февральской революции), сражается геройски и умирает славною смертью бойца за свободу. Если журналы выставят на вид этот эпилог, всё издание может подвергнуться запрещению и потому не надобно говорить о нём. Желание Тургенева, если только следует называть это желанием, а не заявлением справедливого авторского требования, которому честные люди обязаны повиноваться по внушению совести, конечно, было принято мной с полным одобрением; но так как из этого вышло, что мне, обязанному не писать об эпилоге, нет и надобности прочесть его, то я и оставил его не прочтенным; потому не знаю, хорош ли он в художественном отношении и может ли выгодный для репутации Рудина конец заставить простить ему те слабости или дурные качества, которые в целом длинном романе навязывал ему автор[532]. Но важен ли сам по себе или маловажен этот эпилог, он заслуживает большого внимания, как факт, доказывающий стремление Тургенева загладить сделанную ошибку, когда достало у него характера и уменья.
Основываясь на фактах, известных мне о «Рудине», я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек. Очень может быть, что и в самом деле он в Базарове изображал того провинциального медика, о котором говорил г-же Маркович (говорил в последствии времени и многим другим; быть может даже и заявлял что-нибудь такое в печати: мне кажется, будто бы я помню, что читал какой-то отрывок из какого-то его объяснения, имевшего этот смысл; не умею, впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом моём воспоминании). Но если предположить, что публика была права, находя [740] в «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова косвенными намёками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного. У Рудина есть хоть то общее с Бакуниным, что оба они ораторы и оба, занимая у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налепки, которая годилась бы в признаки, что он должен изображать собою Добролюбова. Разве одно: я слышал сейчас, что Базаров высок ростом, но я слышу это, как воспоминание лишь очень вероятное, а не вполне отчетливое и достоверное, сам я не помню ничего о наружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об «Отцах и детях».
Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о Добролюбове, ряд которых должен был составить полный по возможности сборник бывших у меня под руками материалов для его биографии, употреблено мною очень суровое выражение, относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев[533]. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? — Написал ли он после «Отцов и детей» ещё что-нибудь злобное о Добролюбове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова в месяцы более близкие, чем время появления «Отцов и детей», к тем дням, когда я писал эту статью? — Не умею припомнить и расположен думать, что ничего такого не было и что моё чувство было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, а лишь воспоминанием об «Отцах и детях»[534].
Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Остаётся прибавить то, что я знаю о чувствах Некрасова к Тургеневу после разрыва между ними. Я не умею припомнить никаких отзывов моих о Тургеневе в разговорах с Некрасовым за это время. Но, разумеется, невозможно же, чтобы не случалось мне иногда говорить о нём что-нибудь Некрасову, и нет никакой возможности сомневаться, что каждый раз, когда я говорил Некрасову о Тургеневе, всё было говорено тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым. Таким образом, он имел с моей стороны возбуждение говорить мне о Тургеневе как можно хуже, и, однако же, он всегда говорил о нём тоном человека, дорожащего воспоминаниями своей прежней дружбы и сохраняющего дружеское расположение к своему бывшему другу. Людям, мало знавшим Некрасова или наталкивавшимся на какие-нибудь угловатости его характера, он мог казаться человеком жестоким; но если не всегда в своих поступках (надобно помнить, что он был человек с сильными страстями и сначала страдавший от безденежья, после того больной), то всегда в своих чувствах он был человек очень мягкий, чрезвычайно терпеливый, человек справедливый и великодушный. [741]
№ 3. [Заметки о Некрасове]
Заметки при чтении «Биографических сведений» о Некрасове, помещенных в I томе «Посмертного издания» его «Стихотворений», СПБ, 1879[535]
Стран. XVIII и XIX.
На стран. XVIII и XIX приведена выписка из воспоминаний Достоевского о Некрасове[536]. Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться. Для примера тому, как вздорны рассуждения Достоевского о Некрасове, возьму из выписки полторы строки. Однажды Некрасов стал рассказывать Достоевскому о своём детстве, и в этом рассказе «обрисовался» перед Достоевским «этот загадочный человек самой затаенной стороной своего духа»; а самая затаенная сторона его духа была — то, что его детство оставило в нём грустные воспоминания. — Каким образом это могло быть «затаенною», даже «самой затаенной» стороною духа «загадочного» человека, когда он в стольких лирических пьесах и стольких эпизодах поэм передавал всей русской публике тяжёлые впечатления своего детства? — Да и чего было бы таить в них? — как любил он передавать их публике, точно так же любил и пересказывать их в разговорах. — После этого натурален вопрос: был ли «загадочен» человек, который так таил «самую затаенную сторону своего духа», который столько раз говорил о ней публике и любил подробно рассказывать о ней каждому знакомому, желающему слушать? — Ровно ничего «загадочного» в Некрасове не было. Он был хороший человек с некоторыми слабостями, очень обыкновенными; при своей обыкновенности эти слабости не были нимало загадочными сами по себе; не было ничего загадочного и в том, почему они развились в нем: общеизвестные факты его жизни очень отчетливо объясняют это. — А если кому-нибудь из его знакомых не ясно было, почему он поступил так, а не иначе в каком-нибудь случае, то надобно было только спросить у него, почему он поступил так, и он отвечал прямо, ясно; я не помню ни одного случая, когда б уклонился от прямодушного объяснения своих мотивов,— ни одного такого случая не было, не то что лишь в разговорах его со мною, но и во всех тех разговорах с другими, какие происходили при мне. Он был человек очень прямодушный.
Стран. XXVII.
Кем была внушена Некрасову мысль поступить в университет? — По рассказу его мне, матерью.
Дело было, по его рассказу мне, так:
Мать хотела, чтоб он был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образо[742]ванность приобретается в университете, а не в специальных школах. Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе, как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала. Отец послал Некрасова в Петербург для поступления в кадетский корпус; в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге у отца был человек, который мог быть полезен успеху просьбы о принятии в корпус (Полозов). Некрасов поехал в Петербург, посланный отцом в кадетский корпус, с письмом об этом Полозову. Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет. Письмо отца к Полозову он не мог не отдать. И пошёл отдать. Полозов, прочитав письмо, без всяких расспросов сказал Некрасову, что представит его Ростовцеву. Отказаться было невозможно. Некрасов побоялся и начать разговор о намерении поступить в университет: что сказал бы на это Полозов? — «Мечта, друг, не выдержишь экзамена»,— и что мог бы отвечать Некрасов? Он действительно был не подготовлен к экзамену для поступления в университет. Он рассудил, что должен молчать перед Полозовым об университете, пока будет в состоянии сказать, что надеется выдержать экзамен. Промолчав об университете, не имел возможности отказаться от представления Ростовцеву и был представлен. Когда несколько подготовился к экзамену, сказал Полозову о своём намерении.
Итак, употребленное в «Биографич. сведениях» выражение, что «случайная встреча с Глушицким перерешила всю судьбу» Некрасова, и всё соответствующее этому выражению в изложении дела о поездке Некрасова в Петербург — ошибочные слова. Если в тех разговорах, по которым написан рассказ «Биограф. сведений», попадались выражения, заставлявшие полагать, что мысль о поступлении в университет внушена была Некрасову Глушицким, это были выражения не достаточно полные; но вероятнее, что мысль о перемене намерения Некрасова вследствие встречи с Глушицким только догадка, порожденная горячим чувством признательности, с каким говорил Некрасов о заботливости Глушицкого доставить ему возможность приготовиться к экзамену. Вероятно, это были разговоры собственно о петербургской жизни Некрасова; потому и попадали в них только отношения к Глушицкому, не попадали воспоминания о разговорах с матерью перед отъездом в Петербург[537].
Стран. LXVII и LXVIII.
По перечислении мотивов, из которых могла происходить «мягкость» — то есть снисходительность, доброжелательность — тона рецензий Некрасова, говорится, что кроме этих соображений «мягкость некрасовской критики могла обусловливаться и благодушными чертами его характера»[538]; без сомнения, собственно ими она и «обусловливалась», другие причины если были, то были только очень второстепенными мотивами; главное дело было в том, что Некрасов был человек очень добрый. [743]
Стран. LXX.
В характеристике начинающегося 1856 годом «второго периода журнальной деятельности» Некрасова говорится, между прочим, что «умственный и нравственный горизонт поэта значительно раздвинулся под влиянием того сильного движения, какое началось в обществе, и тех новых людей, которые окружили его». — Дело было не в расширении «умственного и нравственного горизонта поэта», а в том, что цензурные рамки несколько «раздвинулись» и «поэт» получил возможность писать кое о чём из того, о чём прежде нельзя было ему писать. — Когда дошло и до крайнего своего предела расширение цензурных рамок, Некрасов постоянно говорил, что пишет меньше, нежели хочется ему; слагается в мыслях пьеса, но является соображение, что напечатать её будет нельзя, и он подавляет мысли о ней; это тяжело, это требует времени; а пока они не подавлены, не возникают мысли о других пьесах; и когда они подавлены, чувствуется усталость, отвращение от деятельности, слишком узкой. — Я говорил ему: «если б у меня был поэтический талант, я делал бы не так, я писал бы и без возможности напечатать теперь ли, или хоть через десять лет; писал бы и оставлял бы у себя до поры, когда будет можно напечатать; хотя бы думал, что и не доживу до той поры, всё равно: когда ж нибудь, хоть после моей смерти, было бы напечатано». — Он отвечал, что его характер не таков, и потому он не может делать так; о чём он думает, что этого невозможно напечатать скоро, над тем он не может работать. — Причина невозможности всегда была — цензурная.
Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому обществу; потому и нужна ему была для работы надежда, что произведение будет скоро напечатано; если бы он заботился о своей славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, всё равно; даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки лет: посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы жизни которого уж не те, какие разъясняются посмертною находкою.
Итак, писать без надежды скоро увидеть произведение напечатанным Некрасов не имел влечения. Потому содержание его поэтических произведений сжималось или расширялось соответственно изменениям цензурных условий. Из того, что оно после Крымской войны стало шире прежнего, нимало не следует, что за три, за четыре года до начала её «умственный и нравственный горизонт» его был менее широк.
Имела ль большое влияние на образ его мыслей перемена в настроении массы образованного общества, произведённая Крымской войною? (по выражению «Биогр. сведений», «горизонт» его «раз[744]двинулся» отчасти под влиянием этой перемены). Припомним, в чём состояла перемена. Было сознано массою общества, что надобно отменить крепостное право, улучшить судопроизводство и провинциальную администрацию, дать некоторый простор печатному слову. Только. Что нового для Некрасова могло быть в этих мыслях, новых для массы образованного общества? — Задолго до Крымской войны они были ясными и твёрдыми мыслями — только ли того литературного передового круга, в котором жил Некрасов с 1846, если не с 1845 года? — Нет, не этому только кругу они были уж привычны в 1846 году и раньше того; около 1845 они были уже вполне усвоены большинством той части образованного общества, мнения которой рано или поздно приобретают владычество над мыслями другой, более многочисленной части его; вполне усвоены большинством тех людей, которые сами чувствовали разницу таланта между Пушкиным и Бенедиктовым, Шекспиром и Коцебу и т. д.,— которые чувствовали эту разницу сами и с голоса которых научились говорить о ней менее развитые образованные люди. — Перемена, произведённая Крымской войною в настроении русского общества, нимало не была переменою в мыслях той части русской публики, которая до Крымской войны любила Жоржа Занда и Диккенса, она состояла лишь в том, что другая, более многочисленная часть образованного общества,— та, которая любила Александра Дюма,— примкнула к более развитой части по вопросам о русском быте; это и дало возможность развитым людям заговорить громко о надобности преобразований, издавна составлявших предмет их затаенных желаний; поддерживаемые новыми своими многочисленными союзниками, они доставили некоторый простор печати,— и Некрасов, подобно другим передовым деятелям печатного слова, получил возможность расширить содержание своей деятельности; вот этим он действительно обязан «тому сильному движению, которое началось в обществе»,— обязан точно так же, как и все талантливые ли, не особенно ли даровитые поэты, беллетристы, драматурги, его сверстники или старшие его, имевшие прогрессивный образ мыслей: всем им можно стало писать кое о чём из того, о чём желали, [но] не могли они писать прежде.
Итак, перемена в настроении большинства многочисленнейшей части образованного общества не «раздвинула умственный и нравственный горизонт» Некрасова, потому что он гораздо раньше этой перемены имел понятия более широкие, нежели какие могли быть внесены в его мысли овладевшими тогда этою частью общества желаниями, не очень широкими, или, вернее сказать, очень узкими; но всё-таки это «сильное движение», начавшееся в обществе, имело большое влияние на его поэтическую деятельность: нимало не «раздвигая» его «умственный и нравственный горизонт», оно раздвинуло внешние ограничения, сжимавшие прежде деятельность его, дало ему возможность писать о том, о чём не дозволялось писать до той поры; это влияние перемены в настроении общества действительно обнаруживалось в содержании поэтических произведе[745]ний Некрасова. Но — имели ль на его поэзию какое-нибудь влияние «новые люди, которые окружили его»?
Кто были эти «новые люди»? — Обыкновенно, когда употреблялось это выражение в характеристиках журнала, фактическим (не формальным; по названию редактор был Панаев; но фактическим) редактором которого был Некрасов, то подразумевались я и Добролюбов; только мы двое; в этом смысле, по всей вероятности, должно понимать выражение «новые люди» и здесь.
Хорошо; разберу вопрос о том, имел ли влияние на «умственный и нравственный горизонт» Некрасова я; потом выскажу своё мнение о том, в чём могло состоять влияние сближения с Добролюбовым на мысли Некрасова.
Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно[539]. Правда, у меня было по некоторым отделам знания больше сведений, нежели у него; и по многим вопросам у меня были мысли более определённые, нежели у него. Но если он раньше знакомства со мною не приобрел сведений и не дошёл до решений, какие мог бы получить от меня, то лишь потому, что для него, как для поэта, они были не нужны; это были сведения и решения более специальные, нежели какие нужны для поэта и удобны для передачи в поэтических произведениях. Поэзия не допускает технических подробностей, чуждается и такой определённости решений, которая даётся техническими подробностями; та точность решений, которая нужна в статьях политического или экономического содержания, противна духу поэзии; слишком узки для поэзии эти точные решения. В поэзии не годится давать градусы и минуты широты и долготы Петербурга; поэзия говорит только, что он лежит на очень далеком севере и что он лежит близ западной границы России. И число жителей Петербурга она не может определить с точностью хотя бы только до десятков тысяч; в поэзии неловко даже сказать «город с населением в 900 000 человек»; это слишком узкая точность; поэзия говорит или «город с населением многих сот тысяч людей» или «с миллионным населением».
Те сведения, которые мог бы получать от меня Некрасов, были непригодны для поэзии. А он был поэт, и мила ему была только поэтическая часть его литературной деятельности. То, что нужно было знать ему, как поэту, он знал до знакомства со мною, отчасти не хуже, отчасти лучше меня.
Но в числе тех мыслей, которые мог он слышать от меня и которых не имел до знакомства со мною, находились и широкие, способные или быть предметами поэтической разработки, или по крайней мере давать окраску поэтическим произведениям? — Были. Воспринял ли их от меня Некрасов? — Покажу это на двух примерах.
Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их [746] друзья). Я и теперь полагаю, что Мегмет-Али не был полезен для Египта. Не считаю полезной для Турции деятельность Махмуда II. В те времена я не судил о них мягче, нежели теперь. — Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена. Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я сколько-нибудь большое влияние, он писал бы о Петре тоном прямо противоположным тому, каким писал[540].
Я имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян. Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах я имел возможность высказывать моё мнение полнее, нежели в печати. Случалось ли мне высказывать его Некрасову? Без сомнения, случалось нередко.
Итак, Некрасову должно было быть задолго до печатного объявления о решении крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготовлявшемся решении, основные черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела?
Мне следовало полагать: да, моё мнение об этом деле известно Некрасову.
Прекрасно. И вот факт.
В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, ещё один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моём входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта „воля“. Вот что такое она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения.
Итак, ни мои статьи, ни мои разговоры не только не имели влияния на его мнение о ходе крестьянского дела, но и не помнились ему. Я был тогда несколько удивлен, увидев, что решение, полученное крестьянским делом, произвело на него впечатление неожиданности. Но я дивился совершенно напрасно. То, что казалось мне важно в готовившемся решении дела, не интересовало его: это были технические подробности, подвергавшиеся обработке одна [747] за другою; каждая из них, как особый предмет молвы могла представляться не очень важною частью целого; а он думал лишь о целом и не обращал внимания на мои мысли об этих специальных, по-видимому мелочных подробностях; они исчезали для него в общем представлении «освобождения крестьян с землею». Мои статьи, мои разговоры скользили мимо его мыслей, и когда оказалось наконец, чтó такое сложилось из этих технических подробностей, результат вышел для него неожиданностью.
Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я? Его сближение с Некрасовым началось только по возвращении Некрасова из-за границы, в 1857 году; гораздо позднее моего сближения (тремя с половиною или почти четырьмя годами); всё, чтó мог бы узнать Некрасов от Добролюбова, он более трёх лет слышал от меня; всё, потому что если была какая-нибудь разница в мыслях между мною и Добролюбовым, она была ничтожна с той точки зрения, с какой смотрел на вопросы Некрасов.
Любовь к Добролюбову могла освежать сердце Некрасова; и я полагаю, освежала. Но это совсем иное дело, не расширение «умственного и нравственного горизонта», а чувство отрады. Чувство отрады благотворно. Оно укрепляет душевные силы. За десять лет до знакомства с Добролюбовым подобное благотворное влияние имело на Некрасова знакомство с тою женщиною, которая была предметом многих его лирических пьес[541].
Перехожу к следующим строкам характеристики «второго периода» деятельности Некрасова.
В чём же состояло расширение «умственного и нравственного горизонта поэта»? — В том, поясняют «Биографические сведения», что «прежние идеалы» его «оттеснились» «новыми». Как Белинский не любил, чтоб ему напоминали о его статьях в роде «Бородинской годовщины» или «Менцеля», так и Некрасов «неохотно потом вспоминал о грехах своей молодости в роде „Трёх стран света“»,— говорится в «Биограф. сведениях»[542]. Действительно ли он «неохотно вспоминал» о «Трёх странах света»? — Это замечание произошло вероятно из недоразумения. Некрасов был не охотник говорить о своих произведениях. Вероятно, ему случилось устранить вопрос о «Трёх странах света» выражением недостатка охоты говорить об этом романе; человеку, не знавшему, что он не любит рассуждать ни о каких своих произведениях, могло показаться, что он не любит говорить собственно об этом романе.
Главною причиною его неохоты говорить о своих произведениях была скромность. Он был очень скромный человек. Другая — второстепенная — причина состояла в том, что он слишком хорошо знал по опыту, как скучна и смешна для слушателя слабость большинства беллетристов и поэтов разглагольствовать о своих произведениях. Человек с сильной волей, он легко удерживался от этой слабости. [748]
«Три страны света» и другие прежние слабые произведения Некрасова («грехи его молодости» по выражению «Биограф. сведений») вовсе не находятся в таком отношении к последующим его произведениям, как статьи Белинского о «Бородинской годовщине» и «Менцеле» к позднейшим статьям. Белинский выражал в тех прежних статьях мысли, которые после стали казаться ему ошибочны, дурны, ненавистны. В «Трёх странах света» нет ничего такого, что казалось бы впоследствии Некрасову дурным с нравственной или общественной точки зрения. И, сколько мне помнится, там и не было ничего такого. В анализе этого романа, даваемом «Биограф. сведениями», проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о «гнусности буржуазии» и обо всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые «любовью к народу», вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа[543].
«Биографич. сведения» продолжают: прежде (до 1856 года) у Некрасова был только «горячий, но крайне неопределённый протест против рабства и угнетения» — если протест был неопределённым, то [по] недостатку ль определённости в мыслях Некрасова или по цензурной невозможности писать определённее? — припомним тогдашние цензурные условия, и не будет ровно никакой надобности пускаться в предположения о расширении умственного и нравственного горизонта Некрасова для объяснения тому обстоятельству, что как только несколько пораздвинулись цензурные рамки, он стал писать то, чего не дозволялось писать прежде, и стал «певцом народного горя»,— певцом которого был он и прежде, насколько то было возможно.
Он и прежде писал произведения одинаковые по мысли с теми, за которые «Биограф. сведения» называют его «певцом народного горя». Приведу заглавия некоторых из пьес этого содержания, написанных раньше (до начала и движения в обществе и сближения со мною).
1846. Тройка.
1848. Вино.
1850. Проводы. (Вторая пьеса в ряду соединенных общим заглавием «На улице».)
1853. В деревне.
1853. Отрывки из путевых заметок графа Гаранского.
Пьесы «В деревне» и «Отрывки из записок Гаранского» написаны Некрасовым тоже не только до начала «сильного движе[749]ния в обществе», но и до сближения со мною, которое началось только с 1854 года; я стал бывать у Некрасова несколько раньше, во второй половине 1853 года; но сближение началось лишь в 1854 году.
Стран. XXVIII.
В начале выписки из рассказа доктора Белоголового[544] о болезни Некрасова находится выражение: «При всей скрытности своего характера и необыкновенном уменье владеть собою» (Некрасов не мог не выражать, что проявления симпатии общества к нему трогают его). — Очень большое уменье владеть собою действительно было у Некрасова. Но «скрытен» он не был. Он только не был охотник говорить о себе, отчасти по скромности (это главное), отчасти потому, что знал из собственного опыта, как скучно и утомительно и смешно слушать охотников много толковать о себе; он не хотел быть скучным и смешным. Но когда видел, что человек желает слушать, то говорил с полной откровенностью, лишь бы человек, желающий слушать, казался ему заслуживающим его откровенность.
Заметки при просмотре «Примечаний» (к стихотворениям Некрасова), помещенных в IV томе «Посмертного издания» его стихотворений, СПБ. 1879.
Стран. XXXV, XXXVI.
По поводу «Отрывков из путевых записок графа Гаранского» «Примечания» говорят: «Несмотря на примечание автора» (цитирующего заглавие французской книги графа Гаранского), «едва ли можно сомневаться в том, что это — оригинальная пьеса, а не перевод». ещё бы, сомневаться в этом. Но для полного убеждения охотников до подобных выражений, «едва ли можно» и т. д., когда и толковать тут было б не о чём, если бы не было употреблено кем-нибудь такое выражение, скажу, что перевод заглавия книги Гаранского на французский язык Некрасов поручил сделать мне; у него оно было написано по-русски; я сделал, но сказал, что я не умею писать по-французски, потому надобно показать мой перевод знающему хорошо французский язык; вероятно будет надобно поправить что-нибудь; через несколько времени вошёл Тургенев, мы показали, он поправил.
Стран. XLVI. Примечание к пьесе:
«тяжёлый крест достался ей на долю».
«Содержание, повидимому, имеет ближайшее отношение к поэме «Мать». — Ровно никакого; дело идёт о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темой стольких лирических пьес Некрасова. [750]
Вообще по поводу «Примечаний» должно пожалеть о претензии составителя их поправлять стихи Некрасова, кажущиеся ему неправильными. Напрасно он испортил текст своими поправками. — Обыкновенный повод к поправкам подает ему «неправильность размера»; а на самом деле размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трёхсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильности.
Приведу один пример. В «Песне странника» (в «Коробейниках») Некрасов написал:
«Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь?»
В «Посмертном издании» стих поправлен
… Что ты бабу-то бьешь?
Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это даёт особенную силу выражению. — Поправка портит стих.
Так и в других случаях.
Автор «Примечаний» делает две-три заметки о неверности выражений (например, о том, что нельзя сказать «женщина входила на Афонские высоты», потому что женщинам воспрещен вход в афонские монастыри). В этих двух-трёх случаях он быть может прав; но следовало ограничиться заметкой о неправильности выражения, а не поправлять стих. — Впрочем, что касается «Афонских высот», то надобно было бы справиться, нет ли на перешейке Афонского мыса за стеною, отделяющею монастырь от северной части полуострова, каких-нибудь монастырей, церквей или вообще мест поклонения, доступных женщинам.
Заметка к «Своду статей о Некрасове», помещенному в том же (IV) томе
На стр. CLXXV говорится, что помещенное в «Современнике» за 1856 год, в томе LXX, на страницах 1–12 (по нумерации библиографического отдела) «Краткое известие о выходе собрания стихотворений» (Некрасова) с выпиской некоторых пьес — «статья самого Некрасова»; нет, эта статья написана мною, и пьесы, приведенные в ней, выбраны для помещения в ней мною[545].
Это дело моей неопытности и несообразительности имело чрезвычайно тяжёлое влияние и на «Современник» и на судьбу «Стихотворений Некрасова».
Перед отъездом за границу Некрасов приготовил собрание своих стихотворений к изданию; но книга вышла уж по его отъезде. Я уж заведывал тогда библиографическим отделом «Современника» [751] и рассудил, извещая о выходе издания стихотворений, взять и перепечатать три стихотворения; это были:
Поэт и гражданин;
Отрывки из записок графа Гаранского, и — какое было третье, я не умею припомнить сам; но в «Примечаниях» (стран. XLV) говорится, что «Забытая деревня» была перепечатана в той статье; итак, третьим из перепечатанных там стихотворений была, как вижу, эта пьеса.
Вслед за выходом книжки «Современника» с этою безрассудною перепечаткою поднялась буря и против журнала и против книги «Стихотворений Некрасова». Она была поднята собственно перепечаткою «Поэта и гражданина» и двух других пьес в «Современнике»; и в особенности перепечаткою «Поэта и гражданина». Я старался убедить себя, что она поднялась бы и без того, что она произведена не перепечаткою, которую сделал я, а самою книгою «Стихотворений». Но принужден был отбросить из мыслей это вздорное оправдание своему поступку. Дело произошло исключительно по поводу появления в «Современнике» перепечатанных мною пьес. Книга «Стихотворений» не попала бы в руки тех любителей и любительниц сплетен, которые подняли шум и заставили официальный круг удовлетворить их требованию. Это были какие-то — я не помню теперь имён — пожилые великосветские люди, совершенно посторонние цензурному ведомству и полицейским учреждениям, контролировавшим цензурное ведомство. Они выписывали журналы, в том числе «Современник», но русских книг не покупали. Книга «Стихотворений Некрасова» если бы попала когда-нибудь в их руки, то очень не скоро, и цензура могла бы отвечать на их шум, что он неоснователен, что книга уж давно в обращении, и вредных следствий от того никаких не произошло; и контролирующее цензуру ведомство имело бы возможность подтвердить, что это так. Оно подтвердило бы, потому что, подобно всякому другому ведомству, не любило принимать назиданий от людей, не имеющих формального права делать ему выговоры. Но оно не могло дать отпора им, потому что не было единственного возможного отпора: «Это уж давно в руках публики, и время оправдало нашу мысль, что от этого не будет вреда». — Итак, причиною бури было исключительно то, что я перепечатал в «Современнике» те три пьесы, и в частности перепечатка пьесы «Поэт и гражданин».
Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник»,— года три, это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбуждённым моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него. — моё сотрудничество принесло много пользы «Современнику», в том нет спора; но я не знаю, уравновесился ли этою пользою тот вред, который нанёс я ему безрассудною перепечаткою «Поэта и гражданина». [752]
О том, какой вред нанёс я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений»; оставалась бы лишена и дольше, если бы по счастью не принял на себя заботу о разрешении цензуре этого дозволения граф Адлерберг, граф А. В. А., о котором говорится на стран. LXXII «Биограф. сведений».
Когда я написал Некрасову (бывшему за границею) о буре, постигшей «Современник», в ответ я получил только выражение, что это очень жаль, но — никакого упрёка мне.
Как назвать это, если не великодушием?
Когда он возвратился из-за границы, я при первой встрече стал говорить о том, что моя ошибка очень много повредила «Современнику»; он сказал добродушно, без малейшей досады: «Да, конечно, это была ошибка; вы не догадались подумать, что если я не поместил „Поэта и гражданина“ в „Современнике“, то значит находил это неудобным» — и, сказав это, он стал говорить о другом, а после того ни разу не напоминал мне ошибку, сделанную мною тогда; ни разу.
Случалось мне и после делать ошибки, наносившие тяжёлый вред «Современнику»; никогда не слышал я от Некрасова никакого упрёка ни за одну из них. — Наконец, издание «Современника» было приостановлено. Из-за кого? — Исключительно из-за меня[546]. Я не услышал от Некрасова ничего подобного упрёку и после этого удара, полученного журналом из-за меня.
Он был великодушный человек сильного характера.
Прибавлю к прежним заметкам ещё две.
- Для всех очевидно, что в пьесе
«На Волге (Детство Валежникова)»
есть личные воспоминания Некрасова о его детстве. — Однажды, рассказывая мне о своём детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им, ребёнком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать. — Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нимало не изменяют смысла речи и даже часто с грамматической и лексикальной стороны немногочисленны и не важны. Вместо
«а кабы умереть к утру, так было б ещё лучше»,— в пьесе сказано:
А кабы к утру умереть. Так лучше было бы ещё; [753]
только такими пятью, шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне. Когда я читал пьесу в первый раз, у меня в памяти ещё были совершенно тверды слова, слышанные мною.
- О пьесе
«Размышления у парадного подъезда»
могут сказать, что картина
«Созерцая, как солнце пурпурное Погружается в море лазурное» и т. д.
— живое воспоминание о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев.
Вторая заметка:
в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:
«Иль, судеб повинуясь закону»,—
этот напечатанный стих лишь замена другому, который когда-нибудь услышишь от меня, мой милый друг, если он не попал до сих пор в печать[547].
«Предисловие» издательницы[548] должно быть перепечатываемо при всех будущих изданиях стихотворений Некрасова. Оно достойно того. И оно незаменимо никаким другим.
На заглавном листе не выставлено имя издательницы. И под предисловием нет её имени. В предисловии неизбежно было ей упомянуть о себе, кто же она. И она сказала о себе, что она «сестра покойного»; только.
Ясно, каков был характер Анны Алексеевны Буткевич. Действительно, она была женщина чрезвычайно скромная. Можно было десятки раз вести при ней разговоры о литературных делах с Николаем Алексеевичем и не услышать от неё ни одного слова, относящегося к содержанию этих разговоров; до такой степени была она чужда желанию выказывать свой ум и свою начитанность.
Предисловие своё начинает она тем, что приводит слова, которыми Некрасов мотивировал и высказывал желание, чтобы по его смерти не были вносимы в собрания его стихотворений те пьесы или части пьес, которые, по его желанию, не должны быть вносимы.
Желание было разумно. И Анна Алексеевна заслуживает безусловно похвалы за то, что «сочла своею обязанностью свято исполнить» эту «волю» своего брата.
«Незадолго до своей смерти он, по-видимому, был занят мыслью приготовить текст нового издания»,— продолжает она: — «После него сохранился экземпляр, который [он] перечитывал, исправлял». Действительно, нельзя сомневаться: то было приготовление нового издания. [754]
№ 4. Воспоминания о начале знакомства с Н. А. Добролюбовым
Милый друг,
Расскажу Тебе некоторые из своих воспоминаний о начале моего знакомства с Добролюбовым.
Бывши учителем гимназии в Саратове, я познакомился с некоторыми из молодых людей, находившихся тогда в высших классах её. Те из них, которым случилось попасть в Петербургские учебные заведения, были частыми гостями у меня в Петербурге. Одним из них был Николай Петрович Турчанинов, юноша очень благородного характера и возвышенного образа мыслей. Он был студент Педагогического Института.
Я в те годы довольно часто бывал у Срезневского. Он читал лекции по славянским наречиям и в Пед[агогическо]м Институте, как в Университете. Однажды он рассказал мне, что два студента Пед. Ин-а подверглись бедственной случайности: у них были найдены заграничные издания Герцена, Давыдов (директор Института) хочет вести это дело формальным порядком; если будет так, они погибнут. Одного из них ему (Срезневскому) жаль только, как было бы жаль всякого погибающего молодого человека, это юноша посредственный, скорее даже плохой, чем хороший; но другой — человек необыкновенно даровитый и уж обладающий знаниями, обширными не по летам его; притом благородный; этого молодого человека ему очень жаль; и не ему одному из профессоров Пед. Ин-та; он и некоторые другие профессоры П. Ин-а решили настойчиво убеждать Давыдова бросить дело, по сущности своей ничтожное даже с официальной точки зрения, но при формальном порядке ведения его подвергающее гибельной судьбе попавших под него. Срезневский называл фамилии этих студентов; я плохо запомнил их. — Через несколько дней Срезневский сказал мне, что ему и его товарищам удалось урезонить Давыдова; молодые люди избавились от беды. Избавились, то и прекрасно. Я совершенно перестал помнить эту историю[549].
Прошло довольно много времени, несколько месяцев, или год, или больше, не помню теперь; но много времени[550]. Однажды Турчанинов принёс мне тетрадь и сказал, что его товарищ, Добролюбов, просил его отдать её мне, чтоб я посмотрел, годится ль она для «Современника». Это была статья о «Собеседнике любителей российского слова». Турч—в очень хвалил автора и говорил, что горячо любит его.
Не помню, тотчас ли, при Т—е, я прочел несколько страниц и тогда же сказал ему ответ, или отложил тетрадь в сторону и сказал Т—у, что дам ответ, когда он зайдёт в следующий раз. Помню только, что, прочитав две, три страницы, я увидел: статья написана хорошо, взгляд автора сообразен с мнениями, какие изла[755]гались тогда в «Совр—е», и читать дальше нет надобности. И когда, в тот ли раз, или при следующем посещении Турч—а, я давал ему ответ, то дал такой: статья хороша, будет напечатана в «Совр—е», и я прошу Т—а пригласить автора побывать у меня.
Через день или через два пришёл ко мне Добролюбов; один ли, или с Турч—вым, я не помню; если с Турч—вым, то Турч—в скоро ушёл,— то-есть, может быть, через час или полтора, напившись чаю; и пока был тут, то не играл никакой роли в разговоре. Так ли или иначе, один или вместе с Тур—вым Добролюбов зашёл ко мне в первый раз, но он просидел со мною очень долго один; пришли они вдвоем или пришёл один он, вечером; а часов с 9 мы сидели с Добр—вым только вдвоем; если приходил с ним Т—в, то к этому времени ушёл и остался (если так, то, разумеется, по моему приглашению остаться) один Д—в; и просидели мы с ним вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, часов до двух, и толковали мы с ним о его понятиях. Я спрашивал, как он думает о том, о другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить ему. Дело в том, что по статье о «Собеседнике» мне показалось, что он годится быть постоянным сотрудником «Совр—а». Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о вещах понятиям, излагавшимся тогда в «Совр—е». Оказалось, соответствуют вполне. Я, наконец, сказал ему: «я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Совр—а»; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником «Совр—а». Он отвечал, что он давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить всё ему и ему. — Тогда я стал спрашивать его о личных его делах. Рассказав об отце, о своём сиротстве, о сёстрах, он стал говорить о своём положении в Институте; дошло дело до того, что он находится в опале у Давыдова, по поводу того, что у него и Щеглова (не помню эту фамилию, кажется — Щеглов) были найдены заграничные издания Герцена. Только тут мне вспомнилась история, слышанная от Срезневского; «Так это были вы, Николай Александрович! Вот что!» — Мысли у меня в ту же секунду перевернулись. — «Когда так, то дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося в товарище по журнальной работе: эту статью, так и быть, поместим; одну статью можно утаить от Давыдова. Но больше не годится вам печатать ничего в „Совр—е“ до окончания курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишете в „Совр—е“, то беда была бы вам. Итак, когда кончите курс и станете независим от Дав—ва, тогда и начнёте постоянно писать для „Совр—а“; а раньше нельзя». Он возражал. Я, разумеется, остался при своем.
И не вполне выдержал решение, которое считал необходимым для безопасности Добр—ва. Через несколько недель он принёс мне рецензию, написанную им об «Описании Главного Педагогического Института». Если чего не следовало для его безопасности печатать до окончания им курса, то конечно именно такой статьи. Но ему очень хотелось, чтоб она была напечатана, и я уступил. [756]
Дело сошло благополучно для него; статья была принята за написанную мною, как я и надеялся, уступая желанию Добр—ва[551].
Сделал я и другую уступку ему, но уж не такую неизвинительную: месяца через три напечатал его ответ Галахову[552]; предмет был безопасен для него.
Сделал, незадолго до развязки его отношений к Институту и Давыдову, и третью уступку ему: напечатал его статью «О значении авторитета в воспитании». Эта уступка тоже извинительна: предмет статьи был безопасный для него. Притом, до окончания курса Добр—ву оставалось так мало времени, что можно было иметь уверенность: дело не успеет обнаружиться.
№ 5. По поводу «автобиографии» Н. И. Костомарова
Ты говорил, чтобы я делился с Тобою своими литературными воспоминаниями. Я и вздумал употребить этот вечер на то, чтоб рассказать Тебе что-нибудь из них. Хотел писать о Некрасове. Но это заняло бы не один вечер. А я имею только один свободный. Перебирал я в мыслях другие темы. Но все они оказывались тоже слишком обширны. Взглянул — на столе лежит июньская книжка «Русской мысли». Вот и прекрасно. Напишу что-нибудь по поводу «Автобиографии» бедного больного чудака, моего бывшего приятеля, бегавшего от меня в последнее время моей петербургской жизни[553].
А кстати, знаешь ли Ты, почему он стал бегать от меня? Ты и два другие интригана, Утин и Спасович, были причиною того, что ему заблагорассудилось бегать от меня. Теперь понимаешь? — Да, разумеется, вышло то, что Ты теперь, по всей вероятности, уж угадываешь.
Однажды он вбегает ко мне в неистовом азарте и с криками, с беготнею по комнате начинает жаловаться на Тебя, Утина и Спасовича: вы устроили против него интригу; целью вашей интриги было добиться того, чтоб он не читал свою речь; и вы добились этого: он не будет читать свою речь! — Что такое? Какая речь? Где и как он хотел читать ее? И почему он не будет читать ее? — Я в то время совершенно не интересовался университетскими делами; забыл, что скоро будет акт в университете; вероятно, слышал от Костомарова, что в этом году будет читать речь на акте он; но если и слышал, то забыл[554]. — «А! скоро будет акт в университете; и вы написали речь для акта? И вам сказано кем-нибудь, что вы не будете читать ее?» — «Да, Плетнёв сказал». — «И это он сказал по наущению Утина, Спасовича и моего брата?» — «Да». — «Он сказал, что он делает это по их наущению?» — «Нет, он сказал не то; он сказал: речь очень длинна; акт и без того будет длинен. Но я сам знаю: это они! Это они!» — «Да какая охота могла [757] быть им мешать вам читать вашу речь?» — «Да она о Константине Аксакове». — «Ну, так что ж?» — «Да я в своей речи хвалю его». — «Ну, так что ж? Какая надобность им мешать вам хвалить его на акте?» — «Да он был славянофил». — «Ну да. Но им-то какое же огорчение от ваших похвал ему?» — Начинаю объяснять моему бедному чудаку, что Спасович и Утин — люди вовсе посторонние спорам славянофилов с западниками. Начинаю объяснять ему, что Ты, хорошо знающий его, по всей вероятности легко простишь ему его клевету; но что Утин и Спасович не будут так снисходительны, потому я буду толковать с ним только о них, оставляя дело о клевете на Тебя без внимания. И стараюсь вразумить его, что Утин и Спасович — люди благородные, прямодушные; что они неспособны унизиться до интриги; потому, его фантазия о них — гадкая нелепость. В заключение всего говорю ему, что он должен сейчас же ехать к Утину и к Спасовичу; он прибежал ко мне, как только сочинилась в его голове глупая фантазия, потому они ещё не могли ничего знать о ней. — «Поезжайте к ним сейчас же; в вашей компании вы уж толковали о их интриге, потому слух дойдёт до них; но теперь ещё не мог дойти; дорожите временем, спешите к ним; расскажите всё сам; и за Утина, и за Спасовича ручаюсь вам: они простят, если вы успеете повиниться перед ними, пока они ещё не слышали эту сплетню от других. Но когда она дойдёт до них, извиняться будет поздно». — Я долго и сильно говорил ему о необходимости просить извинения у Спасовича и Утина и требовал, чтобы он прямо от меня ехал к ним. — Он говорил, что ему надобно подумать, как поступить. Я проводил его словами, что думать тут не о чем, он должен ехать к Утину и Спасовичу, и что терять времени ему нельзя.
Он говорит («Русская мысль», июнь, стран. 35): «Я написал о Константине Аксакове. Речь эта возмутила против меня Стасюлевича, Пыпина, Б. Утина, которые видели в ней переход к славянофильству. Кавелин был на их стороне». Из четырёх злоумышленников двое тут уж позднейшее изобретение бедного больного человека. В разговоре со мною об участии Кавелина в интриге он не упоминал. А Стасюлевича он тут поставил на место, которое, в разговоре его со мною, дано было им Спасовичу. Когда диктовал «Автобиографию», он перепутал фамилии по созвучию первой и последних букв. Ни о Стасюлевиче, ни о Кавелине он не говорил ни слова. Он говорил только о Тебе, Спасовиче и Утине.
Итак, Кавелин, Стасюлевич, Утин, Ты — вы были против его речи; «Чернышевский, напротив, отнесся сочувственно». Я тогда не имел понятия о том, что написал он в этой речи. И теперь не знаю. Я не читал её. И разговор наш вовсе не касался её содержания. «Я хвалю в ней Аксакова» — только по этим его словам я узнал о её содержании. И мне не было никакого дела до него. Я вёл разговор исключительно о несчастной фантазии бедного чудака, будто бы Ты, Утин и Спасович интриговали против него. — Далее, он говорит, что я «и вообще не был врагом славянофилов». [758] Мне случалось и раньше этого читать о себе, что я не разделял вражды крайних западников к славянофилам. Толковать об этом я не имею теперь досуга. Замечу только, что славянофильство казалось мне тогда глупостью и пошлостью более глупою и пошлою, чем какою казалось и самым крайним западникам. В западничестве были кое-какие элементы родства с славянофильством. В моём образе мыслей этих элементов не было. — Каждое ли слово в Куране — мерзко? Но в нём есть добрые мысли, честные мысли. Но они попали в Куран лишь потому, что Мухаммед — всё-таки был человек, живший среди людей, слышавший и добрые, честные мысли, которых невозможно не слышать, когда живешь не в лесу между хищными зверями, а в человеческом обществе, и не мог не покоряться кое в чём и влиянию мыслей честных, добрых людей. Но всё, чем отличается Куран от произведений арабской письменности, до-Мухаммеданского времени,— всё, безусловно всё в нём по моему мнению или глупость или мерзость. Многие ли из самых горячих врагов мухаммеданства думают о Куране так? — Такова же разница между западническими и моими понятиями о славянофильстве.
Однако ж, пора вернуться к воспоминаниям о бедном больном чудаке, моём бывшем приятеле, начавшем бегать от меня после разговора об интриге «Утина, Пыпина и» — не «Стасюлевича», а Спасовича.
Я нимало не изменил своего мнения о нём после этого разговора. Я и прежде знал его жалкие слабости. Когда я виделся с ним, я говорил с ним по прежнему. Но он робел, ему было тяжело. Скоро мы стали встречаться лишь случайно. И встречались редко.
Рассказав, что после беды, постигшей Павлова[555], студенты хотели прекратить лекции, а он не соглашался, подвергался за это обидам, но оставался твёрд в своём намерении продолжать читать свои лекции, он говорит: «Наконец, ко мне приехал Чернышевский[556] и стал умаливать меня не читать, чуть ли не на коленях упрашивал, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня. Я стоял на своем, говоря, что не могу отступиться от своего слова» (то есть от заявления, что будет продолжать читать лекции). — „Вы можете сослаться на то, что это слово было опрометчивое, данное в раздражении“. — Я не уступал. „Ну, так по крайней мере, поезжайте к Головнину и просите, чтобы вам запретили читать“. — „Не могу и этого сделать: я сам хлопотал о разрешении лекций“. — „Ну, так я поеду. Дайте мне которое-нибудь из писем, где вам угрожают скандалом“. — Я дал письмо, в котором мне угрожали 200-ми свистков и где, между прочим, было сказано: „Смотрите, вас вынесут насильно, читать не будете“. — Чернышевский сам съездил к Суворову и к Головнину и устроил дело так, что мне запретили читать лекции».
В этом рассказе есть несколько ошибок. [759]
«Чернышевский умаливал меня не читать». Тон разговора был вовсе не такой.
«Чернышевский умаливал меня, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня». Ничего подобного я не говорил; если б я полагал, что «студенты хотят устроить демонстрацию», я, прежде, нежели ехать к кому бы то ни было с какими бы то ни было предложениями ли, советами ли, поехал бы в заседание комитета студентов, заведывавшего теми курсами, которые были теперь прекращены по решению самого же этого комитета студентов. Он, комитет студентов, решил прекратить лекции; он; те профессора, которые читали лекции, могли и сами считать это надобным; быть может, некоторые из них сами подняли бы вопрос об этом на каком-нибудь собрании профессоров; и быть может, большинство профессоров по собственной инициативе решило бы прекратить чтение лекций; очень может быть; но те из них, которые могли иметь мысль поднять вопрос об этом,— если были такие, то — опоздали взять на себя инициативу. Комитет студентов[557] уж решил, что необходимо прекратить лекции. Профессорам оставалось только согласиться с решением студентов или действовать наперекор ему. — Итак, инициатива решения, принятого профессорами и студентами, принадлежала студентам. Почему они пришли к убеждению, что лекции надобно прекратить? — Потому, что на лекциях происходили бы демонстрации. Комитет студентов не хотел демонстраций; если б он хотел их, ему стоило бы только не прекращать лекций,— и демонстрации происходили бы неизбежно, хотя бы ни один студент не принимал участия в них. На лекциях бывала публика. Публика не считала, разумеется, надобным подчинять себя студентам. Демонстрировало бы огромное большинство публики. Остановить его было бы невозможно никакими усилиями студентов. Потому-то Комитет студентов и нашёл надобным прекратить лекции. — Ты не читал тогда лекций. С другими профессорами я виделся в это время редко. Потому, о их мыслях я знал мало. Но тех членов Комитета студентов, которые были в нём руководящими людьми, я видел в те дни часто. И хотя наше знакомство было ещё недавнее, я хорошо знал их. Это были люди очень умные и очень благородные. Помимо их намерений, ни один из членов Комитета не захотел бы высказывать каких-нибудь советов студентам. Не говорю уж о том, что постановления Комитета вполне соответствовали их намерениям: они были руководителями его; большинство было всегда за них, без того я и не называл бы их руководителями. Ни один из студентов, сколько-нибудь уважаемый товарищами, не отказывался сообразовать свои поступки с решениями Комитета. Потому, очень неудачно составлено выражение, которое Костомаров приписывает мне: «студенты хотят побить» его. Ничего подобного намерению «побить» кого бы то ни было не могли иметь «студенты». — И нет ни малейшего сомнения в том, что если бы какой-нибудь посторонний студентам человек поднял [760] руку на Костомарова, то «студенты», хоть и не сочувствовали тогда ему, защитили б его; как защитили б и самого злобного, самого презренного из своих врагов.
Далее, по рассказу Костомарова, я говорю ему: «Поезжайте к Головнину и просите его, чтобы вам запретили читать». Ничего подобного я ему не говорил.
Далее: он отказывается ехать к Головнину; — не мог не отказываться, разумеется, когда не было ему предлагаемо это; но так как он отказался, то я говорю: «Ну так я поеду. Дайте мне которое-нибудь из писем, в которых вам угрожают скандалом». Я дал письмо, в котором» и т. д. — Никакого письма он мне не давал. Ничего подобного тому, чтоб он дал мне письмо, я ему не говорил. Никакого письма он мне и не показывал. Потому, я даже не знаю, действительно ли были у него тогда какие-нибудь угрожающие письма, или они только стали грезиться его больному воображению впоследствии времени. Может быть, и были; мало ли случается получать угрожающих писем людям в тревожные времена? Но если и были, действительно, присылаемы ему какие-нибудь письма с угрозами, то уж, конечно, нельзя было бы заподозрить в авторстве их никого из членов студенческого Комитета и никого из студентов, сколько-нибудь уважаемых товарищами. Если были они, то писаны они были кем-нибудь из людей посторонних и Комитету и всем тем студентам, представителем которых был Комитет, то-есть огромному большинству студентов. Но — я не видел ни одного такого письма.
«Чернышевский съездил к Суворову и к Головнину». К Суворову я не ездил. И не говорил Костомарову, что поеду к нему. Не зачем было ехать к нему. Для того, чтобы запретить лекции, достаточно было власти у самого Головнина. Ни в чьем согласии на это Головнин не нуждался.
Итак, приходится мне самому рассказать об этом моём разговоре с Костомаровым, потому что из его рассказа остаётся, по устранении его ошибок, не очень-то много.
Студенты не хотели демонстраций. Мне было известно это. На лекции Костомарова произошла бы, помимо воли студентов, демонстрация. Это было известно всякому, желавшему знать. Было известно и правительству. Намерения правительства мне не были известны. Но я имел случай убедиться, что оно не желает быть принуждено производить аресты. А демонстрация поставила б его, по его мнению, в необходимость принять меры подавляющего характера. Я решил, что если Костомаров не откажется от своего намерения продолжать чтение лекций, то надобно попросить Головнина запретить ему чтение. Я не могу сказать, что я был знаком с Головниным; — нет, я был человек не достаточно важный для того, чтобы быть с людьми в положении Головнина на правах знакомства. Но мне случалось несколько раз быть у Головнина. Каждый раз, когда я приходил к нему, он принимал меня и терпеливо выслушивал то, что я говорил ему. Я надеялся, [761] что и на этот раз он не откажется принять и выслушать меня.
Но будет ли неизбежно мне просить его о запрещении Костомарову читать? — Запрещать, это было не по душе Головнину. Быть может, у Костомарова достанет рассудка избавить его от этой неприятности, а себя от стыда, в который он залез своим упрямством. Надежды было мало. Но надобно ж было попробовать.
Я уж не был в это время знаком с Костомаровым. Он дичился, робел, когда видел меня. Мне надоело это. И довольно давно мне уж не случалось встречаться с ним. Тем меньше мог я не попытаться теперь урезонить его: быть может, он рассудит, что когда я, не имевший желания возобновлять знакомство с ним, зашёл к нему дать совет, то значит дело не может кончиться его отказом принять мой совет; вероятно я поведу дело по-своему, если он не уступит. Прямо с этого я и начал, как вошёл в комнату: «Здравствуйте, Николай Иванович; мы давно не видимся; и разумеется, если я зашёл к вам, то считаю важным дело, о котором хочу поговорить с вами. Вы хотите читать лекцию. Будет демонстрация. Наперекор воле студентов будет. Они не хотят обидеть вас. Но большинство публики осуждает вас. И вы будете преданы позору публикою». — И так дальше, в этом роде. — «Вы имеете заслуги. Не позорьте себя». — Я говорил долго. — Он отвечал, что он будет читать. — Тогда я стал говорить точнее прежнего о том, какую роль хочет он разыграть. — «Результатом демонстрации будут аресты, процессы, ссылки. Люди, которые устраивают такие происшествия, какие нужны для принятия репрессивных мер,— это агенты-провокаторы. Не берите на себя роль агента-провокатора». На тему «агент-провокатор» я говорил долго. — «Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу»,— отвечал он. «Студенты объявили, что лекции прекращаются. Это деспотизм. Не подчинюсь деспотизму». На этом пункте засела его мысль, и никакими резонами нельзя было стащить её с этой умной позиции. — «Не о деспотизме тут дело, а об арестах и ссылках тех людей, которые кажутся вам поступившими деспотически. Демонстрировать будут не они, а в ответе за демонстрацию будут они. Они погибнут, если вы будете читать лекцию». — Он твердил свое: «Это деспотизм; не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу». — «Хотите губить сотни честных людей?» — Твердил своё одно и то же: «Не хочу подчиняться» и т. д. — «В таком случае, скажу вам: от вас я еду к Головнину просить его, чтоб он запретил вам читать». — «Это деспотизм!» — «Думайте об этом, как вам угодно; но знайте: читать лекцию вы не будете ни в каком случае. То лучше скажите, что не хотите. Этим вы избавите ваше имя от позора. Не будьте человеком, которому запрещено играть роль агента-провокатора; откажитесь от неё сам». — «Нет, буду читать». — «Нет, не будете. Головнин запретит». — «Не запретит». — «Говорю вам: запретит». — «Почему запретит?» — «Он не захочет, чтобы произошли аресты и ссылки, [762] когда от него зависит предотвратить их». — «Не запретит!» — Уперся на том, что Головнин не запретит — и баста! — не собьешь его и с этой позиции. — Я посмотрел на часы. Тянуть разговор дольше было нельзя; иначе я не застал бы Головнина. «Кончим, Николай Иванович. Если вы остаетесь при своём намерении читать, то мне пора ехать. Иначе, не застану Головнина». — «Не запретит». — «Запретит. Откажитесь лучше сам». — «Не запретит». — «Будьте здоровы». — «Не запретит!» — Я пошёл; он, провожая меня, всё твердил свое: «Не запретит!»
«Не запретит!» — слышу я, затворяя дверь. Это и были последние слова, которые слышал я от бедного чудака.
Вхожу к Головнину. — «Я пришёл просить вас о том, чтобы вы запретили Костомарову продолжать чтение лекций». — «Вы думаете, что надобно запретить? Почему вы так думаете?» — Я стал говорить: студенты не сделают демонстрации, но публика сделает; это будет иметь своим последствием аресты. Я говорил подробно. Головнин по временам делал вопросы: «Вы говорите вот что; почему вы так думаете?» — Я отвечал, почему, и продолжал. И говорил, говорил, говорил. Это было долго, очень долго. Больше часа, наверное. Итак, я говорил; Головнин делал по временам коротенькие вопросы, слушал; и я говорил, говорил,— и наконец, договорил и остановился.
«Вы высказали всё?» — «Всё». — «Я совершенно разделяю ваше мнение. И я уже сделал распоряжение о запрещении лекций Костомарова». — «Это было тяжело вам, я уверен; но тем больше приобрели вы права на признательность рассудительных людей», сказал я и встал, простился.
Зачем же он не сказал этого с самого начала? Зачем дал мне рассуждать и рассуждать? Понятно: у него был в это время досуг, и он хотел подшутить над непрошенным советником. И подшутил, очень ловко, умно и мило.
Это было часа в два, в три дня.
Вечером, часов в восемь, подают мне письмо[558]. — Беру — по адресу вижу: от Костомарова. Читаю: «Через час или два после того, как вы ушли, мне принесли бумагу, запрещающую мне читать. О, как раскаиваюсь я в том, что не отказался сам!» — в этом роде, всё письмо довольно большое.
Соображая время, когда Костомаров получил бумагу, я видел, что распоряжение о запрещении ему читать действительно было сделано до моего приезда к Головнину и что Головнин действительно имел полное право подшутить надо мною.
Вот нашёлся у меня досуг продолжать передачу Тебе моих воспоминаний о Н. И. Костомарове. Прежде всего расскажу, что знаю и что думаю о том эпизоде его жизни, о котором в частности спрашиваешь Ты,— о его отношениях к Наталье Дмитриевне Ступиной[559].
Я знаю только по его рассказам. Его рассказы мне о них делятся на два класса. [763]
До сцены у ворот дома Ступиных я слышал от Костомарова о Наталье Дмитриевне лишь изредка. Это были общие, краткие очерки их отношений. Сначала он хвалил Наталью Дмитриевну, говорил, что она очень умная и благородная девушка. Я очень мало знал её; собственно говоря, вовсе не знал. Я видел её очень редко, и то лишь мельком. Ровно никакого мнения, ни хорошего, ни дурного, ни об уме её, ни о характере я не имел. Она была совершенно чужой мне человек, слушать о котором я не видел надобности. При первой паузе Костомарова я начинал говорить о чём-нибудь другом. Потому его рассказы оставались кратки и вероятно потому же были редки. — Через несколько времени он стал говорить о ней с ожесточением: она — навязчивая девушка; он прекратил знакомство с ней; она пишет ему письма, он возвращает их ей. По прежнему я не видел надобности слушать. Если она дурная девушка, то теперь он безопасен от неё. И как прежде похвалы, так теперь порицания ей я слушал молча до первой паузы и при первой паузе начинал говорить о чём-нибудь другом. Потому и они оставались кратки и вероятно потому же были тоже редки. — Содержанию этих кратких рассказов Костомарова соответствует, отчасти совпадая, отчасти не совпадая с ними, то, что рассказывает он об этой, как он называет её, истории своей любви в своей «Автобиографии» («Русская мысль», 1885, июнь, стран. 23) до слов «она писала мне письма, я возвращал их».
Когда случилась сцена у ворот дома Ступиных, Костомаров прямо оттуда пришёл ко мне рассказать, что случилось. Дело, которое считал я утратившим важность, оказалось получившим очень серьёзный оборот. Если он полагает, что ему нужна поддержка, то я обязан слушать, видел я. Я слушал, и мы долго разговаривали. С этого дня он каждый день рассказывал мне о дальнейшем ходе дела, до окончательной развязки его. Содержанию этих подробных, шедших день за день рассказов соответствуют в «Автобиографии» странные слова: «а потом» и т. д. Переписываю их вместе с предыдущими, необходимыми для полноты смысла:
(«Она писала мне письма, я возвращал их), а потом, одумавшись, хотел было примириться с нею, но узнал, что уже поздно, и она утешилась».
До сцены у ворот он не думал о примирении. Это он говорил мне. Притом, если б он думал тогда о примирении, не могла бы произойти сцена у ворот.
«А потом одумавшись» — то есть через несколько недель, вероятно, или, по крайней мере, дней? — или хоть через несколько часов?
Когда он вбежал ко мне, первым его словом было восклицание: «Женюсь!» — От ворот дома Ступиных до нашего дома будет ли верста? Сколько времени нужно, чтобы торопливым шагом перейти это расстояние? Он вбежал ко мне взволнованный. Это он называет: «а потом одумавшись». [764]
«Хотел было примириться с нею» — то есть, вероятно, простить ей её двоедушие, её навязчивость?
Он просил прощения у неё и упрашивал её согласиться стать его женою.
«Хотел было примириться с нею, но узнал, что уже поздно»; «узнал» — то есть, от посторонних; так по ходу речи.
«Узнал, что уже поздно, и она утешилась» — то есть, что она уж успела обзавестись новым поклонником; вероятно так; таков смысл слова «утешилась» в разговорах о разрыве отношений между мужчиною и женщиною.
На его просьбы она отвечала ему, что прощает его, но быть его женою не может. Это он называет «узнал, что уже поздно, и она утешилась».
Но быть может он не заметил, что такое говорит он словами «она утешилась», быть может он хотел сказать только, что она не мучилась душою, когда он вздумал было «примириться» с нею? — Пусть так. Но и этого не мог он сказать, не отдавая своему желанию думать так предпочтения перед фактом, известным ему. Ему было известно, каково было состояние её души в эти дни. её положение в кругу знакомых было невыносимо. Она уехала из Саратова как только могла скорее. Он знал это.
Ясно, какого доверия заслуживает то, что рассказывает он в своей «Автобиографии» о своих отношениях к Наталье Дмитриевне. Какой характер имели его рассказы мне об этом деле? — Приведу один пример.
Решившись просить руки Натальи Дмитриевны, он сказал матери, что хочет жениться. Татьяна Петровна была рада. Я знал это по разговорам с нею и без него, и при нём. И при нём. Мешало ль это ему уверять меня, что она противится его браку? — Нисколько не мешало. Напрасно я убеждал его перестать говорить противоположное тому, что мы оба знаем; он твердил свое: «мать несогласна». А когда получил отказ, то стал делать сцены матери. «Это вы расстроили свадьбу! Вы отняли у меня счастье!» — Это при мне, знающем правду. Я урезонивал его не говорить при мне этой неправды; он, нимало не смущаясь, продолжал бегать по комнате и кричать: «Это вы, маменька, виновата! Вы отняли у меня счастье!»
Я полагаю, что рассказываемое им в «Автобиографии» о его отношениях к Наталье Дмитриевне до слов «она писала мне письма, я возвращал их» не заслуживает ни малейшего доверия. Заслуживают ли доверия его рассказы мне о том, что было до сцены у ворот? — Тоже не заслуживают, само собою ясно. — В его подробных рассказах о дальнейшем ходе дела я мог очищать истину от фантастической примеси: они были подробны; они шли день за день; я расспрашивал и переспрашивал его. Но в тех кратких, общих очерках, которые изредка делал он и которые прекращал я при первой его паузе, я не могу различить, что в них правда, что фантазия. [765]
Я говорил, что их содержание отчасти совпадает, отчасти не совпадает с рассказом его в «Автобиографии». Некоторые черты одинаковы; другие существенно различны.
Одинаковы, собственно, лишь начало и конец; я цитирую эти черты из «Автобиографии»:
«Я смотрел на наши отношения, как на чисто дружеские» — начало; конец: «Мы разошлись. Она писала мне письма, я возвращал их».
Это достоверно. Не потому достоверно, что одинаково в «Автобиографии» и в рассказах, слышанных мною: одинаковость ещё ничего не доказывала бы, при его склонности твёрдо верить в свои фантазии; но потому достоверно, что само собою ясно из дальнейшего, известного мне хода дела.
Была дружба; она кончилась разрывом потому, что были попытки превратить её в любовь. После разрыва он получал письма, на которые не отвечал; это было, потому что без этого не могла бы произойти сцена у ворот.
Но всё то, что находится в «Автобиографии» между переписанными мною здесь словами, я считаю рассказанным фантастически. Почти всё это рассказывал он и мне; но или не в том порядке, или не совсем так, или вовсе не так.
Приведу один пример. В «Автобиографии» он говорит:
(«Я смотрел на наши отношения, как на чисто дружеские), рассказывал ей о моей невесте, как вдруг неожиданно получаю от неё письмо, где она признается мне в любви. Я ответил ей холодным письмом» и т. д.
Он говорил мне об этом её письме; он приводил мне и самые слова, которыми она, по его выражению в «Автобиографии», признавалась ему в любви. Он несколько раз повторял мне эти слова, всегда одинаково; и я помню их.
Я полагаю, что это письмо её — факт, а не фантазия; полагаю, что и слова из него, которые приводил он мне, были приводимы им верно. Не знаю; быть может и ошибаюсь в этом моём предположении; но полагаю так.
Итак, положим, это её письмо факт. — Но, во-первых, когда оно было написано ею? — Во-вторых, верно ли передается характер факта выражением, что она написала ему «признание в любви»?
По «Автобиографии», оно было написано раньше, нежели невеста Костомарова вышла замуж. По его рассказам мне, позднее отъезда «одинокого старика C.», который «хотел посвататься» к Наталье Дмитриевне. А это было гораздо позднее получения Костомаровым известия о замужестве его невесты, по его рассказу в «Автобиографии».
От этой разницы выходит непримиримое противоречие между «Автобиографиею» и слышанными мною рассказами: весь ход дела от начала отношений, характеризуемого словами «чисто дружеские», до ссоры, о которой он говорит: «прав ли я был, или нет, не знаю» — оказывается имевшим иной порядок, и вся мотивировка [766] этих (действительных ли, или мнимых) фактов оказывается не та.
Но пусть это письмо было написано до замужества невесты Костомарова. По тем словам, которые приводил он мне из него, ясно, что оно было ответом Натальи Дмитриевны на слова Костомарова, не «признанием в любви» к нему, а выражением согласия принять его любовь. Вот слова, которые он приводил мне:
«Я буду путеводною звездою вашей жизни».
Ясно, этому предшествовали с его стороны жалобы ей на то, что у него нет «путеводной звезды». Вероятно, он толковал о том, что его сердце разбито (потерею невесты; она ещё не вышла замуж, но он уже считал себя утратившим её; об этом после). Сердце разбито, нет цели жизни, некого любить и т. д., и т. д.; это он говорил наедине с девушкою; и не замечал, какой смысл имеют эти жалобы мужчины, излагающего их девушке в разговоре наедине с нею. Он не догадывался, что они в таких разговорах значат: «пожалей меня, полюби меня». — Напрашивался на любовь, получил ответ и — изумился: «вдруг неожиданно получаю» и т. д. А не следовало б изумиться. Если девушка долго слушает такие жалобы, не уклоняется от знакомства, то надобно ожидать, что она согласится принять любовь. А она слушала долго; времени было достаточно: по крайней мере за полгода,— а по его счёту, больше чем за полгода до замужества своей невесты он уже считал себя утратившим её, это я знаю, потому что это он говорил мне с самого начала моего знакомства с ним.
Он познакомился со мною «в начале 1851 года» («Автобиография», стран. 24). Точнее говоря, не в начале года, а в начале весны[560]. Когда я ехал в Саратов, вскрывались реки. Я познакомился с Костомаровым скоро после приезда. Вероятно, в апреле. Его невеста вышла замуж в конце 1851 года («Автобиография», стран. 22). Возможно ли полагать, что он не начал говорить Наталье Дмитриевне о утрате невесты по крайней мере с того же времени, как стал слышать об этом от него я? — Знакомство с Натальею [Дмитриевною] началось, по его словам, раньше: «еще в 1850 году», говорит он в «Автобиографии».
Итак, я полагаю: он пускался в разговорах (или в переписке) с Натальею Дмитриевною в жалобы, значения которых в подобных разговорах (или переписках) не замечал. И получил на них ответ, сообразный с тем значением, какое они имеют в подобных случаях.
Но это лишь предположение. И я высказываю его лишь для примера. Я хотел этим примером объяснить мои слова: кроме фактов, что была дружба и по произведённом чьею-то — его или её не знаю — попыткою превратить дружбу в любовь разрыве знакомства Наталья Дмитриевна писала письма, нет в рассказах его мне ничего такого, что не находилось бы в противоречии с чем-нибудь из рассказываемого им в «Автобиографии».
Но — и рассказы его мне фантастичны, как его рассказ в «Автобиографии». Я полагаю, что ни согласие, ни разноречие двух [767] фантастических источников не даёт прочного основания ни для каких заключений о том, в чём состояла фактическая истина. Потому, дав один пример постройки предположений на этом шатком основании, нахожу, что продолжать это было бы делом бесполезным. Ясно, что выводы получились бы не в пользу Костомарова. Но я предпочитаю думать, что сам он достаточно предостерег от доверия к дурным элементам своего фантазёрства в «Автобиографии». Он говорит о своих подозрениях: «Прав ли я был, или нет, не знаю», раньше того он делает оговорку, показывающую, как надобно, по его собственному понятию о своём характере, думать о его подозрениях: «мои подозрения, при моей крайней природной мнительности, дошли до крайней степени». — Мне кажется, что этими словами «при моей крайней природной мнительности» он с достаточною точностью определил, что такое его подозрения: продукт его характера.
Разумеется, я должен передать то, что слышал от него до сцены у ворот дома Ступиных о его отношениях к Наталье Дмитриевне. Но я говорил, что эти рассказы его мне фантастичны. Сущность их была такова:
Он был дружен с Натальею Дмитриевною. Он часто бывал у Ступиных. Наталья Дмитриевна попросила его перестать на некоторое время бывать у них, потому что её отец и мать предубеждены против него; когда их предубеждения рассеятся, тогда он и возобновит свои посещения. По этой её просьбе он перестал бывать у них. Но он и Наталья Дмитриевна продолжали видеться. И кроме того, что виделись, переписывались. Содержанием их переписки был обмен мыслей о поэзии, литературе, искусстве, о философских и научных вопросах. Но вот, читая её письма, начинавшиеся тоже изложением её мыслей об одном из обыкновенных предметов их переписки, он дочитался до того, что никак не ожидал прочесть: она писала ему, что будет путеводною звездою его жизни (дошедши до этого, он цитировал, повторяя несколько раз, подлинные, как он говорил, слова её письма; я приводил их в буквальном виде: «я буду путеводною звездою» и т. д. — Раза три он рассказывал мне об этом письме и при каждом рассказе по нескольку раз повторял эти слова). Он был удивлен. У него не было мысли о женитьбе на ней. Он отвечал ей письмом, в котором говорил, что не имел мысли о женитьбе на ней и что он прекращает знакомство с нею. Она присылала ему письма, он возвращал их ей.
Я должен был передать содержание его рассказов мне. И передал. Но я говорил: его рассказы мне фантастичны. Из того, что пересказал я, только первые два слова (о дружбе) и последние слова (она присылала ему письма, он возвращал их), я считаю, достоверны. Всё, что находится между ними — сказка, которой я полагаю, что какая-нибудь доля правды есть в ней; но что в ней правда, я не могу решить.
В мою краткую передачу его рассказов я не ввёл его подозрений. Это потому, что сам он в рассказах своих мне лишь вскользь упоминал о них и никакого значения не придавал им. Он толковал [768] лишь о том, что продолжать знакомство значило бы — стать её женихом, а у него не было мысли жениться на ней.
Я не передал похвал ей; само собою разумеется, что в первых его рассказах, предшествовавших его разрыву с нею, отзывы его о ней были похвалами, исполненными уважения. Но я имею надобность передавать лишь то, что было содержанием рассказов его в период его ожесточения против неё. Прежние его, панегирические, отзывы о ней были честные, искренние. Но он отбросил их из последующих рассказов. Потому отбросил и я из моего пересказа.
По «Автобиографии» он хотел жениться на Наталье Дмитриевне и говорил ей об этом; но она просила его подождать со сватовством. В рассказах мне он не упоминал об этом. Было ль это? — Может быть это было, и он только умалчивал мне об этом. — Или, быть может, он в «Автобиографии» перепутал порядок фактов, рассказал раньше разрыва, поставил причиною разрыва то, что было после сцены у ворот? — Быть может.
Итак, для меня достоверно лишь то, что у него была дружба с Натальею [Дмитриевною], что были какие-то попытки превратить дружбу в любовь, и из этих попыток произошёл разрыв. С чьей стороны были эти попытки, я не могу сказать достоверно и предпочитаю оставлять это в моих мыслях не решенным.
То, что буду говорить дальше, известно мне достоверно.
После разрыва знакомства с нею она писала ему. Он был раздражён этим. Встретив её у ворот её дома, он нанёс ей оскорбление. Она удалилась. Он пошёл ко мне. Пришёл уже с готовым решением просить её руки. Он хотел, чтобы разговоры со мною поддерживали в нём эту решимость. Разумеется, я соглашался с ним, что ему следует просить её руки. Он послал ей письмо, в котором просил её прощения и упрашивал её согласиться стать его женою. Она, отвечала ему, что прощает его, но быть его женою не может. Он продолжал упрашивать её. Это длилось несколько дней. Ему казалось, что она уступит его просьбам. Но кончилось тем, что она отвечала ему выражением своей непоколебимой решимости не быть его женою.
Таковы общие, совершенно достоверные черты хода дела. Расскажу теперь те подробности, которые твёрдо помню.
Это было в совершенно тёплое время года, когда окна бывают открыты с утра до ночи; то-есть, вероятно, не раньше мая и не позже августа (1852 года).
Однажды вечером я сидел у Костомарова. Тут был и ещё один из его знакомых, бывший и моим знакомым, Павел Дмитриевич Горбунов (младший брат Александра Дмитриевича Горбунова, о котором Костомаров упоминает в своей «Автобиографии»). Он ушёл раньше меня. Когда он ушёл, мы заметили, что он забыл свою палку. Она была суковатая.
На другой день, после обеда, я читал в моей комнате на мезонине. Мы обедали рано. После обеда прошло не очень много времени, когда я услышал быстрые шаги мужчины, всходящего по лестни[769]це на мезонин. Был, вероятно, второй час дня, около половины и несколько поближе к концу. — Я услышал шаги, только уж когда они были на последних ступенях лестницы, и пока я опускал книгу, в дверь комнаты вбежал Костомаров, с тою, забытою у него, палкою в руке, взволнованный, и останавливаясь на первом шаге от двери, воскликнул: «Женюсь!» — махнул палкою, толкнул её к соседнему с дверью углу и подошёл ко мне, только ещё встававшему с дивана,— так это было быстро. — Мы сели на диван, и он начал рассказывать, что такое случилось. — Он был взволнован; потому вставал, отходил на шаг и стоял, подходил опять к дивану и садился; но это было лишь то, как держит себя всякий взволнованный человек; обыкновенных эксцентричностей его волнения вовсе не было: он не бегал по комнате, не кричал. И рассказывал без эффектных выражений, совершенно просто. То-есть серьёзность его волнения была более глубокая, чем обыкновенно. — Вот сущность того, что он рассказал мне.
Он поехал (у него была лошадь) в ресторан (тогда был в Саратове какой-то ресторан) играть с Мелантовичем на бильярде. (Он в своей «Автобиографии» упоминает о Мелантовиче. Они — он и Мелантович — в это время почти каждый день сходились или съезжались в этом ресторане сыграть перед обедом несколько партий на бильярде. И он, и тем более Мелантович, человек с привычками богатого светского общества, обедали гораздо позднее, чем мы.) Отправляясь из дому, он взял с собою палку, забытую у него Горбуновым, думая занести ему её, когда пойдёт домой из ресторана. (Это было, действительно, по пути ему. Ресторан был где-то около Театральной площади или на ней; я не знал, где именно, но знал, что в тех местах. Его путь домой был мимо Архиерейского дома, через Бульвар, мимо дома — всё ещё остававшееся домом Хариной или уже принадлежавшего самой Анне Эльпидифоровне, жене А. Д. Горбунова? — где жил, при брате, Павел Дмитриевич.) Входя в ресторан, он отпустил лошадь. В ресторане ещё не было Мелантовича. Он подождал несколько минут, соскучился и вздумал сам сходить за Мелантовичем. Когда он подходил к дому Ступиных (действительно ли он шёл к Мелантовичу? — то-есть: действительно ли он не искал встречи с Натальею Дмитриевною? — Я считаю достоверным его уверение, что у него не было умысла искать встречи с нею. Где жил тогда Мелантович, я не знал. Но я не сомневался и теперь не сомневаюсь, что Костомаров действительно шёл к нему и не искал встречи с Наталиею Дмитриевною. — Порядок домов, мимо которых шёл он, был, по направлению его пути: Архиерейский дом; дом Сократа Евгеньевича; дом Ступиных; дом Мордовина; кажется, Мордовина? — большой, каменный. — Дом Ступиных стоял во дворе, в нескольких саженях от линии улицы; по улице были только забор и ворота этого дома. Ворота всегда были весь день отворены),— итак: когда он приближался к воротам дома Ступиных, он увидел идущую через тротуар перед этими воротами (не припомню, выходящую ль из ворот, или возвращающуюся [770] домой; но в том ли, в другом ли направлении, от бульвара ль к воротам, или от ворот к бульвару, переходящую через тротуар перед воротами своего дома) Наталью Дмитриевну. Одну. При виде её досада на неё вспыхнула в нём, и, мгновенно ускорив шаг, он стремительно подошёл к ней и громким голосом раздражения сказал: «Сударыня, избавьте меня от ваших писем». Когда он быстро подходил к ней, она оглянулась на стук шагов и остановилась было; но когда зазвучал раздражённым тоном его голос, она, при первых звуках, отступила на шаг от него, подступившего вовсе близко к ней; а когда он произносил последнее слово своей фразы, она ринулась вперёд; дело в том, что в эти секунды брат её, Михаил Дмитриевич (молодой человек; ростом выше Костомарова), шедший со двора в ворота или стоявший в воротах, бросился на Костомарова, поднимая кулаки; Костомаров размахнулся палкою ударить его по голове; но Наталья Дмитриевна, в этот миг ринувшаяся вперёд, простирая руки между братом и Костомаровым, оттолкнула брата, и палка, не достав его головы, ударила по голове Наталью Дмитриевну. Удар был по верхней части лба, над глазом; левым глазом, если не ошибаюсь. Брызнула кровь. Наталья Дмитриевна крепко охватила у плеча руку брата, хотевшего снова броситься на Костомарова, и пошла в ворота, принуждая брата идти с нею. А Костомаров пошёл ко мне.
Так рассказывал он мне.
Я полагаю, что в этом его рассказе не было фантазий. Он был в серьёзном глубоком волнении. Он был не в таком настроении духа, чтобы фантазировать. Могло быть одно: он мог смягчить свою роль. Она могла в действительности быть хуже, нежели в его рассказе. — У ворот дома Мордовина стояло несколько человек, как заметил он, когда шёл мимо: они хохотали, они тыкали пальцем по направлению к нему; потому он и заметил их. — Им должны были быть слышны его слова у соседних ворот: он говорил громко.
Были свидетели сцены и кроме них. Окна домов были открыты. У окон сидели люди. Этого он не видел. Но мне случилось слышать, что были люди, видевшие эту сцену из окон. Городская молва вообще мало доходила до меня. Но дошли и до меня отголоски молвы об этой сцене. Молва приписывала Костомарову роль ещё более грубую, чем та, которую играл он по его рассказу мне. Говорили, что он «гнался с палкою» за Натальею Дмитриевною; что он «ругал» её. — Я расположен думать, что это преувеличения, предпочитаю думать, что было лишь то, что рассказал он мне.
Когда он кончил рассказ, то стал говорить, что будет просить прощения у Натальи Дмитриевны и сделает предложение ей. Мне оставалось только сказать, что это решение хорошо, и говорить то, что могло поддержать его решимость. Я не имел никакого, ни хорошего, ни дурного мнения о характере Натальи Дмитриевны; я не знал её. Но теперь это было для меня всё равно. Я стал хвалить её, стал говорить, что брак с такою благородною девушкою будет счастьем для него. И сам он говорил так. [771]
Он в этом разговоре был рассудительным, серьёзным человеком. Сначала очень взволнованным, правда; но и с самого начала человеком, рассуждающим здраво. — Когда он бывал таким в следующие дни, то мать радовалась на него.
Но не всегда он бывал таким. Я уж говорил, какой вздор выдумал он о матери. Тогда надобно было спорить с ним. Мне приходилось спорить с ним.
Когда его переговоры с Натальею Дмитриевною кончились решительным отказом её продолжать их, я стал говорить ему, что Наталья Дмитриевна поступила благоразумно, отказавшись быть его женою: при болезненной капризности своего характера он был бы мучителем её и мучился бы сам. Мне казалось, что это помогает ему успокоиться. На него жаль было смотреть.
Разумеется, если б она, начав отказом, кончила согласием, то их брак был бы счастлив. Жене такого мужа надобно только быть хитрою лицемеркою — и муж будет в восторге от неё, ангела; она будет вертеть им, как ей угодно, и будет тоже счастлива. До сцены у ворот Наталья Дмитриевна могла не понимать характера Костомарова. После этой сцены — должна была понять. Если бы согласилась быть его женою, то знала бы, на что решается.
Но она отказалась. Когда так, то, значит, роль притворщицы не казалась привлекательна ей. А когда так, то мне было ясно, что брак её не был бы счастьем ни для Костомарова, ни для неё. — За её отказ я стал действительно уважать её.
Она была благородная девушка. Это я узнал в те дни, когда Костомаров упрашивал её быть его женою. Она держала себя благородно, великодушно. Я знаю это по его рассказам. По его собственным рассказам. Других сведений у меня нет никаких. Но и того, что рассказывал сам он, достаточно, чтобы сказать с полной достоверностью: она была благородною девушкою.
Я познакомился с Костомаровым вскоре после моего приезда в Саратов, как я уже говорил,— вероятно, в апреле (или, быть может, в мае) 1851 года. Знакомство началось, действительно, тем, что я приехал к нему, как он упоминает в «Автобиографии»; и действительно, мы виделись очень часто. Действительно, играли в шахматы (только напрасно он думает, что я «играл мастерски»; я играл, как тогда, так и после, до такой степени плохо, что хорошие игроки, попробовав сыграть со мною одну партию, не хотели играть больше: моя игра была так слаба, что не представляла занимательности для них. Костомаров тоже играл плохо; потому и мог находить, что я умею играть). Но «читали вместе» мы с ним разве лишь как-нибудь случайно какую-нибудь страницу, для подтверждения или опровержения какой-нибудь ссылки на какой-нибудь факт, сделанной кем-нибудь из нас в разговоре. Вероятно, бывали такие случаи; но если и бывали, то очень редко. А того, что в собственном смысле слова называется «читать вместе»,— никогда не [772] было. Мы «толковали», как выражается он; вот это действительно так; собственно в этом и состоял главный элемент наших отношений с ним: мы «толковали». Он говорит, что меня тогда «занимало славянство»; оно занимало его; меня не занимало; но он говорил о нём много и горячо; его идеал — федерация всех славянских племен — казался мне идеалом ошибочным, влечение к которому даёт результаты, вредные для русских, вредные и для других славян. Потому я спорил против мысли о славянской федерации в той форме, в какой желал этой федерации Костомаров. — Дальше он говорит, что я «изучал» тогда сербские песни. У меня был Вук Караджич, это правда; но едва ли я прочел хоть половину его. Я так мало читал его, что никогда не знал по-сербски сколько-нибудь порядочно. «Мелантович, человек поэтический и увлекающийся, недолюбливал» меня, по словам Костомарова. Я так мало видел Мелантовича, что не замечал, хорошего ли мнения обо мне он или дурного. Но прочитав эти слова в «Автобиографии», я увидел, что в самом деле он «недолюбливал» меня. Иначе он поддержал бы знакомство со мною; он был человек светский, он умел бы поддержать знакомство, если бы хотел; а оно расклеилось как-то; как именно, я и не замечал, по своему незнанию привычек Мелантовича; я полагал, что нам с ним не случается видеться, только и всего. Я с своей стороны был вовсе не прочь поддержать знакомство с ним; но — он был человек богатого светского общества, мне казалось, что в Саратове он живёт — для одинокого молодого человека скромных нравов, каким был, мне казалось, он — на широкую ногу. И я стеснялся навязываться на сближение с ним. А само собою сближение не устраивалось; только, казалось мне. Теперь вижу: не то, что сближение не устраивалось само собою, нет: он преднамеренно устранился от продолжения едва начавшегося знакомства со мною. Но, человек светский, сумел отстраниться деликатно. — Итак, я очень мало знал его. Но сколько я знал его, он казался мне очень хорошим человеком. И я всегда сохранил расположение думать о нём с симпатиею. — Костомаров продолжает: Мелантович называл (меня) сухим, самолюбивым (человеком); и «не мог простить отсутствие поэзии» во мне. Жаль, что Мелантович думал обо мне так; но это всё равно: он для меня остался навсегда симпатичным человеком. — Мелантович, по мнению Костомарова, едва ли ошибался в том, что у меня нет любви к поэзии или уменья понимать её, и рассказывает маленький анекдот: сидели мы с ним у окна, в мае; вид был прекрасный: Волга в разливе, горы, сады, зелень. — «Я совершенно увлёкся» (продолжает он). — И он стал хвалить вид и сказал: «Если освобожусь когда-нибудь, то пожалею это место». — А я на это отвечал: «Я не способен наслаждаться красотами природы». Я помню этот случай, и Костомаров пересказывает его совершенно верно. Дело только в том, что он хвалил «красоты природы» слишком долго, так что стало скучно слушать, и если бы не прекратить этих похвал, то он продолжал бы твердить их до глубокой ночи. Я отвечал шуткою, чтобы отвязаться от слушания [773] бесконечных повторений одного и того же. Но красоты природы были ещё очень сносны сравнительно с звездами. О звездах он чуть ли не целый год начинал говорить каждый раз, как виделся со мною, и каждый раз толковал без конца,— то-есть до конца преждевременного, производимого какою-нибудь моею шуткою вроде приводимого им ответа моего на похвалы красотам природы. Это была скука, которая была бы невыносима ни для какой из старинных девиц, охотниц смотреть на луну.
Обо мне кончено. Дальше идёт речь об Анне Никаноровне Пасхаловой. И по поводу Анны Никаноровны опять обо мне: я подсмеивался над их дружбою, и «вообще Чернышевский и Пасхалова не особенно долюбливали друг друга». — О том, что Мелантович недолюбливал меня, он, как и следует порядочному человеку, не говорил мне, потому что не было никакой надобности мне слышать это. Но об Анне Никаноровне я говорил с ним очень много и настойчиво; потому он имел право не умалчивать передо мною, что она «недолюбливает меня». Для меня было всё равно, хорошего ль она мнения обо мне или дурного. Мне казалось надобным не только «подсмеиваться» над их дружбою, но и очень серьёзным тоном доказывать ему, что ему следует помнить, к чему обязывает дружба. — Лично я мало знал тогда Анну Никаноровну. Но с нею — несколько раньше того — был дружен один из близких мне людей (Ты знаешь, мой друг, о ком я говорю). Потому, я был расположен думать о ней, как об очень хорошей женщине. — её домашние отношения были, как я слышала, тяжелы. Она была в полной зависимости от матери, у которой жила; муж обобрал её; у неё не оставалось ничего,— так я слышал. — её матери не нравилась её дружба с Костомаровым, слышал я; мне говорили, что мать стала обращаться с нею хуже прежнего по неудовольствию на её дружбу с Костомаровым. — Он соглашался, что всё это так. Он говорит в своей «Автобиографии», что он и Пасхалова «занимались астрономиею и даже лазали по чердакам, чтобы наблюдать звезды»; все «занятия» их астрономиею только в том и состояли, что они «наблюдали» звезды,— то-есть вовсе не «наблюдали» их, потому что не имели ни астрономических инструментов, хоть бы плохих, ни малейшего понятия о том, как надобно «наблюдать» звезды; вовсе не «наблюдали» звезды, а просто сидели и смотрели на них, твердя друг другу: «Как прекрасны звезды!» или, в частности, «как прекрасна эта звезда!» Некоторое время в особенности им нравилась Капелла; что-то долго твердил мне Костомаров о красоте Капеллы, которая, вот, и в прошлую ночь была удивительно хороша. — Мать сердилась на Анну Никаноровну за эти «занятия астрономиею»; и я доказывал Костомарову, что не должно ему «лазать по чердакам» с Анною Никаноровною, которая подвергается за это неприятностям от матери; пусть он лазит один, на свой чердак, Анна Никаноровна, если ей угодно, пусть тоже лазит, сколько ей угодно, на свой чердак; и вдвоем на один чердак пусть не лазят; я говорил ему, что виноват в этих дурачествах он один; что он из-за своего [774] дурачества пренебрегает серьёзными интересами Анны Никаноровны. — «Впоследствии, когда я увлёкся русскими народными песнями, мы вдвоем» — с Пасхаловою — «ходили по кабакам и записывали песни»,— продолжает он. — Могло это нравиться матери Анны Никаноровны? Как же мне было не порицать его за это? — Но, разумеется, я толковал с ним без всякого успеха.
Он имел упрямство больного человека.
Дальше он говорит о своём участии в «так называемом жидовском деле»[561]. Он рассказывает об этом гнусном процессе так, как будто обвинение против «жидов» имело серьёзные основания и — как знать? — пожалуй, было справедливо. Это был процесс гнусный. Так решил Сенат. Неужели ему было неизвестно решение Сената? Неужели и раньше того он не слышал, кто были обвинитель и обвинительница? — Они были мерзавец и мерзавка (павший до самого пошлого мошенничества образованный человек и пьяная, гадкая, промышлявшая развратом женщина). И всё в процессе против несчастных было таково. — Его участие в этом процессе — прискорбный эпизод его деятельности. Но он и не думал скорбеть о нём, когда диктовал свою «Автобиографию». — Этого, при всем моём знании его болезненных недостатков, я не ожидал от него. Я думал, он жалеет и стыдится.
Да, когда он диктовал свою «Автобиографию»,— он был человеком ещё более больным душою, чем каков он был, когда я знал [его].
Но он был уж очень больной духом человек и в то время, когда я познакомился с ним.
И физическое его здоровье было уж очень расстроено. Кроме нервных страданий, у него тогда не было никакой болезни. Ему воображалось, что он болен физически. Это была фантазия его больного воображения, только. Но он, не слушая порядочных медиков, смеявшихся над его мнимою болезнью и советовавших ему бросить мысль о ней, лечился всё время, которое прожил я тогда в Саратове. Он находил медиков, соглашавшихся переписывать и подписывать своим именем рецепты, которые он выбирал для себя из медицинских книг или составлял сам. И он глотал вредные для него, сильно действующие лекарства. Нервные страдания и эти лекарства уже сделали его хилым, когда я познакомился с ним. — Мне казалось, что в Петербурге, в те годы, которые жил он там до прекращения моего знакомства с ним, он был менее хил, нежели каким я знал его в Саратове. — О его медицинских проделках над собою много было у нас с ним разговоров. Разумеется, ни постоянные насмешки мои, ни очень частые серьёзные урезонивания не помогали: он и хохотал над собою, но продолжал изнурять себя вредным леченьем от несуществовавшей болезни.
Я смотрел на него, как на человека, больного душою. Потому извинял ему и такие дурные эксцентричности, как дикая сцена у ворот дома Ступиных, и то, что он был мучителем своей матери, превосходной женщины. [775]
И не всё ж он только капризничал и безрассудствовал. И не со всеми ж он держал себя так нехорошо, как относительно Натальи Дмитриевны. — Сколько я мог судить, большинство его знакомых не имели причин быть недовольны его обращением с ними.
Относительно меня он держал себя так, что я никогда не имел ни малейшего личного неудовольствия против него. А мы виделись очень часто; временами по целым месяцам каждый день, и почти каждый день просиживали вместе долго. И однако же ни одного раза не встретилось мне никакого повода к личному неудовольствию против него. Я часто раздражал его серьёзными порицаниями; ещё чаще, несравненно чаще, или насмешками, или неловкими шутками. Но и в минуты раздражения он держал себя со мною безукоризненно: говорил, что ему больно или обидно, но говорил безукоризненно хорошо.
Мое знакомство с ним было знакомство человека, любящего говорить об учёных и тому подобных не личных, а общих вопросах с человеком учёным и имеющим честный образ мыслей. Мой образ мыслей был в начале моего знакомства с ним уж довольно давно установившимся. И его образ мыслей я нашёл тоже уж твёрдым. Потому, если мы думали о каком-нибудь вопросе неодинаково, то спор мог идти бесконечно, не приводя к соглашению. Были вопросы, о которых и шли бесконечные споры. Но в те времена в России было между учёными мало людей, в образ мыслей которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе мыслей Костомарова они были. На этом было основано моё расположение к нему.
Попробую разъяснить двумя-тремя примерами, в чём состояла симпатичность его образа мыслей мне и в чём была разница между его и моими решениями вопросов.
Он в те годы ещё оставался очень горячим приверженцем мысли о федерации славянских племен. Я был заинтересован судьбою славянских племен, живущих за границею русского государства,— или выражусь яснее: судьбою болгар, сербов, словаков и живущих далее на запад — ровно столько же, как судьбою греков, албанцев и других некрупных европейских народов, не живущих в России; ровно столько же, ни меньше, ни больше. Потому, о чехах лично я был так же мало расположен вести частые или длинные разговоры, как о датчанах, о сербах так же мало, как о бретонцах, то-есть ещё гораздо меньше, нежели о чехах. Но он любил говорить о них,— не о каком-нибудь из этих славянских племен в частности, а обо всех вместе со всеми другими славянскими народами или племенами, о федерации, которая охватывала бы всех. Эта федерация была бы, как мне казалось тогда (и кажется теперь), вредна для всей Европы и в частности гибельна для каждого из славянских племен, начиная с того, к которому принадлежу я, и кончая хоть бы кашубами или лужичанами. Потому идея о федерации всех славянских племен была тогда (и остаётся теперь) ненавистна мне. И мы с Костомаровым спорили о ней очень часто. Но, желая того, что, по моему мнению, было бы гибельно, например, для кроатов, [776] он желал этого по чистой, безоговорочной и чуждой всяких — например, малорусских — эгоистических расчётов, бескорыстной любви к кроатам. — Ему кроаты были очень интересны или милы, как одно из подразделений одного из славянских племен. Мне они были не интереснее и не милее, чем калабрийцы. Но я желал добра и кроатам, как желал калабрийцам. И отсутствие малорусских или каких других не-кроатских племенных эгоистических мотивов в мыслях Костомарова о кроатах было симпатично мне. Это составляла разницу между его идеями и идеями славянофилов. Географический характер построения — один и тот же; но мотивы географического построения у него были не те, как у славянофилов.
Я хотел привести два-три примера. Вижу, довольно и одного. — Таких спорных вопросов, подымаемых Костомаровым, было много. И я спорил, потому что это интересовало его. — Но обо многом судил он, по моему мнению, или совершенно правильно, или несравненно правильнее, чем большинство тогдашних русских учёных[562].
№ 6. Мои свидания с Ф. М. Достоевским[563]
Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить всё необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Фёдор Михайлович, я исполню ваше желание». — Он схватил меня за руку, тискал её, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город. Заметив через не[777]сколько минут, что порыв чувства уже утомляет его нервы и делает их способными успокоиться, я спросил моего гостя о первом попавшемся мне на мысль постороннем его болезненному увлечению и с тем вместе интересном для него деле, как велят поступать в подобных случаях медики. Я спросил его, в каком положении находятся денежные обстоятельства издаваемого им журнала, покрываются ли расходы, возникает ли возможность начать уплату долгов, которыми журнал обременил брата его, Михаила Михайловича, можно ли ему и Михаилу Михайловичу надеяться, что журнал будет кормить их. Он стал отвечать на данную ему тему, забыв прежнюю; я дал ему говорить о делах его журнала, сколько угодно. Он рассказывал очень долго, вероятно часа два. Я мало слушал, но делал вид, что слушаю. Устав говорить, он вспомнил, что сидит у меня много времени, вынул часы, сказал, что и сам запоздал к чтению корректур и вероятно задержал меня, встал, простился. Я пошёл проводить его до двери, отвечая, что меня он не задержал, что правда я всегда занят делом, но и всегда имею свободу отложить дело и на час и на два. С этими словами я раскланялся с ним, уходившим в дверь.
Через неделю или полторы зашёл ко мне незнакомый человек скромного и почтенного вида. Отрекомендовавшись и, по моему приглашению, усевшись, он сказал, что думает издать книгу для чтения малообразованным, но любознательным людям, не имеющим много денег; это будет нечто вроде хрестоматии для взрослых; вынул два или три листа и попросил меня прочесть их. Это было оглавление его предполагаемой книги. Взглянув на три, четыре строки первой, потом четвёртой или пятой страниц, я сказал ему, что читать бесполезно: по строкам, попавшимся мне на глаза, достаточно ясно, что подбор сделан человеком, хорошо понявшим, каков должен быть состав хрестоматии для взрослых, прекрасно знающим нашу беллетристику и популярную научную литературу, что никаких поправок или пополнений не нужно ему слышать от меня. Он сказал на это, что в таком случае есть у него другая просьба: он человек, чуждый литературному миру, незнакомый ни с одним литератором; он просит меня, если это не представляет мне особого труда, выпросить у авторов выбранных им для его книги отрывков дозволения воспользоваться ими. Цена книги была назначена очень дешёвая, только покрывающая издержки издания при распродаже всех экземпляров. Потому я сказал моему гостю, что ручаюсь ему за согласие почти всех литераторов, отрывки из которых он берёт, и при случае скажу тем, с кем видаюсь, что дал от их имени согласие, а с теми, о ком не знаю вперёд, одобрят ли они согласие, данное за них, я безотлагательно поговорю и прошу его пожаловать ко мне за их ответом дня через два. Сказав это, я просмотрел имена авторов в оглавлении, нашёл в них только одного такого, в согласии которого не мог быть уверен без разговора с ним; это был Ф. М. Достоевский. Я выписал из оглавления книги, какие отрывки его рассказов предполагается взять, и на следую[778]щее утро отправился к нему с этой запиской, рассказал ему, в чём дело, попросил его согласия. Он охотно дал. Просидев у него, сколько требовала учтивость, вероятно больше пяти минут и наверное меньше четверти часа, я простился. Разговор в эти минуты, по получении его согласия, был ничтожный; кажется, он хвалил своего брата Михаила Михайловича и своего сотрудника г. Страхова; наверное, он говорил что-то в этом роде; я слушал, не противоречил, не выражал одобрения. Дав хозяину кончить начатую тему разговора, я пожелал его журналу успеха, простился и ушёл.
Это были два единственные случая, когда я виделся с Ф. М. Достоевским.
Н. Чернышевский.
26 мая [18]88[г.] Астрахань. [779]
Текстологический и библиографический комментарий[565]
Дневники
7 июля 1862 г. Н. Г. Чернышевский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Десять дней спустя был тщательно обыскан его кабинет, опечатанный при аресте, причём были изъяты, как отмечено в акте обыска, «восемь запрещенных книг, три пакета с письмами и тетрадь, писанная стенографическим способом», а также несколько полосок картона с цифрами от 1 до 33 на каждой полоске и буквами против каждой цифры. Тетрадь эта вместе с картонными полосками, принятыми за ключ к шифру, была отослана для расшифровки в министерство иностранных дел. 10 августа товарищ министра иностранных дел Муханов уведомил управляющего III отделением ген. Потапова, члена следственной комиссии, что «приложенный к оным (бумагам) указатель повидимому совершенно к ним не принадлежит, к тому же он весьма не полон; засим не представляется возможности разобрать написанное в бумагах, но должно полагать, что они составлены вовсе не шифром, но только с условными сокращениями и потому будут сделаны ещё некоторые опыты для раскрытия смысла оных. Исполнить это вскоре нельзя и даже обещать вполне успех невозможно, но будут приложены все старания…» Только 14 ноября Муханов послал Потапову расшифровку части рукописи Чернышевского, уведомляя, что «рукописи эти, как и предполагалось и прежде, писаны не шифрами, но только с сокращениями и употреблением часто вместо слов, слогов и букв особых знаков». — «При всем желании,— писал Муханов,— при множестве текущих, не терпящих отлагательства дел не было никакой возможности разобрать до настоящего времени всю рукопись, но из содержания разобранного можно думать, что слог сей имеет условный смысл. Между тем, в предположении, что, кроме видимого содержания рукописи, могло находиться написанное симпатическими чернилами, были употреблены разные способы для открытия этого, но такового письма не оказалось».
Рукопись, побывавшая в министерстве иностранных дел,— часть саратовского дневника Чернышевского 1852–53 гг. Расшифрованные чиновниками страницы её составляют начало второй тетради «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье» (страницы 454–472 настоящего издания, от слов: «Я беру мел…» до слов: «Почему О. С. моя невеста»). В расшифровке этой много пробелов и погрешностей. Для примера приведём расшифровку того места Дневника, которое привлекло особое внимание следственной комиссии. Вот как оно было расшифровано в министерстве иностранных дел (пропуски обозначены в ней многоточиями; рядом с неправильно разобранными словами ставим в прямых скобках правильную расшифровку):
«Хорошо, я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю… сколько времени пробуду я на свободе… Меня каждый день могут взять. Какая будет [780] тут моя роль? У меня ничего не найдут, но друзья у меня весьма сильные [подозрения против меня будут весьма сильные]. Что могу я другое делать? [Что же я буду делать?] Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу своё мнение прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться. Не знаю, поверила ли она этому,— кажется, мало, потому что подобные вещи для неё мало привычны. Мы пошли танцевать. Я танцевал с нею [другими] или говорил с Гавр. Мих. и т. п., с нею не могу теперь [почти] припомнить, что я говорил, кроме… повторений, что всё-таки я привязан к ней, что… если бы это было [если это будет] продолжительнее [продолжаться так], то я наконец не был бы [не буду] в состоянии рассудить, и т. п.».
Дефекты расшифровки и заключение министерства иностранных дел, что «слог сей имеет условный смысл», позволили Чернышевскому утверждать, что попавший в руки властей Дневник повествует вовсе не о нём самом, а представляет собою собственно черновые материалы для будущих беллетристических произведений (см. его заявление в Сенат от 25 сентября 1863 г.).
Вшитая в дело следственной комиссии о Чернышевском часть его Дневника была полностью расшифрована его сыном M. H. Чернышевским и напечатана в 1906 г. в X томе «Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского». Остальные части Дневника, относящиеся к 1848–1851 гг., были найдены позже в бумагах А. Н. Пыпина. Весь Дневник в расшифровке M. H. Чернышевского был впервые напечатан нами в 1928 г. в I томе «Литературного наследия Н. Г. Чернышевского». Для второго издания Дневника, выпущенного в 1931 г. Издательством политкаторжан, мы сверили расшифровку M. H. Чернышевского с оригиналом, вставили все пропущенные места и исправили замеченные погрешности. Для настоящего издания мы вновь сверили печатный текст с фотостатической копией оригинала и внесли необходимые исправления.
Рукописи дневника Н. Г. Чернышевского хранятся в Саратове, в Доме-музее его имени, за исключением второй тетради «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье», «Дневника в Саратове» и «Дневника. Март 1853», которые вшиты в дело следственной комиссии о нём, находящееся в Москве в Архиве революции и внешней политики.
Запись дневника, относящаяся к маю 1848 г., сделана на трёх листках: в четвертушку и в полчетвертушки писчей бумаги и в четверть листка почтовой бумаги обычного формата.
Записи со второй половины 1848 г. по 2 февраля 1850 г. сделаны в тетрадках из почтовой бумаги обычного формата, причём листки записей 1848 г. перенумерованы цифрами с 1 по 100, а записей 1849 и 1850 гг. (по 2 февраля) — цифрами с 1 по 40; дальнейшие записи 1850 г. занесены в тетрадь в четвёртую долю листа писчей бумаги, с нумерацией страниц с 1 по 19. Единственная запись, относящаяся к 1851 г., сделана на двух полулистах писчей бумаги. Первая тетрадь «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье» — в четвёртую долю листа писчей бумаги, страницы перенумерованы цифрами с 1 по 22; вторая тетрадь в полулист писчей бумаги, страницы перенумерованы цифрами с 23 по 44, затем идут без нумерации. «Дневник в Саратове» (записи 25 ноября 1852 и 9 Января 1853 г.) писан на двух полулистах, остальной саратовский дневник занесен в тетрадь в полулист писчей бумаги, без авторской нумерации. Почерк записей на почтовой бумаге чрезвычайно густой и мелкий, прочие записи сделаны более крупным почерком. Во многих местах имеются подчёркивания, сделанные очевидно M. H. Чернышевским при расшифровке более трудных фраз и слов.
Дневник писался Н. Г. Чернышевским в те годы, когда он ещё только мечтал быть литератором, писался для самого себя, а не для печати, притом в обстановке, не располагавшей к отделыванию слога и порою самой неожиданной: то под видом студенческой работы на глазах у домашних, то в университете на лекциях, то даже в церкви во время богослужения… Не мудрено, что язык Дневника далеко не отличается изяществом. Стилистические поправки, может быть, сделали бы Дневник более удобочитаемым для современного читателя. Но они отняли бы у этого драгоценного человеческого документа колорит подлинности, и поэтому мы считали их недопустимыми. [781]
Дневник печатается с соблюдением принятой в настоящее время орфографии и пунктуации, с разбивкой сплошного текста на абзацы для облегчения чтения.
Зачеркнутые в рукописи дневников места, имеющие политическое или биографическое значение, мы приводим ниже, равным образом и явные описки, вкравшиеся в рукописи и выправленные нами в тексте.
Но прежде мы считаем необходимым познакомить читателя с шифром, которым пользовался Чернышевский, делая записи в свой дневник; этим же шифром он пользовался ещё в семинарии, затем для записи университетских лекций и переписывая для себя некоторые литературные произведения, напр., «Княжну Мери» Лермонтова. Такою же скорописью была писана им позже в крепости часть черновиков романа «Что делать?» и повести «Алферьев».
«Расшифровка Дневника,— пишет М. Н. Чернышевский,— представляла громадную трудность не только из-за шифра и чрезвычайно мелкого, сжатого почерка, но и ввиду того, что Дневник писался наскоро, хотелось написать побольше и поскорее, мысли опережали писание, а потому ни о слоге, ни о знаках препинания думать не приходилось. Происходили нередко и описки, главным образом в падежах и временах или в местоимениях «он» и «она», что иногда могло изменить смысл целой фразы. Чрезвычайно трудно было иной раз, при отсутствии запятых и слитности слов, не только разбивать фразу на отдельные слова, но и определять само слово, так как некоторые буквы имеют почти одинаковое начертание, а между тем каждой букве присваивается особое значение… Кроме русского алфавита, встречается и греческий, и латинский: так, сигма означает местоимение это; бета — всякий; латинское ку — чем; латинское в — истина, и т. д. Но одними буквами шифр не ограничивается: введены особые значки для обозначения некоторых слов,— например, для слов он, она, их, конечно, и т. д.».
Трудности расшифровки скорописи Чернышевского зависят от следующих обстоятельств:
Чернышевский обычно пишет чрезвычайно мелким почерком, с малыми промежутками между строками.
Очертания разных букв порою очень сходны.
Отдельные слова порою слиты.
Знаки препинания часто вовсе отсутствуют или ставятся не те, какие употребляются обычно (например, тире и запятые вместо точек).
Особые обозначения для различных глагольных форм часто пропускаются.
При сокращении слов одинаковые сокращённые начертания иногда употребляются для слов, имеющих разное значение.
Помимо русского алфавита, употребляется латинский, иногда и греческий и — в очень редких случаях — арабский.
Вообще Чернышевский не строго следует придуманной им системе скорописи. В чём состоит эта система, которою Чернышевский пользовался и в семинарии, и в студенческие годы, и в последующее время, включая пребывание в Петропавловской крепости, когда писал начерно некоторые свои произведения («Что делать?», «Алферьев»)? Выбрасываются буквы то начала, то середины, то конца слова. Некоторые слова обозначаются одной буквой. Для ряда слов придуманы особые знаки. Употребляются особые знаки для обозначения глагольных форм. Но система не выдерживается, слова сокращаются как попало, при густом письме случаются описки, и всё это затрудняет расшифровку. Но при известном навыке трудности преодолимы. То обстоятельство, что чиновникам министерства иностранных дел понадобилось три месяца для расшифровки нескольких полулистов рукописи Дневника, объясняется не сложностью придуманной Чернышевским системы скорописи, а отсутствием интереса к работе, которая не могла раскрыть каких-либо дипломатических секретов и требовалась для другого ведомства. Надо отметить, что III отделение, посылая рукопись для расшифровки, не уведомило министерство иностранных дел, чья это рукопись, но министерству скоро стало ясно, что автор её к дипломатической службе не причастен.
Укажем особые знаки, которыми пользовался Чернышевский, и значение обычных в его рукописях сокращений слов: [782]
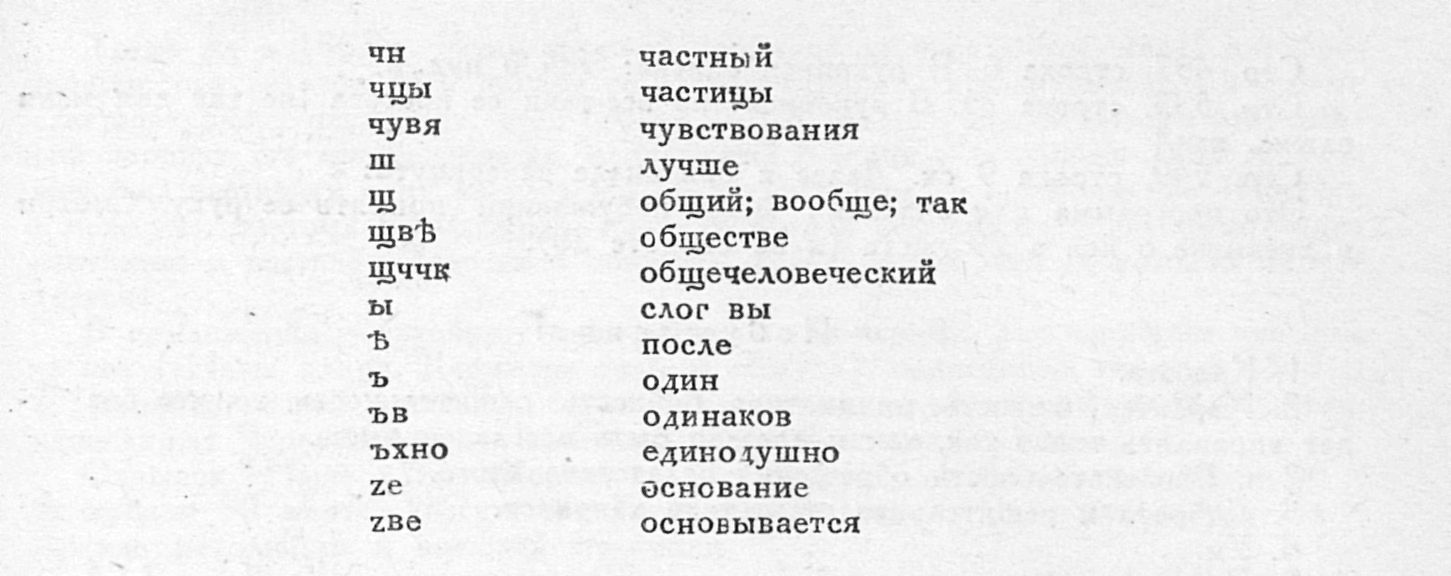
Стр. 34, строка 4. Первоначально вместо: сосуд божий — орудие б[ога].
Стр. 61, строка 15. В рукописи ошибка: 30 июля, суббота.
Стр. 66, строка 19 сн. В рукописи Леру [и Прудон].
Стр. 73, строка 19 сн. Зачеркнуто: а о том деист ли он.
Стр. 76, строка 17. В рукописи ошибка: что этот случай.
Стр. 107, строка 5. В рукописи описка: «Пошлое» Корфа.
Стр. 141, строка 12 сн. В рукописи описка: Encycl. d. deux Mondes.
Стр. 238, строка 19 сн. В рукописи описка: повесть «Каприз».
Стр. 272. строка 24. В рукописи: писал доклад к [Нату] я не пошёл, а вместо того к Корелкину, чтоб оттуда пойти за письмом. У Корелкина не слишком скучал, и в 12 отправились вместе,— он должен был к Мейендорфу. Я не нашёл письма, пошёл должно быть к Иванову. Вечером был должно быть А. Ф.
Стр. 311, строка 12. В рукописи описка: 3 [сентября], среда.
Стр. 331, строка 17. В рукописи описка: 22-го [октября], воскресенье.
Стр. 349, строка 10 сн. В рукописи ошибочно: 14 [января].
Стр. 349, строка 3 сн. В рукописи ошибочно 15 [января], пятница.
Стр. 350, строка 26. В рукописи ошибочно: 16 [января в] субботу.
Стр. 350, строка 7 сн. В рукописи ошибочно: 17 [января], воск.
Стр. 359, строка 12. В рукописи ошибочно: в субботу, 3-го числа.
Стр. 360, строка 17 сн. В рукописи ошибочно: Понедельник 29 [января].
Стр. 381, строка 16 сн. В рукописи: чтоб я перешёл к ним [(потому что лошадей на почте нет, хотя за ними ходил сам Фёд. Павл., что мне было весьма совестно)] — с пометкою: [нет, это было на следующий день].
Стр. 381, строки 14 и 10 сн. В рукописи ошибочно: Ал. Степановна и Алекс Степ.
Стр. 405, строка 13 сн. В рукописи фамилия Кобылина написана арабскими буквами.
Стр. 418, строка 14 сн. В рукописи: у нас будет скоро бунт [и в нём я буду одним из главных участников].
Стр. 418, строка 14 сн. В рукописи: Я начал было в первой фигуре. [Что бы вы ни думали обо мне, но будьте уверены, что вы не найдете человека, который любил бы вас больше моего. Помните, что ваше счастье предпочитаю я даже своей любви.]
Стр. 464, строка 2–1 сн. Вслед за этим абзацем в рукописи приписка карандашом: Нельзя спуститься. Теперь буду заниматься работою. Начертить можно после в свободное время, потому что знаю их комнаты.
Стр. 479, строка 20. В рукописи: они увидят, что я сдержу слово. [Но к чему говорить вздор.]
Стр. 480, строка 13 сн. В рукописи: Теперь я чувствую себя [не школьником, который только.]
Стр. 487, строка 15. В рукописи: Я не щажу никогда никого, [потому что не щажу себя.] [785]
Стр. 497, строка 6. В рукописи описка: Чай 6 пуд.
Стр. 533, строка 25. В рукописи: но всё-таки её красота [не так для меня важна, как.]
Стр. 549, строка 9 сн. Далее в оригинале зачеркнуто:
Это программа для описания моих побуждений принять её руку. Смотри в дневнике о ней с 29 листа (и на обороте 28).
Побуждения:
1. Красота.
2. Характер, живость, инициатива, бойкость, решительность, то, что она будет управлять мною так, как и должно быть всегда со мною.
2 в. Завлекательность обращения вследствие этого.
3. Доброта и решительное отсутствие капризов.
4. Ум.
5. Прямота.
6. Чрезвычайное благородство.
7. Постоянная грациозность; как следствие всего этого отсутствие пошлости.
Вещи в другом роде:
1. тяжёлое положение.
2. Доверие ко мне,— значит, понимание меня. (Как она говорила со мною; всегда выслушивала она меня, не раздражаясь, понимая, что я говорю не как человек, который ломается, видя, что он нужен, а просто как честный человек, который хочет выставить себя в настоящем виде, чтобы не обманулись, выбирая его).
3. Искала моей помощи — бесчестно отказаться от того, чтобы помочь.
4. Желание иметь одну любовь в жизни и чувство, что тут есть нечто в этом роде и что поэтому моё сердце, если бы стал ожидать, уже не будет передано ей решительно не принадлежавшим никогда другой.
5. Вследствие этого убеждение, что я с ней буду счастлив.
6. Главное — её мысль, что я такой человек, какой нужен для её счастья. Боже мой! Сколько причин, а наберутся еще!
3 в. Убеждение в том, что, отказавшись, я буду мучиться: А — сознанием своего бессилия решиться на что-нибудь; В — сознанием, что поступил с нею не гуманно, [по] свински; С — что, решившись на это, наконец стану действовать, что и было в самом деле, что исчезнет моё Гамлетское состояние[566].
3 с. Убеждение, что меня поймает какая-нибудь другая, в миллион раз менее достойная любви, не могущая составить моё счастье; что если я буду выбирать, то попадусь впросак.
3 d. Что потребность искать любви, т. е. волокитствовать, будет мне сильно мешать в моих делах, как мешала ныне всю зиму.
3 е. Если не женюсь теперь, [то] когда ж? В Петербурге едва ли.
3 i. Моя жена должна быть не из Петербурга.
Я должен чем-нибудь сдерживать себя на дороге к Искандеру.
Автобиография
Наброски «Автобиографии» были написаны Н. Г. Чернышевским в Петропавловской крепости. Из дат, имеющихся на рукописи, видно, что эту работу Чернышевский писал с 8 июня по 30 июля 1863 г., но оставил её незаконченной. Листы, на которых написаны «Воспоминания», перенумерованы цифрами 177–229.
«Воспоминания слышанного о старине» впервые были опубликованы в I томе «Литературного наследия» Чернышевского, стр. 3–125. Для настоящего издания текст «Воспоминаний» вновь сверен с оригиналом, хранящимся в Архиве революции и внешней политики в Москве. [786]
Тогда же в 1863 г. Чернышевский принялся за переработку своей автобиографии, результатом чего явился её второй вариант, опубликованный в I томе «Литературного наследия», стр. 126–170. По мысли Чернышевского этот второй вариант его автобиографии, написанный 8 июня — 6 ноября 1863 г., должен был составить одну из глав его беллетристического произведения «Повесть в повести», поэтому в настоящем издании второй вариант автобиографии будет напечатан в составе «Повести в повести», органической частью которой он является.
В приложении к автобиографии мы даем: во-первых, два черновых отрывка из неё («Наша улица. Корнилов дом» и «Жгут»), написанные также в 1863 г. в Петропавловской крепости, и, во-вторых, три автобиографических отрывка, написанных Чернышевским уже в астраханский период его жизни.
Отрывок «Наша улица. Корнилов дом» написан на 8 листах в четверик и датирован 30 марта. «Жгут» же датирован 5 апреля. Оригиналы хранятся в Архиве революции и внешней политики.
I. «В конце прошлого века»… Рукопись на 4-х листах почтовой бумаги большого формата. На первом листе сверху на полях карандашная пометка: «Это писано мною под диктовку моего отца в Астрахани летом 1884 г. (один из вариантов рассказа о саратовской старине). Мих. Чернышевский». Рукопись почти без помарок; поправок и помет Н. Г. Чернышевского не имеет. Хранится в Доме-музее Чернышевского.
II–III. «Бабушкины рассказы». Рукопись-автограф на 3-х листах почтовой бумаги большого формата, почти без помарок. Первые два листа заняты рассказом «Переселение прадедушки и прабабушки в новый приход», третий — рассказом «Наше счастье». Хранится в Доме-музее Чернышевского.
Стр. 576, строка 5 сн. В рукописи: на постоялом дворе [Теперь на станциях вообще не хуже, часто и лучше. Лет тридцать тому назад станций с такою комнатою было немного].
Стр. 577, строка 7 сн. В рукописи: прадедушке и прабабушке [с их потомством, к числу которого тогда конечно уж и не принадлежал бы я].
Стр. 578, строка 9. В рукописи: счастье ушло от её семейства, [это выводит философия доктора Панглосса, что всё, что происходит, до крайности хорошо, и всё на свете идёт как нельзя лучше].
Стр. 597, строка 5. В рукописи: в образе моих мыслей [совершеннолетнего человека, переставшего удовлетворяться [гегелевскою по наслышке] вольтерианизмом, с одной стороны, гегелизмом, с другой].
Стр. 597, строка 8. В рукописи: книгами всяческих тенденций от [«Вечного жида» Сю до].
Стр. 608, строка 14. В рукописи описка: 5-рублевая бумажка.
Стр. 619, строка 21 сн. В рукописи: как следует. [Моя матушка тоже любила цветы, но когда стала было достигать пожилых лет, в ней пропала охота ухаживать за ними; у Александры Павловны — нет: и стали изменять силы, привязанность всё-таки не изменила цветам].
Стр. 621, строка 3 сн. В рукописи: и уже навсегда [У этих холопей у всех жестокие сердца, часто говорила бабушка, браня кого-нибудь из знакомых; если можно было прибавить, что он или она ханжа — вот, хоть бы мой братец Матвей Иванович — и шли рассказы о проделках Матвея Ивановича. Таким образом…]
Стр. 630, строка 6. В рукописи: прочел тогда у Дюмон-Дюрвиля [и от мысли о которой меня чуть не тошнило с месяц после того, как я читал о ней].
Стр. 630, строка 9. В рукописи: «душу воротит» [но в Матвее Ивановиче кава была очень сильно разведена водою].
Стр. 630, строка 18. В рукописи: все очень мелкие; [то спор с каким-нибудь асессором о том, что Матвей Иванович слишком уж мало времени оставляет себе на то, чтобы воздавать кесарево кесареви, т. е. сидеть на службе].
Стр. 634, строка 3. В рукописи: врут они, это положительно; [Скажу больше. Я не любитель итальянском оперы. Мне скучно в ней. Но я с удовольствием слушал «Гугенотов» — пожалуй, готов бы часто слушать. Почему? А какие мотивы преоблад…]. [787]
Стр. 634. стр. 15. В рукописи: я читал с восхищением: [«Чёрный ящик» Масальского].
Стр. 635, строка 7 сн. В рукописи описка: потому что она проводила.
Стр. 637, строка 5. В рукописи: Это читалось легко и с удовольствием. [Сказать ли, какое было моё господствующее впечатление во время этого чтения? Вот какое. По числу страниц большая часть Четь-Минеи состоит из истории подвигов и страданий святых мучеников. Тут было много чудес,— мученика ввергали в реку, в огненную печь, свергали со скалы; очень часто…]
Стр. 642, строка 1 сн. В рукописи: собирается со всей Индии! [В Тире и Карфагене приносили в жертву и разом хорошую порцию населения,— но ведь не такую же, ведь там же десятки, вероятно сотни тысяч людей, из которых набирались десятки жертв,— а у нас сотни оказались достаточными для того, чтобы дать десятки,— и ведь там же давали в жертву других, а не себя,— положим милых, но всё же не самих себя.].
Стр. 644, строка 19 сн. В рукописи: вы читали историю. [Но что же это такое? Кое-что действительно тут правда,— но как это преувеличено! так что дело получает совершенно неверный колорит. — Нет, извольте слушать дальше, будут доказательства].
Стр. 648, строка 12. В рукописи по ошибке вместо III поставлено II.
Стр. 648, строка 18 сн. В рукописи: по счастливому выражению [автора «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы»].
Стр. 648, строка. 15 сн. В рукописи: Рюрик [плохой герой].
Стр. 672. В рукописи неправильная нумерация главы: III вместо IV.
Стр. 674, строка 23. В рукописи описка: параллельная Саратовской.
Стр. 681, строка 1. В рукописи: в такое время как детство, [не мог не лечь очень солидным весом, не мог не давать очень ясного света многому, когда для меня пришла пора разбирать теоретически].
Стр. 681, строка 7. В рукописи: он был отважен,— я нет; [он был пылок, рвался вперёд,— я нет].
Стр. 702, строка 19 сн. В рукописи: много было дела, [так что ему редко выдавалось тогда время поиграть в шашки, он был мастер, второй игрок по силе из тех, кого я знал; здесь в гостином дворе лучшие играют хуже, чем игрывал тогда я, а я уже считал удачею, когда папенька только просто выигрывал, делал мне «сухую», без «запертых» шашек; первый игрок в шашки это уж истинно-дивный игрок,— был мой крестный отец, Фёдор Степанович Вязовский,— тоже священник,— но к проповедям Иакова…].
Стр. 702, строка 10 сн. В рукописи: папенька имеет семейство, [о котором он же, Иаков, ласково его спрашивает очень часто].
Стр. 703, строка 5. В рукописи: (50-летнему забежать!) [и он точно «бежал» и к нам, и от нас].
Воспоминания
№ 1.
Написано в виде приложения к письму А. Н. Пыпину от 9 декабря 1883 г. (см. XI том настоящего издания). Опубликовано впервые Е. А. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 9, стр. 143—150, с небольшими сокращениями; полностью — в № 4 «Литература и марксизм» 1928 г. и в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 455—463. Печатается с подлинника, написанного рукою Чернышевского на 6 страницах почтовой бумаги.
№ 2.
Написано в виде приложения к письму А. Н. Пыпину от 21 января 1884 г. С пропусками опубликовано Е. А. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 10, стр. 162—182; полностью в № 4 «Литература и марксизм» 1923 г. и в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 464—481. Печатается с подлинника, написанного А. Н. Чернышевским под диктовку [788] отца на 53 страницах почтовой бумаги. В оригинале имеются поправки рукою Н. Г. Чернышевского.
№ 3.
Три первые «заметки» были присоединены Н. Г. Чернышевским к письму его А. Н. Пыпину от 17 июня 1886 г. «Заметки» эти написаны самим Чернышевским на 22 страницах почтовой бумаги, почти без помарок. В извлечениях они были впервые напечатаны в книге А. Н. Пыпина «Н. А. Некрасов», СПБ, 1905 г., стр. 244—258, и оттуда перепечатаны в «Полном собрании сочинений Чернышевского, т. X , ч. 2, стр. 230—236. Пропущенные Пыпиным места отчасти опубликованы Е. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 10, стр. 164—168 и 171—172, а полностью напечатаны в III томе «Литературного наследия» Чернышевского, стр. 485—496. Четвёртая заметка, написанная Чернышевским на полулисте писчей бумаги и посвященная предисловию издательницы «Стихотворений» Некрасова, сохранилась среди его рукописей астраханского периода и впервые напечатана в III томе «Литературного наследия», стр. 496. «Заметки» Чернышевского написаны по поводу «Стихотворений» Н. А. Некрасова, Посмертное издание, в четырёх томах, СПБ, 1879 г.
№ 4.
Написано в виде приложения к письму А. Н. Пыпину от 1 ноября 1886 г.; опубликовано Е. А. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 11. стр. 186—188, и в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 498—500. Печатается с подлинника, написанного Н. Г. Чернышевским на 4-х страницах почтовой бумаги.
№ 5.
Выделено из лисем к А. Н. Пыпину от 9 августа и 28 октября 1885 г. Опубликовано впервые в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 511—529.
№ 6
Впервые опубликовано Н. Ф. Бельчиковым в газете «Читатель и писатель», 1928 г., № 29; затем в «Литературном наследии» Н. Г. Чернышевского, том III, стр. 532–533.
Написаны на 6 страницах писчей бумаги среднего формата рукой секретаря К. М. Фёдорова под диктовку Н. Г. Чернышевского; в рукописи имеются поправки, сделанные Н. Г. Чернышевским на полях и в тексте. На последней странице есть пометка А. Н. Пыпина: «26 мая 88, Астрахань».
Стр. 714, строка 7. В рукописи: но давним ]но не близким, потому, не наделившим меня сведениями о "Современнике"] знакомым.
Стр. 714, строка 9. В рукописи: у своих ]давних] постоянных.
Стр. 723, строка 22 сн. В рукописи: как Некрасов ]да и я… и как сам я]: это хороший человек ]и только всего]. Вероятно.
Стр. 723, строка 19 сн. В рукописи: или мне. [(Вставка № 1) (Примечание I)] Тургенев.
Стр. 723, строка 11 сн. В рукописи: не по воспоминаниям | (Примечание 2)1.
Стр. 723, строка 6 сн. В рукописи: в 1857-м [(Примечание 3)].
Стр. 728, строка 25. В рукописи: никаких ошибок [(Кстати намечу, что именно поэтому я с давнего времени и перестал находить надобным прочитывать то, что писал Добролюбов: я не находил бы ничего возражать против его понятий, а если приходилось ему касаться предметов, в которых мог он ошибаться относительно фактов, то он сам вперёд указывал мне на эти места своих статей. Досуга читать то, что можно было оставить непрочтенным, я не имел)]. Услышав от меня. [789]
Стр. 730, строка 11 сн. В рукописи: что он [сорит] тратит.
Стр. 730, строка 1 сн. В рукописи: раньше; [Кто] хоть [несколько знает теплоту задушевных отношений Некрасова к некоторым из близких ему людей, например хоть бы к Тургеневу] по этому ничтожному случаю.
Стр. 731, строка 22. В рукописи: и Добролюбова [украсить на некоторое время своей персоной три важнейшие столицы Европы], проспать Германию.
Стр. 731, строка 9 сн. В рукописи: рекомендуемого им [скучного] произведения.
Стр. 734, строка 19 сн. В рукописи: чернит [его дядька] руководитель.
Стр. 737, строка 19 сн. В рукописи первоначально: Маркович, затем везде ошибочно исправлено Чским: Маркевич.
Стр. 739, строка 6 сн. В рукописи: а на других [дрянь-дрянью] человек дрянный.
Стр. 740, строка 19. В рукописи: за свободу [или за страдающий народ]. Если.
Стр. 741, строка 17. В рукописи [резкий] приговор. [780]
Именной указатель
Настоящий именной указатель преследует две цели: во-первых, дать краткие биографические сведения о лицах, упомянутых Чернышевским, в целях облегчения понимания читателями публикуемых текстов, и, во-вторых, помочь читателям находить относительно лиц, интересующих их, упоминания, встречающиеся в сочинениях Чернышевского.
Исходя из этих задач, поставленных при составлении указателя, в него не включены многочисленные упоминания о случайных лицах, встретившихся почему-либо Чернышевскому на его жизненном пути, например, о владельцах магазинов, домовладельцах, случайных дорожных спутниках и т. д., если только из самого текста Чернышевского ясно, кем были эти лица, и если составители указателя не имели возможности сообщить относительно этих лиц никаких дополнительных сведений по сравнению с имеющимися в тексте.
К сожалению, далеко не все фамилии, упоминаемые Чернышевским, составителям удалось расшифровать. Некоторых лиц Чернышевский называет только по имени и отчеству; если установить их фамилии не удалось, то эти лица включались в указатель под теми буквами, с которых начинаются их имена.
А
Абаза — кто-то из семейства Аггея Васильевича Абазы (1782–1852) — члена комитета по постройке Николаевской железной дороги. — 95.
Абутькова — из семьи саратовских дворян. — 427.
Авдотья Яковлевна Богданова, вдова офицера, богаделка. — 640, 641.
Агезилай — спартанский царь IV в. до н. э. — 688.
Агис (Агиз) — имя нескольких царей древней Спарты. — 669.
Адам Бременский — каноник и миссионер XI в. (умер в 1076 г.). Его сочинения содержат ценные сведения по истории северных и северно-славянских народов и по географии скандинавских и балканских стран. — 165.
Адамович — знакомый В. П. Лободовского. — 84.
Адлер — знакомый В. П. Лободовского. — 102–104.
Адлерберг Александр Владимирович (1819–1888) — генерал-адъютант; с 1870 г. министр двора. — 753.
Акимов Василий Акимович — дальний родственник Чернышевских, саратовский брандмейстер. — 448–451, 455, 456, 459–474, 505, 515, 529, 539, 554, 558.
Акимов Павел Васильевич — сын В. А. Акимова. — 450, 451, 469, 515, 516, 554.
Акимова Елена Васильевна — дочь В. А. Акимова. — 470, 515–518, 557.
Акимова Елизавета Васильевна — см. Бусловская Е. В.
Акимова Мария Евдокимовна — жена В. А. Акимова, двоюродная сестра матери Н. Г. Чернышевского. — 410, 411, 424.
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — писатель-славянофил. — 758.
Александр I (1777–1825). — 571.
Александр Фёдорович — см. Раев А. Ф.
Александра Григорьевна — см. Клиентова А. Г.
Александр Македонский (356–323 до н. э.). — 688.
Александра Егоровна — сестра Лободовской Н. Е. — 54, 118, 120, 257, 321, 322.
Александра Ивановна — см. Введенская А. И.
Алексей Давыдович — см. Панчулидзев А. Д.
Алексей Иванович — инспектор студентов Петербургского университета. — 159, 238, 351–355, 363.
Аллез — учитель французского языка, на квартире которого в 1846 г. жил Чернышевский. — 311.
Алексей Тимофеевич — см. Петровский А. Т.
Алпатова — знакомая Чернышевского по Саратову. — 546.
Альбер (Александр Мартен) (1815–1895) — рабочий, участник революции 1830 г., лионского восстания 1834 г., один из вождей тайных революционных обществ, в 1848 г. член временного правительства и вице-президент Люксембургской комиссии. По обвинению в соучастии в демонстрации 15 мая 1848 г. приговорен, к 20 годам тюрьмы. В 1859 г. был освобожден по амнистии. — 241.
Альбинская — из семьи саратовского полицмейстера Альбинского. — 31.
Альбокринский Михаил Васильевич — знакомый Чернышевского по Саратову. — 384.
Амвросий (340–397) — епископ Миланский. — 272.
Андреев — саратовец, умерший в 1846 г., знакомый Чернышевского. — 53.
Андреевский — священник. — 264.
Анжелика Алексеевна — см. Кобылина А. А.
Анна — прислуга у Терсинских. — 83, 91, 152, 293.
Андреев Николай Ефимович — знакомый Чернышевского в Симбирске. — 402–404.
Андрей Иванович — см. Райковский А. И.
Анна Дмитриевна — см. Колумбова А. Д. (На стр. 298–299 имеется в виду Ступина А. Д.)
Анна Ивановна — см. Цибулевская А. И.
Анна Кирилловна — см. Васильева А. К.
Анна Никаноровна — см. Пасхалова А. Н.
Анненков Павел Васильевич (1813–1887) — западник 40-х годов, литературный критик и мемуарист. — 734.
Антон — лакей у Терсинских. — 159, 160.
Антон Григорьевич (Антонушка) — см. Пустовойтов А. Г.
Антоний (1816–1879) — ректор киевской духовной семинарии в 1845–1848 гг. — 89.
Антонович — знакомый М. С. Куторги. — 174.
Антоновский — знакомый В. П. Лободовского. — 44, 84, 240, 262–264.
Анфантен Бартелеми Проспер (1796–1864) — французский социалист-утопист, ученик и последователь Сен-Симона; один из виднейших теоретиков сен-симонизма. — 375.
Анюта — см. Васильева А. С.
Арапетов Иван Павлович (1811–1887) — чиновник министерства императорского двора, был близок к кружку литераторов, группировавшихся в 50-х гг. вокруг «Современника». — 732.
Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ. — 234, 394, 400.
Аркадий — император византийский (377–408), сын Феодосия I. Царствовал с 395 по 408 г. Первый император восточной империи. — 272.
Арну Плесси (родилась в 1819 г.) — известная французская артистка. С середины 40-х годов до 1855 г. жила в России, выступала на французской сцене Михайловского театра в Петербурге. — 404.
Артаксеркс — имя трёх царей Персии (V—IV вв. до н. э.). — 683.
Архаров Матвеи Иванович (ум. в 1851 г.) — чиновник, родственник Чернышевского по матери. — 405, 557, 613–634.
Архарова Александра Павловна — жена М. И. Архарова. — 616–625, 629, 630, 632.
Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) — журналист и писатель реакционного направления; редактор обскурантского журнала «Домашняя беседа». Автор «Краткого начертания истории русской литературы» (1846). — 398.
Ауэрбах Бертольд (1812–1882) — немецкий беллетрист, автор рассказов из жизни шварцвальдских крестьян и ряда романов. — 731, 732.
Афанасия Яковлевна — знакомая Чернышевского по Саратову. — 427, 439, 466, 505, 515, 528, 533.
Б
Бабенька — см. Голубева П. И.
Базунов Александр Фёдорович (ум. в 1876 г.) — издатель и книгопродавец. — 717, 719.
Байрон Джордж Гордон (1788–1824). — 54, 57, 178, 358, 638.
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876). — 390, 738–741.
Балбенковы — знакомые Чернышевского. — 196, 234.
Балинский — саратовский врач. — 677.
Балясный — помещик Екатеринославской губернии, поляк, в семье которого В. П. Лободовский давал уроки. — 262, 263.
Барант (Barante) Гильом Проспер (1782–1866) — французский историк и политический деятель. Автор «Истории бургундских герцогов», в 13 томах, изд. 1824–1826 гг. — 85, 87, 88, 144.
Барбес Арман (1809–1870) — французский революционер, участник и организатор ряда тайных революционных обществ. В 1839 г. вместе с Бланки руководил восстанием в Париже, за что приговорен был к пожизненному заключению. В 1848 г. избран в законодательное собрание. За участие в демонстрации 15/V 1848 г. вновь присужден к пожизненному заключению. В 1854 г. отказался от амнистии Наполеона III и был изгнан из Франции. — 233, 241.
Барро Одилон (1791–1873) — лидер либерально-буржуазной оппозиции накануне революции 1848 г., организатор «банкетной компании» в 1847–1848 гг. Член национального собрания в 1848–1849 гг.; после избрания президентом Луи-Наполеона был назначен председателем совета министров и провёл ряд реакционных законов. — 110, 224, 225.
Бассерман (Basserman) Фридрих-Даниель (1811–1855) — баденский политический деятель, умеренный либерал. В 1848 г. представитель баденского правительства при франкфуртском национальном собрании и поверенный имперского правительства при прусском правительстве. Сторонник объединения Германии под главенством прусского короля. — 237.
Батё (Баттё — Batteux) Шарль (1713–1780) — аббат, французский философ и педагог, автор «Les beaux arts, réduits q'un même principe» (1746). Главное положение теории Баттё: задачей искусства является подражание природе, но лишь прекрасной природе. — 186.
Баус — пристав в Саратове в 40-х гг. XIX в. — 659, 660.
Бауэр Карл Карлович — учитель латинского языка в саратовской гимназии. — 424, 426.
Бахметьев — или Павел Александрович, саратовский помещик, выведенный Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?» под фамилией Рахметова, или Николай Иванович (1807–1891) — саратовский губернский предводитель дворянства, композитор и музыкальный деятель. — 401.
Беккер Карл-Фридрих (1777–1806) — немецкий историк, автор «Всеобщей истории» (7 томов, изд. 1801–1805 гг.), выдержавшей несколько изданий. На русском языке этот труд издан Гречем в 1843–1849 гг. — 109, 119, 139, 155, 159, 160, 177, 178, 251, 280, 284, 292–294, 390, 393.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). — 106, 161, 242, 390, 597, 647, 732, 746–749.
Белов Евгений Александрович (1826–1895) — историк. В 1852–1859 гг. был преподавателем саратовской гимназии. С 1864 г. являлся преподава[825]телем Александровского лицея в Петербурге. Автор учебника по русской истории и ряда исследований по истории России XVI—XVII вв. — 476, 479, 548, 550, 553–555, 557–559.
Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) — врач и публицист; в 70-х годах был близок к редакции «Отечественных записок»; с 1881 г. жил за границей и редактировал эмигрантский журнал «Общее дело». Лечил Н. А. Некрасова и оставил воспоминания о его болезни. — 750.
Белосельская — Белозерская Елена Павловна — кн. (1812–1888), по второму браку жена помощника попечителя Петербургского учебного округа кн. В. В. Кочубея. — 323.
Бельцовы — знакомые В. П. Лободовского. — 249, 250, 333, 344, 359, 365.
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) — поэт, пользовавшийся большой популярностью в 30-х годах и развенчанный Белинским, отметившим, что под внешним блеском поэзии Бенедиктова скрываются внутренняя пустота и неёстественность. — 745.
Беранже Пьер (1780–1857) — французский поэт, выразитель интересов радикальной мелкой буржуазии. Расцвет творчества Беранже падает на эпоху Реставрации и июльской монархии. Песни-памфлеты его пользовались огромной популярностью в широких кругах населения. Непосредственного участия в политической деятельности Беранже не принимал, хотя и был в 1848 г. избран в национальное собрание. — 342, 344.
Бернгарди Готфрид (1800–1875) — немецкий филолог, профессор университета в Берлине, а затем в Галле. Автор ряда трудов по истории греческой и римской литературы, наиболее известен «Wissenschaftliche Syntax der griechischen Sprache» (Берлин. 1829 г.). — 390.
Бибул Люций Кальпурий — римский историк эпохи Августа. — 130.
Бизе — немецкий филолог, автор книги «Философия Аристотеля» (1835). — 390, 396, 401.
Билярский Пётр Спиридонович (1819–1867) — чиновник Академии наук и сената, сотрудник «Журнала министерства народного просвещения». Впоследствии профессор славянской филологии в Одессе. В 40-х годах был членом кружка И. И. Введенского. — 346, 371, 374.
Благовещенский Николай Михайлович (1821–1892) — профессор римской литературы Петербургского университета с 1852 г. — 240.
Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880) — товарищ Чернышевского по саратовской семинарии, студент Петербургской медико-хирургической академии, а затем юридического факультета Петербургского университета. Впоследствии известный журналист, редактор-издатель журналов «Русское слово» и «Дело». — 89, 90, 104, 213, 304, 332, 378, 390, 391, 401.
Благосветлов Серапион Евлампиевич — брат Благосветлова Г. Е. — 104, 215, 228.
Блан Луи (1811–1882) — французский политический деятель и историк. По определению Маркса, это был «буржуазный демократ с некоторой социалистической примесью и со смутным религиозным и националистическим образом мыслей». Брошюра Л. Блана «Организация труда» (изд. 1840 г.) создала ему громадную популярность в рабочих массах, чем определилось избрание его в 1848 г. в члены временного правительства и ожесточенные нападки на него и на возглавляемую им Люксембургскую комиссию со стороны вскоре окрепших реакционеров. После «июньских дней» Л. Блан эмигрировал в Англию. В 1870 г. он возвращается во Францию и в дни Парижской коммуны является членом национального собрания, чинившего расправу над коммунарами. В 1876 г. избран в палату депутатов и вступил в радикальную партию. Из исторических работ его наиболее известны: «История французской революции», «История десяти лет, 1830–1840», «История революции 1848 г.» — 51, 61, 66, 68, 77, 96, 101, 103, 104, 106, 107, 109–111, 115, 121, 132, 139, 143, 146, 174, 186, 214, 224, 241, 287, 298, 358, 375, 379, 491.
Бланки (Blanqui) Адольф-Жером (1798–1854) — французский экономист, старший брат Огюста Бланки. Автор ряда Трудов: «Précis élémentaire d'économie politique» 1826 г. (русск. перевод Порошина — «Руководство к полити[826]ческой экономии», СПБ. 1838 г.), «Histoire de l'économie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'a nos jours» P. 1838 г. (русск. перевод в 1869 г.) — 251–253, 261
Бланки Луи-Огюст (1805–1881) — французский революционер, участник всех парижских восстаний и революций на протяжении 1830–1871 гг. Организатор ряда политических тайных обществ. 37 лет своей жизни провёл в тюрьмах. Активный участник революции 1848 г., защищавший интересы рабочего класса (по словам Маркса, «единственный истинный вождь партии пролетариата»). Как участник и организатор демонстрации 15 мая 1848 г. приговорен был к 10-летнему тюремному заключению. — 254.
Блюм Роберт (1807–1848) — член франкфуртского национального собрания, демократ. Входил в состав делегации, отправленной левым крылом франкфуртского парламента в революционную Вену, где принял участие в баррикадной борьбе. После взятия Вены войсками Виндишгреца был 9 ноября 1848 г. расстрелян по приговору военного суда, несмотря на свою депутатскую неприкосновенность. — 171, 172, 182, 193, 221, 237.
Богдан Христофорович — саратовец, знакомый Чернышевских. — 40.
Богданова Надежда Константиновна (1836–1897) — балерина, с большим успехом гастролировавшая за границей в 1850-х годах. — 639, 640.
Борд (de là Bordes) Александр-Луи-Жозеф (1774–1842) — член палаты депутатов во Франции 1830–1841 гг., примыкавший к либеральной оппозиции. — 145.
Борджиа Лукреция (1480–1520) — дочь римского папы Александра VI, прославившаяся красотой и развратной жизнью. — 257, 258.
Бострем — помощник инспектора Петербургского университета. — 355.
Боткин Василий Петрович (1811–1869) — западник 40-х годов, литературный критик, автор «Писем об Испании»; в 60-х годах реакционер. — 738, 739.
Бранденбург Фридрих-Вильгельм (1772–1850) — прусский генерал; с конца 1848 г. глава прусского реакционного правительства, распустившего прусское национальное собрание. — 237.
Бреге Луи-Абраам (1747–1823) — механик и часовщик. — 175.
Брокгауз Фридрих-Арнольд (1772–1823) — создатель известной издательской фирмы и Лейпциге, выпустившей ряд энциклопедических изданий (основное из них «Conversations — Lexikon», до 1848 г. выдержавшее 7 переизданий). С 1823 года преемником основателя издательства явился сын его Генрих (1804–1874). — 170.
Брут Люций Юний — глава заговора в древнем Риме, низвергнувшего царя Тарквиния. По основании в 509 г. до н. э. республики был избран консулом. — 657, 658.
Брут Марк Юний (85–42 до н. э.) — глава заговора против римского диктатора Цезаря. Продолжал борьбу с Антонием и Октавианом. Когда его отряды были разбиты в Македонии, лишил себя жизни. — 539.
Буало — чиновник французского посольства в Петербурге. — 320.
Буало Николя (1636–1711) — французский поэт и сатирик, известен главным образом как автор трактата «О поэтическом искусстве» (изд. 1674 г.), в котором устанавливались единые нормы (каноны) для разных поэтических жанров. Поэтика Буало имела сильное влияние на последующую историю науки о литературе. — 390, 391.
Буашо (Boichot) Жан-Батист — член французского законодательного собрания (1848 г.); вместе с Ледрю-Ролленом руководил выступлением 13 июня 1849 г. и после его неудачи эмигрировал; в 1854 г. арестован при попытке нелегально вернуться во Францию; освобожден в 1859 г., после чего жил в Бельгии. — 287.
Буддей (Буддеус) Иоган-Франц (1667–1729) — немецкий богослов. — 632,
Булбенковы — см. Балбенковы.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — реакционный журналист, издатель газеты «Северная пчела» и журналов «Северный архив» и «Сын отечества» (совместно с Н. И. Гречем). Сторонник и защитник официальной [827] правительственной идеологии, поддерживал непрерывную связь с III Отделением (известны многочисленные доносы его на литераторов-современников). Широко использовал своё положение журналиста и связи с III Отделением в личных интересах. — 94, 185, 491.
Булычёв Иван Демьянович (1813–1877) — чиновник, автор «Путешествия по Восточной Сибири» и ряда работ по геральдике. — 265–269, 273, 275–279, 281–283, 289–291.
Бурачек Степан Анисимович (1800–1876) — корабельный инженер и реакционный журналист, редактор журнала «Маяк». — 149, 373, 384.
Бурбоны — французская королевская династия. — 149, 224, 668.
Бусловская Елизавета Васильевна, урожденная Акимова — дочь Акимова В. А. — 452–455, 464, 465, 490, 492, 505, 512, 526, 549.
Бусловский Григорий Николаевич, муж Е. В. Бусловской — саратовский губернский контролер. — 526.
Буткевич Анна Алексеевна, урожденная Некрасова (1827–1882) — сестра Н. А. Некрасова. — 754.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — сенатор и военный писатель; первый председатель негласного чрезвычайного «Комитета 2 апреля 1848 г.» (так называемый «Бутурлинский комитет»). Представитель крайней реакции, один из главных вдохновителей жестокого цензурного гнёта на русскую печать в годы «цензурного террора» (1848–1855 гг.). — 274.
Бюжо Тома-Робер (1784–1849) — маршал Франции. В 1848 г. депутат законодательного собрания, командовал альпийской армией. — 247.
Бюше (Buchet) Филипп-Жозеф (1796–1865) — историк, журналист и редактор ряда журналов. Его тезис об усовершенствовании общества и нации на основании католического вероучения привёл к разрыву с журналом сен-симонистов «Le Producteur». Основанный им «L'Européene» превратился в орган новокатолической группы. В 1848 г., благодаря поддержке партии «National», был избран первым председателем учредительного собрания. Автор ряда исторических работ, в частности в 1833–1838 гг. совместно с Ру-Лавернь издал многотомную «Парламентскую историю Французской революции», ценные материалы за период 1789–1815 гг. (40 томов, Paris) — 141, 193, 254.
В
Вагнер Рудольф (1805 — 1864) — немецкий физиолог и анатом; автор многочисленных научных трудов. — 342.
Вадим Ник. — знакомый И. И. Введенского. — 362.
Вальдек Бенедикт (1802–1870) — член и товарищ председателя прусского, национального собрания, демократ, один из вождей крайней левой. 16 мая 1849 г. после роспуска прусского сейма был арестован по обвинению в заговоре, но оправдан судом. Позднее один из вождей партии прогрессистов. — 340.
Варенька — см. Пыпина.
Василий Акимович — см. Акимов В. А.
Василий Дмитриевич — см. Чесноков В. Д.
Василий Петрович — см. Лободовский В. П.
Васильев Ростислав Сократович — брат Чернышевской О. С. — 410, 413, 415, 416, 421, 426, 429, 446, 459–461, 463, 469, 506, 507, 516, 522, 527.
Васильев Сократ Евгеньевич — отец Чернышевской О. С., врач. — 413, 430, 435, 437, 445, 446, 457, 463, 506, 516, 518–521, 523–525, 529, 531, 532, 536, 538, 542, 546, 555–560, 601, 770.
Васильева Анна Кирилловна — урожденная Казачковская, дочь генерал-лейтенанта, мать Чернышевской О. С. — 428, 430, 446, 506, 507, 511, 516–519, 526, 529, 530, 532, 535, 538–542, 544, 546, 553, 557, 560, 563–565.
Васильева Анна Сократовна — сестра Чернышевской О. С. — 446.
Васильева Ольга Сократовна — см. Чернышевская О. С.
Вася — брат Лободовской H. E. — 51.
Введенская Александра Ивановна — жена Введенского И. И. — 403, 536.
Введенский Иринарх Иванович (1813–1855) — саратовец, окончил саратовскую семинарию в 1834 г., а в 1842 г. философский факультет [828] Петербургского университета. Педагог, журналист и переводчик произведений Диккенса, Теккерея и др. 49, 139, 181, 228, 271, 339–343, 346–348, 361–365, 371, 373, 378, 384, 390, 391, 394–399, 401, 440, 444, 499, 504, 509, 514, 515, 532, 536, 555.
Веденяпин — офицер в Саратове. — 427, 475.
Ведров Владимир Максимович (1824–1892) — студент Петербургского университета, позднее профессор истории Казанского университета, цензор. — 130.
Венедикт — брат О. С. Чернышевской. — 411,421, 430,440,444,446, 461, 462, 507, 509-511, 523, 524, 535, 543, 545, 549, 557, 558, 560.
Венедиктов — знакомый А. Ф. Раева.
Вентворт Томас — см. Страффорд.
Вентурини — редактор немецкого издания «Хроника XIX столетия». — 191.
Верньо Пьер (1753–1793) — один из лидеров партии жирондистов, блестящий оратор. Противился уничтожению королевской власти во Франции и пытался предотвратить казнь Людовика XVI. Во время террора был казнен. — 109.
Верочка — дочь Терсинских, умершая в 1848 г., вскоре после рождения. — 55, 57, 59.
Веселовский Константин Степанович (1819–1901) — статистик и экономист, академик. — 73.
Виктор — см. Рычков В. И.
Виндишгрец Альфред (1787–1862) — австрийский генерал, известный жестоким подавлением восстания в 1848 г. в Вене. В 1849 г. командовал австрийскими войсками во время войны с Венгрией. — 171, 172, 191, 237.
Винкельман Иоганн (1717–1768) — немецкий учёный, автор «Истории античного искусства» (изд. 1764 г.). Полное собрание сочинений Винкельмана неоднократно издавалось на немецком языке, начиная с 1803 г. — 371.
Виноградов Иван Григорьевич — петербургский чиновник. — 164, 318.
Владимир Мономах (1053–1125) — киевский великий князь. — 38, 398.
Владимир Николаевич — см. Рюмин В. Н.
Владимир Святославич — киевский князь (X—XI вв.). — 691.
Воейковы — симбирские помещики. — 404.
Волков Фёдор Павлович (ум. в 1850 г.) — преподаватель русской словесности и саратовской гимназии. — 370.
Вологодские — студенты Петербургского университета. — 144.
Вольтер (1694–1778). — 491.
Вольф — владелец кондитерской в Петербурге. — 102, 103, 124–126, 131, 137, 139, 140, 156, 157, 162, 163, 165, 167, 171–173, 176, 177, 179, 180, 182, 185, 187, 188, 191, 192, 197, 202, 203, 208, 209, 230, 232, 234, 236–238, 240, 241, 243–247, 249, 251–255, 261, 265–269, 274, 276–279, 284–292, 301, 304, 306, 310, 311, 314, 328, 329, 331–336, 338, 340, 343, 345, 348–350, 352, 359, 362–366.
Вольф Оскар (род. в 1799 г.) — немецкий романист и историк литературы, составитель ряда историко-литературных сборников. — 371.
Волянский Тадеуш — польский археолог и филолог. — 269.
Воронин — петербургский чиновник. — 206.
Воронин Александр Семёнович—студент, однокурсник Чернышевского. — 87, 112, 116–120, 123, 124, 126, 130, 137, 255, 316, 317, 319, 323, 328, 332, 337.
Воронины — семья в Петербурге, в которой Чернышевский был преподавателем. — 33, 49, 66, 134, 140, 143, 146, 149, 150, 159, 162,163, 167, 168, 171, 173, 176, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 198-233, 217, 219, 220, 225–229, 231–236, 239, 243–247, 250–256, 261, 266, 316–319, 322–324, 327–331, 333–337, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 361–369, 373, 374, 377–379, 390, 391.
Воронов — студент Петербургского университета. — 83.
Воронов Иван Алексеевич — сын саратовского брандмейстера — 451, 454, 455, 505, 508, 516.
Воронова Наталья Алексеевна — сестра И. А. Воронова. — 454–456, 505.
Воскресенский Александр Абрамович (1809–1880) — профессор химии Петербургского университета. В 1863–1866 гг. его ректор. Известен преимущественно как педагог, давший ряд выдающихся учеников — русских химиков. — 73.
Востоков Александр Христофорович (1781–1864) — известный филолог. В 1831 г. им изданы: «Сокращённая русская грамматика» и «Русская грамматика по начертанию сокращённой грамматики, полнее изложенная». Востоков являлся автором ряда других исследовательских работ и редактировал ряд публикаций. — 269.
Врангель Егор Егорович, барон (1827–1875) — сослуживец И. Г. Терсинского по сенату, с 1867 г. сенатор. — 286.
Вронченко Михаил Павлович (1801–1855) — военный топограф. Известен как переводчик произведений классиков («Гамлет» — изд. 1828 г., «Манфред» — изд. 1828 г., «Макбет» — изд. 1837 г., «Фауст» — перевод первой части и изложение второй части, изд. 1844 г.). — 227, 228.
Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878) — критик и поэт «пушкинской плеяды»; в молодости был близок к декабристам; позднее реакционер. Его монография о Фонвизине вышла в 1848 г. — 366, 367.
Вязовская Лариса Фёдоровна, по мужу Розанова,— дочь Ф. С. Вязовского. — 404.
Вязовский Фёдор Степанович (родился около 1793 г.) — саратовский, священник, крестный отец Чернышевского. — 260, 628, 629.
Г
Гавриленко — студент. — 403.
Гагерн Генрих-Вильгельм (1799–1880) — немецкий политический деятель, представитель либеральной южногерманской крупной буржуазии. В 1848 г. председатель Франкфуртского национального собрания и имперский министр-президент. — 221.
Галахов Алексей Дмитриевич (1837–1892) — педагог, историк русской литературы, составитель ряда учебников и учебных пособий. — 363, 757.
Галлер — студент; однокурсник Чернышевского. — 88, 145, 269.
Гарнье-Пажес Луи-Антуан (1803–1878) — при июльской монархии член палаты депутатов. После февральской революции 1848 г. мэр г. Парижа, а затем министр финансов временного правительства. Сторонник буржуазной республики. В 1870 г. — член правительства национальной обороны. Автор трёхтомной «Истории революции 1848 г.» (изд. в 1861–1862 гг., русский перевод вышел в 1862–1864 гг.). — 226, 227.
Гасфельд — лектор-датчанин, читавший в 1849 г. в Петербурге публичные лекции. — 277.
Гебер (Hebert) Жак-Рене (1757–1794) — деятель французской революции, один из вождей левого крыла Парижской коммуны. — 105.
Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих (1770–1831). — 127, 128, 147, 148. 171, 177, 178, 193, 194, 229–235, 237, 239, 247, 297, 343, 393.
Гедда Михаил Фёдорович (1818–1883) — сослуживец И. Г. Терсинского по сенату, позднее сенатор, автор ряда юридических работ. — 286.
Гейне Генрих (1797–1856). — 358, 388.
Гельмольд — историк XII столетия, написавший «Chronicon slavorum» (см. том 21 «Monumenta Germaniae»). — 165, 175.
Генрихсон — знакомый Раева А. Ф. — 251.
Герасимов — знакомый Писарева И. В. — 89, 91.
Гергей Артур (1818–1916) — венгерский революционер, полководец венгерской революционной армии в 1848–1849 гг. 13 августа 1849 г. был вынужден капитулировать перед подавляющим превосходством русских войск, посланных Николаем I для подавления революции в Венгрии. — 307.
Геро де Сешель (Hérault de Séchelle;) Жэн-Мари (1760–1794) — деятель французской революции, член Конвента, сторонник Дантона, казненный вместе с ним. — 105.
Геродот — греческий историк V в. до н. э. — 670.
Герцен Александр Иванович (1812–1870). — 331, 382, 395, 419, 491,734, 746, 747, 755, 756.
Геслер — преподаватель в военно-учебных заведениях в Петербурге. — 398.
Гесс Герман (1806–1850) — химик, работал в области термодинамики. — 360.
Гёте Вольфганг (1749-1832). — 43, 54, 106, 124,133–135, 138, 139, 150, 151, 153, 164–167, 170, 177, 178, 182, 184, 207, 221, 227, 228, 233, 235, 241, 244. 248, 285, 289, 292, 295, 333, 344-346, 358, 458.
Гизо Франсуа-Пьер-Гильом (1787–1874) — французский государственный деятель и историк. При июльской монархии неоднократно был министром, а с 1840 по 1848 г. главой кабинета. Проводил политику реакции, представлял интересы финансово-промышленной олигархии. Совершеннейшей формой государственного строя считал английскую конституционную монархию. В 1848 г., после переворота, бежал в Англию; возвратившись оттуда, активного участия в политической жизни больше не принимал. Основными его историческими трудами являются: «История английской революции» (изд. 1828 г., русский перевод — 3 тома, Спб. 1860 г.) и «История цивилизации во Франции» (изд. 1829-1832 гг., русский перевод 4 тома, Москва 1877–1881 гг.). — 84, 85, 88, 90, 91, 104-107, 118, 124–130, 134, 136–148, 150, 152, 155, 156, 159–163, 168, 170–175, 177, 179, 197, 198; 201, 203, 204, 206–208, 213–216, 221, 223–225, 227, 251, 252, 258, 285, 310, 311, 314, 358, 359.
Главинский Иван — студент, однокурсник Чернышевского. — 108, 136, 140, 146, 156, 229, 245, 265, 276, 317.
Глушицкий Андрей Иванович — друг юности Н. А. Некрасова. — 743.
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852). — 50, 54, 58, 60, 66, 68–70, 73, 75, 88, 94, 97, 112, 127, 135, 138, 140, 143, 150, 160, 189, 495, 206, 219, 248, 297, 353, 358, 361, 491.
Головнин Александр Васильевич (1821–1886) — видный представитель либеральной бюрократии, группировавшейся в эпоху отмены крепостного права вокруг великого князя Константина Николаевича; в 1861–1866 гг. министр народного просвещения. — 759, 761–763.
Голубев Егор Иванович (1781–1818) — саратовский священник, отец матери Чернышевского. — 578, 585.
Голубев Николай — студент, однокурсник Чернышевского. — 265, 327, 401.
Голубева Пелагея Ивановна (1780–1847) — мать Е. Е. Чернышевской, бабка Чернышевского. — 53, 566–578, 583–586, 591–595, 619, 621, 635, 640, 658, 690, 692, 693, 705, 706, 708, 709, 712, 713.
Голубинский Фёдор Александрович (1797–1864) — профессор философии Московской духовной академии. — 386, 597.
Голубков Платон Васильевич (ум. в 1855 г.) — московский купец, сделавший значительные пожертвования Географическому обществу для обеспечения изучения условий торговли с Индией. Издал ряд переводных работ об Индии и об английской колониальной политике. — 286.
Гончаров Николай Александрович — брат писателя И. А. Гончарова. — 402–404, 614.
Гончарова Елизавета Карловна — жена Н. А. Гончарова. — 403, 404.
Гораций (65–8 до н. э.) — римский поэт. — 279, 390.
Горбунов Александр Дмитриевич — саратовский чиновник, сотрудник «Саратовских губернских ведомостей», переводчик «Конрада Валенрода» Мицкевича. — 770.
Горбунов Павел Дмитриевич — брат А. Д. Горбунова. — 770.
Горбунова Анна Эльпидифоровна — жена А. Д. Горбунова — 770.
Горбуновы — Николай Максимович, тов. председателя саратовской палаты гражданского суда, и Евлампия Никифоровна — его жена. — 462, 463, 686, 687.
Гордей Семёнович — см. Саблуков г. С.
Горизонтов Никита Алексеевич (1825–1893) — студент петербургской духовной семинарии, затем — священник. — 48, 152, 155, 217, 306, 313.
Горизонтов Пётр Алексеевич (ум. в 1884 г.) — священник. — 48, 183, 207, 228, 313, 396.
Горлов Иван Яковлевич (1814–1890) — профессор политической экономии и статистики Петербургского университета. Автор «Теории финансов» (изд. 1841 и 1845 гг.), «Экономической статистики России» (изд. Спб. 1849 г.) и др. Последователь Сэ и его школы. — 39, 45, 48, 136, 252.
Городецкий — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427, 554.
Городков Гаврил Родионович (ум. 1887 г.) — врач 2-го кадетского корпуса в Петербурге, участник кружка И. И. Введенского в 40-х годах. С 1884 г. был фабричным инспектором Виленского округа. На сестре его жены был женат А. Н. Пыпин. — 400, 401, 455, 499, 536.
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) — дипломат, с 1841 по 1853 посол в Штутгарте; впоследствии министр иностранных дел, канцлер. — 222.
Готье Теофиль (1811–1872) — французский поэт, романист и критик. Лучшие его романы: «Мадемуазель Мопэн», изд. 1831 г., и «Капитан Фракас», изд. 1863 г. Много путешествовал по Европе и Азии. Был и в России (его путевые впечатления опубликованы в 60-х годах). — 341.
Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (1776–1822) — немецкий писатель, романтик. Автор фантастических новелл. — 390.
Грацианский — саратовский врач. — 675, 676.
Гревиус (Грефе) Иоанн (1632–1703) — профессор филологии в Утрехте. — 632.
Грейсон Дмитрий Кириллович — с 1836 г. инспектор студентов Петербургского университета. — 141.
Грефе Фёдор Богданович (1780–1851) — профессор греческой словесности Петербургского университета. С 1820 г. академик. — 105, 106, 111–113, 116, 119, 125, 126, 131, 136, 137, 146, 148, 151, 152, 156, 157, 162, 185, 248, 282, 330, 370, 376, 377.
Грефе — студент Петербургского университета. — 104.
Греч Николай Иванович (1787–1867) — реакционный журналист, соратник Булгарина по «Северной пчеле» и «Сыну отечества». Автор учебников по грамматике и литературе, ряда романов и повестей. 1835–1840 гг. редактировал отдел литературы в энциклопедии Плюшара. — 134, 138, 142, 398.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829). — 364.
Гримм, братья — Яков (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859),— немецкие филологи-германисты, авторы капитальных трудов по истории и грамматике немецкого языка, собиратели народных немецких народных сказаний. — 128, 315–317, 319, 400.
Гринцевич — родственник В. Залемана. — 199, 202.
Губер Эдуард Иванович (1814–1847) — сотрудник ряда журналов, главным образом «Библиотеки для чтения». Известен как переводчик «Фауста» Гёте (этот перевод местами редактирован Пушкиным). — 217, 221, 232.
Гульельми — преподаватель словесности, окончивший Петербургский университет. — 318.
Гумбольдт Александр (1769–1859) — путешественник и натуралист, положивший начало физической географии как научной дисциплине. Автор капитального труда «Космос, или физическое описание мира», изд. 1847–1851 гг. — 128, 196.
Гумбольдт Вильгельм (1767–1835) — немецкий учёный и государственный деятель Пруссии. Работал в области языковедения, философии и эстетики. Один из основателей сравнительного языковедения. Итоги его исследования даны в основном труде: «О языке „кави“ на острове Ява, с введением о различии строения человеческих языков и о влиянии его на духовное развитие человеческого рода», изд. 1836–1840 гг. — 128, 390, 552.
Гундулич Иван (1588–1638) — иллирийский поэт. Его героическая поэма «Осман» издана была в 1826 г. — 377.
Гусев П. И. — знакомый Чернышевского по Саратову. — 384, 452.
Гуськов — знакомый Чернышевского по Саратову. — 447.
Гуськова — подруга О. С. Чернышевской в Саратове. — 447, 515, 516, 541, 544, 545.
Гюго Виктор (1802–1885) — французский писатель, глава французской романтической школы. С 1841 г. член французской академии. В 1848–1851 гг. [832] депутат учредительного и законодательного собраний, активный противник Луи-Наполеона принужден был в 1851 г. эмигрировать. Во Францию вернулся в 1870 г. и был избран членом национального собрания. Его драма «Марион де Лоры» издана в 1828 г., «Лукрециа Борджиа» — 1833 г. Произведения Гюго на русский язык начали переводиться с конца 20-х годов («Последние дни приговоренного к смерти», Спб, 1829 г., «Гернани», 1830 г., «Ганс-исландец», «Анжело» и «Лирические стихотворения», Спб. 1833 г. и др.). — 257, 258.
Д
Давыдов Иван Иванович (1794–1863) — профессор философии и словесности Московского университета, с 1847 г. директор Главного педагогического института. Типичный чиновник-карьерист. Для его работ характерна эклектичность и подражательность. Основной труд — «Чтения о словесности» М. 1837–1838 гг., «Опыт общесравнительной грамматики русского языка», вышел в 1852 г., Спб. — 186, 253, 254, 755, 756.
Даль Владимир Иванович (1801–1872) — беллетрист, этнограф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». — 163.
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) — в 1849 г. привлекался по делу Петрашевского и после трёх месяцев заключения в крепости выслан в провинцию; позднее писатель, близкий к славянофильству. — 222, 352, 353, 363, 365.
Дарий Гистасп (550–486 до н. э.) — персидский царь. — 688.
Дарья Гавриловна — бабушка Чеснокова В. Д. — 555.
Дарья Кирилловна — см. Казачковская Д. К.
Дасье Лина (1654–1720) — переводчица на французский язык «Илиады» и «Одиссеи». — 632.
Дебу Ипполит Матвеевич (1824–1890) — служил в министерстве иностранных дел. Участник кружка Кашкина. Приговорен в 1849 г. по делу Петрашевского к расстрелу, замененному по конфирмации двумя годами арестантских рот, с последующей сдачей в рядовые. — 184, 274.
Девиль — член французского учредительного собрания в 1848 г. — 143.
Делорм Марион (1611–1650) — известная французская куртизанка. — 257, 258.
Демосфен (383–322 до н. э.) — афинский оратор и политический деятель. Умеренный демократ, боролся с аристократами, поддерживавшими монархическую Македонию. Руководил борьбой греков против Филиппа II Македонского. — 376.
Депп Филипп (1824–1866) — юрист; в 1849 г. защищал в Петербургском университете диссертацию «Об уголовных наказаниях в России до царя Алексея Михайловича». — 284.
Державин Гавриил Романович (1743–1816) — поэт. — 127, 197, 221, 242, 257, 266, 363.
Дерикер — знакомый И. И. Введенского, преподаватель в военно-учебных заведениях. — 343.
Дивногорский — товарищ Чернышевского по семинарии. — 308.
Диккенс Чарльз (1812–1870). — 358, 597, 633, 634, 745.
Дмитриев — студент-болгарин. — 265, 290–292, 377.
Дмитрий Иванович — см. Минаев Д. И.
Дмитрий Ростовский (1651–1709) — богослов, автор ряда сочинений на религиозные темы. — 597.
Дмитрий Яковлевич — см. Чесноков Д. Я.
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861). — 721–740, 745, 746, 754–756.
Дозе Фёдор Иванович (1831–1873) — студент Петербургского университета; позднее педагог; в 1862 г. арестован в связи с распространением прокламаций и выслан и Кострому. — 102, 269, 369, 371.
Долинский — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427.
Доминик — владелец ресторана в Петербурге. — 314, 315, 324, 325, 350, 360, 378, 399, 401.
Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864) — писатель. Привлекался по делу Петрашевского (1849), причём вскоре после ареста был освобожден. Издатель журналов «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864). — 274, 778, 779.
Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881). — 208, 274, 742. 777— 779.
Дройзен Иоганн-Густав (1808–1884) — немецкий историк и политический деятель; автор «Истории Александра Великого», изд. 1833 г., «Истории эллинизма», изд. 1836–1843 гг. и др. В 1848–1849 гг. был членом Франкфуртского национального собрания, примыкал к правому центру; являлся сторонником малогерманской ориентации. — 161.
Дружинин — знакомый Чернышевского по Саратову. — 426.
Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — критик и беллетрист, один из ближайших сотрудников «Современника» после смерти Белинского; в 1856 г. порвал с этим журналом, сделавшись редактором «Библиотеки для чтения». Придерживаясь теории «чистого искусства», вёл борьбу против Чернышевского и Добролюбова и отстаивал «пушкинское направление» в литературе, противопоставляя его «гоголевскому». — 721, 722, 738.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862) — управляющий «Третьим отделением», а с 1839 г. начальник корпуса жандармов и член Главного управления цензуры. В истории русской литературы известен как представитель безудержного цензурного гонения на печать. — 274.
Дюма Александр — отец (1803–1870) — французский драматург и романист, автор многочисленных исторических авантюрных романов. Русские переводы его произведений в журналах печатались с конца 30-х годов, сначала в «Библиотеке для чтения» (1838 г., т. 30 — «Капитан Поль») и в «Отечественных записках» (1843 г., т. 28 — «Полковник Санта-Кроче», 1845 г., тт. 41–43 — «Королева Марго», 1845 г., тт. 44–45 — «Графиня Монсоро») и т. д. Не менее многочисленны отдельные издания переводов романов Дюма: «Генрих III и его двор» (Спб. 1829 г.), «Похождение марсельского охотника» (Спб. 1847 г.), «Две Дианы» (Спб. 1847 г.) и т. д. — 82, 226, 227, 745.
Дюмон (Dumont) Пьер-Этьен-Луи (1759–1829) — философ и публицист; в 1782 г. приехал в Россию и был пастором и проповедником во французской церкви в Петербурге. С 1792 г. жил в Англии, занимаясь распространением философских взглядов Бентама. — 240.
Дюмон-Дюрвиль Жюль (1790–1842) — французский путешественник, натуралист. — 630.
Дютроше (1776–1847) — французский естествоиспытатель, известен многочисленными работами по физиологии животных и растений. — 88.
Дюфор Жюль-Арманд (1798–1881) — в 1848 г. член учредительного собрания; при диктатуре Кавеньяка и в президентство Луи-Наполеона был министром внутренних дел. Позднее, в 70-х годах, неоднократно занимал министерские посты и возглавлял кабинеты министров. — 155.
Е
Евгений Александрович — см. Белов Е. А.
Егор Гаврилович — тесть В. П. Лободовского. — 29.
Егорушка — брат Л. Н. Терсинской. — 285.
Екатерина I (1684–1727) — жена Петра I; после его смерти — русская императрица. — 375.
Елена Васильевна — см. Акимова Е. В.
Елена Ефремовна — знакомая Чернышевского по Саратову. — 448, 449.
Елизавета Васильевна — см. Бусловская Е. В.
Елисеев — владелец гастрономического магазина в Петербурге. — 321, 338.
Ершов — помощник контролера саратовской казенной палаты. — 452, 453.
Ефремов Пётр Яковлевич — учитель математики саратовской гимназии. — 552.
Ж
Жакото Жан (1770–1840) — французский педагог, выступивший со своим методом преподавания. Основные его положения: 1) умственные способности у всех одинаковы, 2) кто сильно хочет, тот может, 3) человеческий разум способен сам образовать себя, без указаний преподавателя. — 229.
Жанен Жюль (1804–1874) — французский критик, постоянный сотрудник «Journal des Débits». Особенно известен своими театральными фельетонами. — 60.
Жемчужников Алексей Михайлович (1821–1908) — поэт-лирик и сатирик. Служил в сенате и был помощником стаст-секретаря государственного совета. Вместе с гр. А. К. Толстым и братом Владимиром Жемчужниковым писал под псевдонимом Кузьмы Пруткова. — 350.
Женуд (Genoude) Антуан-Эжень (1792–1849) — французский публицист-клерикал, с 1827 г. редактор «Gasette de France»; во времена Луи-Филиппа подвергался преследованиям за пропаганду легитимизма. После революции 1848 г. отошёл от политической деятельности. — 193.
Жирарден Эмиль (1806–1881) — французский журналист, основатель и редактор газеты «La Presse» (см. примеч. 94). — 358.
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — поэт. — 178, 221.
З
Загоскин Михаил Николаевич (1789—L852) — писатель, автор ряда исторических романов («Юрий Милославский» — 1829 г., «Рославлев» — 1830 г., «Аскольдова могила» 1838 г. и др.). — 119.
Залеман — возможно, Роберт Карлович (1813 — 1874) — скульптор. — 47.
Залеман студент, однокурсник Чернышевского. — 30, 35, 44, 59, 62, 68, 70, 76, 101, 107, 108, 114, 117, 118, 124, 128, 131, 132, 136, 144, 149.
Залетаева Прасковья Ивановна — знакомая Чернышевского по Саратову. — 424, 426.
Занд Жорж (1804–1876) — псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван. Французская писательница, автор романов, проникнутых освободительными тенденциями (протест против мещанских устоев семьи). В 40-х годах в её романах характерна тенденция к примирению противоречий общественных классов. — 77, 258, 276, 288, 297, 336, 358, 388, 529, 634.
Зарубаева Анна Андреевна — знакомая Л. Н. Терсинской, жившая в Саратове. — 53, 55.
Захаров Владимир Иванович — студент Петербургского университета; в 1851 г. защищал диссертацию на звание магистра римской словесности. — 130, 255.
Зерникав Адам (1652–1693) — немецкий богослов, переселившийся в Россию и принявший православие; автор богословских сочинений. — 632, 678.
Златорунный — товарищ Чернышевского по семинарии. — 189.
Зубовы — семья, в которой Фурсов, товарищ Чернышевского, служил репетитором. — 84, 113.
Зуров — петербургский домовладелец, в семье которого И. Г. Терсинский должен был давать уроки. — 147, 162, 163, 184, 311.
И
Иаков (Вечерков, 1792–1850) — саратовский епископ в 1832–1847 гг. — 367, 628, 658, 686, 702, 703.
Иван Васильевич — см. Писарев И. В.
Иван Гаврилович — повидимому, сын Г. М. Шапошникова, см.
Иван Григорьевич — см. Терсинский И. Г.
Иван Фотич — см. Чернышевский И. Ф.
Иван Яковлевич — см. Горлов И. Я.
Иванов — владелец кондитерской в Петербурге. — 246–250, 255, 268, 271, 275, 277, 295, 299, 307, 308, 310–312, 320, 325, 328, 329, 337, 338, 363, 365–368, 372, 374, 376, 377, 379, 395.
Иванов — учитель в Петербурге. — 393.
Иванов Ал. Порф. — знакомый Чернышевского по Саратову. — 548.
Излер — владелец кофейной в Петербурге. — 179–183, 190–199, 202, 203, 218, 219, 225.
Изяслав Ярославович — великий князь киевский в 1050–1078 гг. — 293, 552.
Илиодор (Чистяков, ум. в 1861 г.) — архиепископ курский и белгородский. — 30.
Ильин — чиновник Сената. 268, 286, 287.
Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич. 1800–1857) — русский богослов и церковный оратор. В 1841 г. архиерей в Харькове; в 1848 г. архиепископ херсонский и таврический. — 30, 73.
Иннокентий — папа римский. Повидимому, имеется в виду Иннокентий III (1198–1216), объявивший себя «наместником Христа», организатор четвёртого крестового похода. — 261.
Иоанн Экзарх — болгарский церковный писатель X в. — 206.
Иоанн III (1440–1505) — царь московский. — 375.
Иорнанд — хронист раннего средневековья (VI в.), благодари произведениям которого до нас сохранились работы древних авторов, не уцелевшие в оригиналах. — 152.
Иринарх — см. Введенский И. И.
Искандер — см. Герцен А. И.
Исаков Яков Александрович (1811–1881) — петербургский книгопродавец и издатель. — 180, 205.
Ишимова Александра Иосифовна (1804–1881) — писательница для детей, издававшая ряд детских журналов. Написанная ею «История России в рассказах для детей» (изд. 1841 г.) была награждена Демидовской премией. — 519.
К
Кабалеров — саратовский врач. — 600.
Кабе Этьенн (1788–1856) — французский коммунист-утопист. Изложение своей системы дал в «Путешествии в Икарию» (изд. 1840 г.). — 125.
Кавелин Константин Димитриевич (1818–1885) — публицист, историк и правовед, профессор Петербургского университета; представитель умеренного либерализма, приветствовавший арест Чернышевского. Выведен Чернышевским в романе «Пролог» под именем Рязанцева. — 114, 390, 393–395, 758.
Кавеньяк Луи-Эжен (1802–1857) — генерал, французский политический деятель. Депутат учредительного собрания в 1848 г. Беспощадно подавил июньское восстание и стал председателем совета министров. В декабре 1848 г. — кандидат на пост президента республики. — 110, 119, 124, 179, 196, 203, 224, 225.
Казанский — священник в Петербурге. — 50, 51, 60, 70, 82, 86, 88, 91, 94, 95, 101, 323.
Казачковская Дарья Кирилловна — сестра А. К. Васильевой. — 516, 521, 546.
Казембек Александр Касимович (ум. в 1870 г.) — известный ориенталист; с 1849 г. занимал кафедру персидской словесности в Петербургском университете. Автор ряда оригинальных научных трудов. — 368.
Кайданов Иван Кузьмич (1782–1843) — педагог и писатель, автор ряда исторических учебников. — 302.
Калигула Кай (12–41) — римский император. — 106.
Кант Иммануил (1724–1804). — 57, 148, 152.
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744) — поэт-сатирик. — 173.
Караджич Вук Стефанович (1787–1864) — сербский филолог и этнограф. — 773.
Каракозов Пётр Никифорович — священник в Саратове. — 562.
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — писатель, историк и журналист («Детское чтение», «Московский журнал», «Вестник Европы»). Автор «Истории государства Российского» (12 томов, изд. 1803–1826 гг.). Яркий представитель дворянско-помещичьей историографии. Реакционные политические взгляды его формулированы в «Записке о древней и новой России», поданной им Александру I в 1811 г. Глава сентиментального направления в литературе, много способствовавший созданию русского литературного языка. — 83, 146, 347, 400, 648.
Каратыгин 2-й Пётр Андреевич (1805–1879) — брат известного трагика В. А. Каратыгина (1802–1853). Актёр-комик и водевилист; заведывал драматическим классом Петербургской театральной школы в 1832–1838 гг. — 150.
Карл Великий (742–814) — король франков. Создатель громадной империи, централизовавший управление государством и уделявший много внимания организации хозяйства. — 91, 276.
Карл I — король английский (1600–1649) — 11 лет правил без парламента, но в 1640 г. принужден был его созвать. Разрыв короля с парламентом [836] («долгий парламент») привёл к революции 1640–1653 гг., во время которой король был низложен и после процесса казнен. — 139.
Карне (Carné) Луи-Марсьен (1804–1876) — французский политический деятель и историк. При июльской монархии в палате депутатов принадлежал к ультра-католической оппозиции. Постоянный сотрудник «Journal des Débats», «Revue des deux Mondes» и др., автор работ по истории XIX в. — 146.
Карпов Василий Николаевич (1798–1867) — философ идеалистического направления, профессор духовной академии в Киеве, а затем в Петербурге. — 313.
Каррель Арман (1800–1836) — французский публицист и политический деятель, либерал, видный участник революции 1830 г., основатель газеты «National». — 145.
Касторский Михаил Иванович (1809–1866) — профессор всеобщей истории Петербургского университета. — 104, 172, 250, 371, 375.
Катерина Егоровна — знакомая Чернышевского. — 650, 651.
Катерина Матвеевна — см. Патрикеева Е. М.
Катерина Николаевна — см. Кобылина Е. Н.
Катерина Павловна — квартирная хозяйка Раева. — 45, 103.
Катерина Фёдоровна — см. Срезневская К. Ф.
Катков — повидимому, саратовец, знакомый Чернышевского. — 116.
Катулл Гай-Валерий (87–54 до н.э.) — римский поэт-лирик. — 329, 331.
Квинтилиан — римский педагог и литературный критик I века н. э. Автор сочинения «Об ораторском образовании». — 391.
Кинглек Александр-Вильям (1809–1891) — английский политический деятель и историк, автор истории Крымской войны, частично переведённой Чернышевским с его обширными дополнениями (см. X том настоящего издания). — 646.
Кипарисов — саратовский семинарист. — 96.
Кир — персидский царь VI века до н. э. — 670, 688.
Кирилл (827–869) — проповедник христианства среди славян, составитель славянской азбуки, переводчик церковных книг на славянский язык. — 161.
Кирилл Михайлович — см. Колумбов К. М.
Кириллов Иван Кириллович — саратовский священник, прадед Чернышевского по матери, умер в 1825 г. — 566–568, 572–578, 765–711.
Кириллова Мария Перфильевна (Порфирьевна) — жена И. К. Кириллова, умерла в 1825 г. — 566, 568, 571, 574-578, 704–711.
Клавдий — римский император I века н. э. (41–54 гг.), преемник Калигулы. — 106.
Классовский Владимир Игнатьевич (1815–1877) — педагог и писатель, преподаватель 2-го кадетского корпуса. — 400.
Клейнмихель Пётр Андреевич (1793-1868) — с 1842 по 1855 г. главноуправляющий путями сообщения и общественными зданиями. Типичная фигура сановника времен Николая I. Уволен в отставку вскоре после восшествии на престол Александра II, что рассматривалось как уступка общественному мнению. — 152.
Клеон (ум. в 422 г. до н. э.) — афинский политический деятель, вождь городской демократии, преемник Перикла. — 238, 239.
Клиентов Григорий Степанович — священник в Москве. 380, 381.
Клиентов Пётр Григорьевич — священник во Владимире, сын г. С. Клиентова. — 383.
Клиентова Александра Григорьевна дочь Г. С. Клиентова. См. её воспоминания о пребывании Н. Г. с матерью в Москве проездом в Петербург в 1846 г. («Русская старина», 1892 г., № 3). 43, 44, 157, 381–383, 385, 388, 389, 402–404.
Клюков — саратовский семинарист. — 96.
Княжинский Василий Стахиевич (ум. в 1882 г.) — магистр, а впоследствии ректор Петербургской духовной академии. — 320, 321.
Кобылин Александр — сын Кобылина H. M. — 407.
Кобылин Николай Михайлович — председатель саратовской казенной палаты, младшему сыну которого (Александру) Н. Г. Чернышевский в 1852–[837]1853 гг. давал уроки. — 405–409, 428, 429, 432, 440, 441, 449, 463, 468, 502, 504, 505, 527, 540, 547, 550–555, 558–561.
Кобылина Анжелина Алексеевна — жена Кобылина Н. М. — 406, 407, 527, 555, 561.
Кобылина Катерина Николаевна — дочь Кобылина Н. М. — 405, 406, 408, 428, 449, 465, 467, 472, 473, 502, 503, 509, 517, 550.
Ковалевский Егор Петрович (1809–1868) писатель и путешественник, один из основателей и председатель литературного фонда. — 234, 735.
Коврайский — студент Петербургского университета. — 206.
Козловский Сергей — студент Петербургского университета. — 375.
Кокрель Атанас (1795–1868) — протестантский проповедник; член французского учредительного собрания 1848 г. — 56.
Колеровы — Василий Степанович, чиновник Синода, родом из Саратова, и его жена Прасковья Алексеевна. — 226, 227, 398.
Колесников Сергей Алексеевич — учитель математики саратовской гимназии. — 516, 519, 520, 554, 555, 560.
Колумбов Кирилл Михайлович — прокурор московской гражданской палаты. — 380–383, 388.
Колумбова Анна Дмитриевна — жена К. М. Колумбова. — 63, 382.
Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) — поэт. Первое издание сочинении Кольцова вышло в 1835 г., а следующее издание появилось в 1846 г. (с. приложением статьи Белинского). — 450, 468, 471, 504, 505, 508–510, 515, 530, 550, 551, 555.
Кондратий Герасимович — см. Медведев К. Г.
Консидеран Виктор (1808–1893) — французский социалист-утопист, последователь Фурье; издавал журналы «Фаланстер», «Фаланга» и газету «Мирная демократия»; в ряде книг популяризовал учение Фурье. В 1848–1849 гг., будучи членом учредительного собрания, занимал соглашательскую позицию. В июне 1849 г., после подавления мелкобуржуазной демонстрации против реакционной политики законодательного собрания, бежал в Бельгию. — 287.
Констан Бенжамен (1767–1830) — французский публицист и государственный деятель; сторонник конституционной монархии, глава оппозиции в эпоху реставрации Бурбонов. — 182, 185.
Константин VIII Порфирородный (905–959) — византийский император. — 163.
Конт Огюст (1798–1857) — французский социолог и философ, глава позитивизма; основы его учения изложены в «Курсе положительной философии» (6 томов, изд. 1830–1842 гг.). Отзыв о нём Чернышевского — см. письмо к сыновьям из Сибири от 27/IV 1876 г. — 196, 197.
Коперник Николай (1473–1543) — основоположник научной астрономии, обосновавший гелиоцентрическое строение планетной системы. — 128.
Кораблев — комиссионер детской больницы в Петербурге. — 274, 306.
Корелин — знакомый Чернышевского по Саратову. — 426, 553, 554.
Корелкин Николай Павлович (1830–1855) — студент Петербургского университета, однокурсник Чернышевского. Получил золотую медаль за «Рассуждение о языке летописи Нестора». Позднее был учителем гимназии и в 1852–1855 гг. дал ряд рецензий и разбор деятельности А. X. Востокова в «Отечественных записках». — 33, 71, 79, 102, 105, 108, 112–114, 117, 118, 124, 130, 136, 139, 140, 144, 146, 149, 150, 171, 177, 188, 197, 198, 200-203, 206, 214, 217, 229, 234–237, 239, 243, 244, 246, 249, 250, 256, 261, 266, 269, 274, 301, 312, 314–317, 320, 325, 343, 344, 347, 349, 350, 355, 359, 366–369, 375, 378, 390, 395.
Кормнен (Cormenin) Луи-Мари (1788–1868) — французский юрист и политический деятель. Депутат и вице-президент учредительного собрания в 1848 г., председатель комиссии по разработке конституции. — 61.
Корн (Corne) Мари-Аугустин (1802–1887) — французский политический деятель и писатель. В 1848 г. депутат учредительного собрания, генеральный прокурор. Примыкал к группе ген. Кавеньяка. — 143.
Корнелиус а Лапиде (1568–1637) — католический комментатор библии. — 632.
Корф Фёдор Фёдорович, барон (1803–1853) — беллетрист. — 107.
Корш Евгений Фёдорович (1810–1897) — журналист и переводчик, западник 40-х годов, редактор «Московских ведомостей» (1843–1848) и журнала «Атеней» (1858–1859). — 738.
Коссидьер Марк (1809–1861) — до 1848 г. один из руководителей левого крыла республиканской партии во Франции. После февральской революции префект полиции. Кандидат в состав правительства со стороны восставших в июне рабочих; принужден был эмигрировать в Англию после разгрома восстания. — 96, 109, 110, 115.
Коссович Каэтан Андреевич (1815–1883) — санскритолог, профессор Петербургского университета. — 390.
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк-украинец, представитель мелкобуржуазной националистической историографии. В 40-х годах был членом тайного общества «Кирилло-Мефодиевское братство». После года заключения в крепости был сослан в Саратов, где жил под надзором полиции до 1859 г. В этот период он близко познакомился с Н. Г. Чернышевским. 407, 409, 413, 419, 421, 426, 433, 463, 476, 479, 489, 490, 493, 494, 498, 501, 502, 514, 529, 531, 532, 536, 541, 548, 550–555, 558, 559, 757–777.
Костомарова Татьяна Петровна — мать Н. И. Костомарова. — 765.
Котляревская — см. Терсинская Л. Н.
Коцебу Август (1761–1819) — немецкий драматург и романист, реакционер, состоявший агентом русского правительства; убит студентом Зандом; в 1810–1820 гг. его драмы пользовались большим успехом в России. — 745.
Кочубей Василий Викторович (1812–1850) — нумизмат, с 1848 г. помощник попечителя Петербургского учебного округа. — 197, 232, 350.
Кошанский Николай Фёдорович (1781–1831) — профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее в 1811–1828 гг., автор ряда учебников и пособий. — 315.
Кошут Людвиг (1802–1894) — венгерский революционер. Глава революционного правительства и диктатор республиканской Венгрии в 1849 г. После подавления революции бежал за границу и жил в Англии и Италии. — 227.
Краевский Андрей Александрович (1810–1889) — журналист, один из первых крупнейших издателей капиталистического типа. С 1839 г. издавал «Отечественные записки», позднее «Спб. ведомости» и с 1863 г. газету «Голос». — 66, 75, 157, 329, 337, 338, 343, 349, 400, 714, 718–722, 724, 725.
Крашенинников Пётр Иванович (ум. в 1867 г.) — известный книгопродавец, купивший в 1847 г. библиотеку Смирдина, при которой открыл книжный магазин. — 279, 289, 390, 394.
Краузольд Евгений Эммануилович — педагог, преподаватель в «Дворянском полку». — 340, 343, 362, 401.
Кромвель Оливер (1599–1658). — 221.
Крылов Иван Андреевич (1768–1844). — 54, 57.
Крюгер Карл — доктор богословия. — 380, 389.
Ксенофонт (около 434–359 до н. э.) — греческий историк и философ. — 670.
Ксеркс — персидский царь в 486–465 гг. до н. э. — 688.
Кудрявцев Николай Иванович — саратовский священник. — 404, 651.
Кудрявцева Прасковья Ивановна — жена Н. И. Кудрявцева, урожденная Кириллова, сестра бабки Чернышевского. — 651–653.
Кук Джемс (1728–1779) — английский путешественник. — 630.
Кулагин — совместно с Чернышевским кандидат на место преподавателя в военно-учебных заведениях. — 393.
Култуков — саратовский военный врач. 676, 677.
Кульматицкий — учитель. — 98.
Купер Фенимор (1789–1851) — североамериканский писатель, автор многих романов, посвященных захвату и колонизации Америки переселенцами из Европы. — 154, 155, 160.
Куприянов — знакомый Чернышевского по Саратову из местной дворянской семьи. — 427, 450, 453, 460, 462, 469–471, 505.
Курц Генрих (1805–1873) — немецкий историк литературы. Автор «Истории немецкой литературы» (3 тома, изд. 1851 г.) и составитель хрестоматийного типа сборников: «Handbuch der poet. Nationalliteratur» (1840–1843) я «Handbuch der deutschen Prosa» (1845–1846). — 289, 292, 296, 299, 302, 303.
Куткины — Евгений Алексеевич, саратовский помещик, и Мария Васильевна, его жена. — 222.
Куторга Михаил Семёнович (1809–1886) — профессор всеобщей истории Петербургского университета, специалист по истории древней Греции. — 33, 35, 100, 104–106, 111, 112, 114, 116, 119, 120, 125, 130, 131, 136, 141, 144, 149, 156, 161, 174, 175, 178, 179, 181, 187, 191, 194, 202, 222, 224, 227, 232, 237–244, 250–255, 267, 269, 275–277, 315, 318, 330, 333, 335, 349, 360, 361, 370.
Куторга Степан Семёнович (1805–1861) — зоолог, профессор Петербурского университета. — 243, 252.
Кюнер Рафаэль (1802–1878) — немецкий филолог, составитель учебников латинской и греческой грамматики. — 280.
Л
Лавальер Луиза-Франсуаза (1644 — 1710) — фаворитка французского короля Людовика XIV; в 1674 г. постриглась в монахини. — 257.
Лаврова А. Г. — фамилия по мужу А. Г. Клиентовой (см.).
Лавровский Николай Алексеевич (1825–1899) — студент Главного педагогического института; позднее — профессор истории русской литературы Харьковского университета. — 332.
Лальмань — чиновник французского посольства в Петербурге. — 320.
Ламартин Альфонс (1790–1869) — французский поэт, политический деятель и историк, буржуазный либерал. Автор «Истории жирондистов» (изд. 1847 г.) и «Истории февральской революции» (изд. 1849 г.). В 1848 г. министр иностранных дел временного правительства. Блестящие ораторские способности сделали его популярным в первые месяцы революции. После демонстрации 15 мая 1848 г. сблизился с Кавеньяком и потерял популярность в массах. — 61, 146, 149, 218, 224–227, 234, 240, 241, 252, 255, 317.
Ламенне Робер (1782–1854) — аббат; французский общественный деятель, публицист, нападавший на монархию, церковь и существующий социальный строй и черпавший свои идеалы в первобытном христианстве. Из его многочисленных брошюр особенно известна «Слова верующего» (1834). В 1841 г. издана его работа «Очерк философии» (2 тома), излагающая систему спиритуалистической философии. — 233, 346.
Лариса Фёдоровна — см. Вязовская Л. Ф.
Латур Теодор (1780–1848) — австрийский генерал, реакционер. В 1848 г. военный министр. Во время венского восстания в октябре того же года повешен восставшим народом. — 182.
Лафатер Иоганн-Каспар (1741–1801) — швейцарский священник, пиэтист, автор «Физиогномики». — 199.
Лебедев — издатель. — 351.
Левитов — знакомый Чернышевского по саратовской семинарии. — 258.
Левитский — товарищ Чернышевского по саратовской семинарии. — 96.
Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807–1874) — французский публицист и политический деятель, вождь мелкобуржуазной демократии. В 1848 г. министр внутренних дел временного правительства. После неудачного выступления мелкобуржуазных демократов в июне 1849 г. эмигрировал в Англию, где жил до 1870 г. — 68, 105, 106, 109–111, 224, 225, 233, 287, 289.
Лейбниц (1646–1716) — немецкий философ и математик, открывший диференциальное исчисление. — 195.
Ленц Эмилий Христианович (1804–1865) — профессор физики в Петербургском университете. Ему Н. Г. Чернышевский подавал проект изобретаемой им машины вечного движения. — 408.
Лео Генрих (1799–1878) — немецкий историк, автор ряда учебников и исторических работ. — 250, 251, 253.
Леонид I — спартанский царь V века до н. э. — 671.
Леопольдов Андрей Филиппович (1800–1875) — саратовский журналист, краевед, редактор «Саратовских губ. ведомостей» в 1841–1847 и 1850–1851 гг. — 696, 704.
Лерминье Луи-Эжен (1803–1859) — французский юрист и публицист. Профессор Collège de France; вынужден был прекратить лекции благодаря оппозиции слушателей его реакционным взглядам. — 141.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — 47, 55, 58, 60, 66, 67, 70, 73, 74, 102,112,127, 187, 235, 297, 353, 358, 634.
Леру Пьер (1798–1871) — французский социалист-утопист. В 1848 г. член учредительного и законодательного собраний, примыкающий к крайней левой. В декабре 1851 г. изгнан из Франции, куда вернулся по амнистии в 1869 г. — 38, 66, 106, 119, 132.
Лерх Пётр Иванович (1827–1884) — студент Петербургского университета, позднее библиотекарь того же университета, автор работ по археологии Среднего Востока. — 148, 149, 161, 334, 368, 378, 390.
Ливии Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк. — 670.
Лидия Ивановна — см. Рычкова Л. И.
Лизавета Карповна — см. Гончарова Е. К.
Лизандр (Лисандр) — спартанский царь V века до н. э. — 688.
Лилиенфельд Павел Фёдорович (1829–1903) — окончил Александровский лицей и служил в министерстве внутренних дел. В 60–70-х годах выступил с работами по вопросам социологии в духе «органической школы». — 101–103, 112, 288.
Лимайрак (Limayrac) Поль (1817–1868) — французский журналист, постоянный сотрудник и одно время один из редакторов журнала «Revue des deux Mondes». Писал главным образом по вопросам литературы. При Наполеоне III горячий сторонник его политики. — 180, 185.
Линдгрен — знакомый О. С. Чернышевской, из семьи аптекаря в Саратове. — 417, 427, 459, 463.
Линке — член франкфуртского национального собрания 1848 г. — 221.
Липранди Иван Петрович (1790–1880) — военный писатель. С 1840 по 1856 г. был чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел. Ему было поручено министром внутренних дел Перовским наблюдение за кружком Петрашевского; 20 апреля 1849 г. он представил списки лиц, более или менее причастных к этому кружку, что повлекло за собою их аресты. — 275.
Лихачевы — родственники И. И. Панаева. — 732.
Лихновский Феликс (1814–1848) — прусский офицер. Депутат франкфуртского национального собрания, принадлежавший к правому его крылу. Убит во время франкфуртского восстания в сентябре 1848 г. — 182.
Лобачевский Николай Иванович (1793–1856) — известный математик, основатель не-эвклидовой геометрии; был помощником попечителя казанского учебного, округа с 1846 по 1855 г. — 387, 403.
Лободовская Анна Петровна — сестра В. П. Лободовского. — 43.
Лободовская Мария Петровна — сестра В. П. Лободовского. — 92–94.
Лободовская Надежда Егоровна — дочь станционного смотрителя, жена В. П. Лободовского. — 29–38, 41–54, 56, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74–78, 80–99, 101, 108, 111, 114–121, 124, 134, 136 139, 142 151, 154-166, 170–173, 178, 180, 181, 190, 192, 198–203, 206, 212–220, 226, 227, 230, 231, 235, 239, 245, 246, 252, 257, 259, 261, 266, 270, 274, 279, 286, 288, 290, 297, 298, 336, 342, 359, 361.
Лободовский Василий Петрович — студент Харьковского, а затем Петербургского университета; курса не окончил; имел сильное влияние на Чернышевского в студенческие годы и получал от него материальную поддержку. В 1854 г. преподавал (одновременно с Н. Г.) во 2-м кадетском корпусе, а позднее в кадетском корпусе в г. Омске. — 29–56, 58–92, 94, 96–101, 111, 113–130,134–175, 178–209, 212–222, 226–258, 261, 262, 265–312,315–349, 353, 358–379, 382, 485, 390, 391, 399, 400, 404, 475, 509.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765). — 391.
Лоренц Фридрих Карлович (1803–1861) — немецкий историк, был профессором Главного педагогического института в Петербурге до 1857 г. Автор «Руководства по всеобщей истории» (Спб., 1841 г.). — 325, 344, 348.
Лоу Гудсон (1770–1844) — губернатор острова св. Елены, тюремщик Наполеона I. — 685.
Луи-Филипп (1773–1850) — французский король с 1830 г., свергнутый февральской революцией 1848 г. — 668.
Лукиан (около 120–180 гг.). — древнегреческий философ и писатель, известный остроумными сатирическими диалогами. — 302.
Лукулл Люций-Лициний (115–57 до н. э.) — римский полководец, богач, прославившийся своею роскошью и изысканными обедами. — 671.
Лыжин Николай Петрович — студент Петербургского университета; в 1858 г. получил степень магистра русской истории. — 305, 361, 365.
Лыткин Николай Александрович (1826–1890) — студент, однокурсник Чернышевского; впоследствии педагог-историк и инспектор Петербургской консерватории. — 38, 39, 89, 101, 102, 104, 121, 126, 130, 134, 136, 142, 144, 175–177, 191, 265, 278, 279, 320, 322, 335, 362, 365, 372, 391.
Любинька — см. Терсинская Л. П.
Любуша — по преданию, чешская королева IX в. — 277.
Людовик XIV — французский король с 1643 по 1715 г. — 119, 648, 650, 651.
Людовик XV — французский король с 1715 по 1774 г. — 257, 654.
Людовик XVI — французский король с 1774 г.; казнен в 1793 г. во время революции. — 340.
Людовик XVIII — французский король с 1814 по 1824 г. — 698.
М
Магомет (Мухамед, 571–632) — основатель магометанства. — 759.
Майер — соквартирант Писарева И. В. — 235.
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт. — 171, 206, 211.
Макарий — митрополит, московский в 1542–1564 гг., составитель Четьи-Минеи. — 633.
Маколей Томас (1800–1859) — английский историк и политический деятель либерального направления. — 670.
Максимов — знакомый Чернышевского по Саратову. — 428, 458, 555, 558.
Максимович — квартирохозяин Терсинских. — 192, 278, 362.
Мальтус Роберт (1766–1834) — известный английский буржуазный экономист. Автор сочинения «Опыт о законе народонаселения» (изд. 1798 г.). Основное положение его теории — бедствия и нищета являются результатом вечных законов природы, а не общественного строя; по его расчётам, рост населения происходит в геометрической, а средств существования в арифметической прогрессии. — 361.
Малышев Андрей Иванович — секретарь саратовского губернского правления. — 217, 405, 410, 411, 417–419, 550, 551, 558.
Марина (фон-Швейден) — подруга детства Л. Н. Терсинской и Чернышевского. — 53.
Марио (1812–1883) — итальянский тенор, гастролировавший в России в 1843 г. — 671.
Мария Акимовна — служанка Чернышевских. — 638, 639.
Мария-Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI. Имела сильное влияние на короля, направляя политику правительства на путь реакции. Решением революционного трибунала казнена 16/Х 1793 г. — 340.
Мария Димитриевна — саратовка, знакомая Чернышевского. — 40.
Мария Евдокимовна — см. Акимова M. E.
Мария Константиновна — знакомая Писарева И. В. — 97, 209, 210.
Мария Петровна — см. Лободовская М. П.
Марко Поло (1254–1323) — венецианский купец-путешественник, автор описания путешествия в Среднюю Азию. — 682.
Марков Иван Михайлович — студент. — 126.
Маркович Мария Александровна (1834–1907) — русско-украинская беллетристка и переводчица; писала под псевдонимом Марко Вовчок. — 737, 740.
Мара (Марраст) Арман (1801–1852) — французский публицист и государственный деятель, редактор газеты «National»; после февральской революции 1848 г. был членом временного правительства, мэром Парижа и с августа председателем учредительного собрания. — 124, 224.
Масальский Константин Петрович (1802–1861) — писатель, автор ряда исторических повестей и романов, популярных в 20–30-х годах XIX века. Полное собрание сочинении его вышло в 1843–1845 гг. — 491.
Матвеев Фёдор Михайлович (1758–1826) — художник-пейзажист. — 172.
Матвей Иванович — см. Архаров М. И.
Mатюрен Чарльз-Роберт (1782–1825) — ирландский поэт и романист. — 353.
Махмуд II (1785–1839) — турецкий султан с 1808 г., пытавшийся проводить реформы по европейскому образцу и уничтоживший корпус янычар. — 747.
Медведев Кондратий Герасимович — дьякон в Саратове, родственник Чернышевского. — 102.
Мезин — атаман разбойников в Саратове. — 572.
Мей Лев Александрович (1822–1862) — поэт, драматург и переводчик. — 732.
Мейендорф — студент. — 246, 252, 320.
Мелантович (ум. в 1856–1857 г.) — поляк, виленский студент, сосланный в Саратов на жительство под надзором полиции. — 548, 550, 552, 559, 770, 773.
Мельников — студент, однокурсник Чернышевского. — 237.
Мери Жозеф (1798–1866) — французский беллетрист. — 569.
Мерк — ученик Чернышевского, готовившийся к сдаче экзаменов на домашнего учители но русской словесности. — 397–401.
Мехмет-Али (1769–1849) — турецкий генерал, наместник Египта, диктаторски правивший страной и проведший ряд реформ на основе полной централизации управления; реорганизовав египетскую армию по европейскому образцу, вёл две войны с Турцией, в результате которых был признан наследственным владетелем Египта. — 747.
Mилон Тит-Анний — римский политический деятель (I век до н. э.), сторонник аристократической партии; за убийство политического противника был судим (речь Цицерона «Pro Milone») и изгнан из Рима; убит во время борьбы, которую вёл против Юлия Цезаря. — 136.
Милюков Александр Петрович (1817–1897) — писатель, преподавал литературу в петербургских гимназиях и институтах. Автор «Очерка русской поэзии» (изд. 1847 г.) и других работ. Был причастен к делу петрашевцев, но от суда освобожден. — 362, 373, 400, 499, 509, 514.
Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855) — историк и экономист, автор ряда оригинальных научных и популярных произведений. Сотрудничал в «Отечественных записках» и в «Современнике». Автор статьи «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции», напечатанной в «Отечественных записках» за 1847 г. (тт. 50 и 51), ряда статей о книге Бутовского «Опыт о народном богатстве» и о Мальтусе (в «Современнике»). Магистерская и незаконченная докторская диссертации написаны на исторические темы. Был близок к кружку петрашевцев. — 361.
Минаев — дядя А. Ф. Раева. — 46.
Минаев Дмитрий Иванович (1808–1876) — отец поэта Д. Д. Минаева. Уроженец Симбирска. Служил в учебном саперном батальоне и в провиантском департаменте. Позднее жил в провинции. Автор стихотворного перевода «Слова о полку Игореве» (изд. в 1847 г.), ряда поэм, повестей и стихотворений. — 362, 365, 371, 395, 400, 402–404, 514, 614.
Мирабо Оноре-Габриель (1749–1791) — вождь либеральной буржуазии в годы французской революции конца XVIII в.; напуганный развитием революции, вступил в соглашение с королем, пытаясь предотвратить гибель монархии. — 182.
Михаил Николаевич — см. Мусин-Пушкин М. Н.
Михаил Павлович (1798–1848) вел. кн., брат Николая I, с 1831 г. начальник военно-учебных заведений. — 102, 216, 220, 228, 286.
Михаил Павлович — см. Соколов М. П.
Михайлов — один из братьев М. Л. Михайлова. — 87, 171.
Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) — товарищ Чернышевского по университету, позднее сотрудник «Современника», поэт, переводчик, критик, публицист. В сентябре 1861 г. арестован за распространение прокламации «К молодому поколению», написанной Н. В. Шелгуновым. Приговорен к 6 годам каторги, которую отбывал в Кадае, Нерчинского округа, где и умер. — 60, 70, 79, 90, 145, 194, 234, 262, 363, 383, 388, 403.
Михайлов Михаил Михайлович (1826–1891) — профессор гражданского права в Петербургском университете. — 253.
Михайловский — знакомый О. С. Васильевой. — 405, 406.
Мишле (Michelet) Карл-Людвиг (1801–1893) — берлинский профессор, левый гегельянец, автор ряда работ по истории философии, в частности Geschichte der System der Philosophie in Deutschland (изд. 1837–1839 гг.) и Entwickelungsgeschichte der neuesten deutschen Philosophie (изд. 1843 г.). — 147–150, 152, 155, 171, 189, 203, 204, 239, 249, 250.
Молоствов Владимир Порфирьевич (1794–1863) — попечитель Казанского учебного округа. — 369–371, 379, 387, 396, 397, 400.
Мономах — см. Владимир Мономах.
Монталамбер Шарль-Форб (1810–1870) — французский политический деятель. Глава католической партии в Учредительном собрании 1848 г. — 137.
Монтань (Montagne) — французский издатель. — 182.
Монтескье Шарль-Луи (1689–1755) — французский политический писатель. Родоначальник буржуазного либерализма, сторонник правового государства, творец теории «разделения властей». — 146.
Мордвинов — очевидно, один из потомков М. И. Мордвинова (1725–1782), возможно Д. М. Мордвинов (1772–1848) или А. Н. Мордвинов (1792–1869). — 245, 246.
Мунк (Munk) Эдуард (1803–1871) — немецкий филолог, автор «Истории греческой литературы», изданной в Берлине в 1849 г. — 332, 333, 335.
Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — писатель по религиозным вопросам, реакционер. — 406, 682.
Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866) — генерал, министр государственных имуществ с 1856 г., противник освобождения крестьян; жестокий усмиритель польского восстания 1863 г. («Муравьев-вешатель»). — 39, 323.
Мурчисон Родерик (1792–1871) — английский геолог, автор работы по геологии России. — 696.
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862) — с 1829 по 1845 г. попечитель Казанского учебного округа, а с 1845 г. — попечитель Петербургского округа. — 47, 136, 141, 177, 237, 332, 369, 370, 379, 397.
Мюнх (Münch) Эрнст (1798–1841) — немецкий историк; автор ряда исторических работ. — 141, 145, 146, 148.
Мюнцер Фома (1490–1525) — радикальный деятель эпохи реформации' и крестьянской войны XVI в. в Германии. — 185.
Н
Надежда Егоровна — см. Лободовская H. E.
Надеждинский — студент-медик, саратовец. — 267.
Наполеон I (1769–1821). — 169, 235, 241, 372, 376, 671.
Наполеон-Луи (1808–1873) — племянник Наполеона I, французский император с 1852 по 1870 г. Пришёл к власти в результате поддержки армии и крестьянства, используя страх буржуазии перед революцией. — 125, 173, 194, 196, 203, 224, 419.
Нат — финляндец, которого Чернышевский готовил к экзамену. — 258, 261, 264, 265, 268, 272, 274, 368.
Наталия Ивановна — квартирохозяйка Терсинских. — 167.
Неволин Константин Алексеевич (1806–1855) — профессор правоведения Петербургского университета — с 1843 г., читал курс истории российского законодательства. Его «Энциклопедия законоведения» издана в 1839–1840 гг. — 89.
Нейлисов Константин Фемистоклович (1828–1887) — студент, однокурсник Чернышевского; позднее преподаватель-филолог, директор гимназии в Петербурге. — 283, 324, 367.
Неклюдов — из саратовской дворянской семьи. — 427.
Некрасов Алексей Сергеевич (1788–1862) — отец Н. А. Некрасова. — 743.
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877). — 289, 714–754, 757.
Некрасов Фёдор Алексеевич (ум. в 1813 г.) — брат Н. А. Некрасова. — 724.
Некрасова Елена Андреевна (ум. в 1841 г.) — урожденная Закревская, мать Н. А. Некрасова. — 742, 743.
Нерон — римский император в 54–68 гг. — 667.
Нестор — монах-летописец XI в. — 39, 49, 56, 61–63, 68, 77, 81, 84, 85 87, 88, 90, 124, 163, 292, 296, 298, 300, 301, 368, 398, 660.
Нибур Бартольд-Георг (1776–1831) — немецкий историк, изучавший главным образом римскую историю. Известен как автор «Римской истории» (изд. в 1811–1832 гг.) и «Истории греческих героев» (изд. в 1842 г., выходила в ряде русских переводов). — 371.
Никитенко Александр Васильевич (1805–1877) — профессор русской словесности; в 1847–1848 гг. один из редакторов «Современника»; по его кафедре Н. Г. брал темы для кандидатской («О „Бригадире“ Фонвизина») и для магистерской работы («Эстетические отношения искусства к действительности ). С 1833 г. был цензором. Об отношении к Чернышевскому и его деятельности см. Никитенко А. В. «Моя повесть о самом себе» (Спб., 1905 г., т. II.). — 65, 84, 97, 100, 105, 108, 111, 116, 119, 124, 128, 130, 134–136, 140, 146, 150–157, 160, 161, 165–170, 178–186, 190–192, 199, 226–229. 234, 240, 242, 245, 249–253, 256, 257, 261, 265, 283, 288, 290, 292, 309–314, 316–329, 337, 338, 341, 342, 350, 352, 359–370, 373, 374, 377, 378, 391, 396, 513, 532.
Николай I (1796–1855) — 237, 243, 419.
Николай Гаврилович — знакомый И. И. Введенского, преподаватель в военно-учебных заведениях. — 343.
Николай Дмитриевич — см. Пыпин Н. Д.
Николай Дмитриевич — см. Чесноков Н. Д.
Николай Ефимович — см. Андреев H. E.
Николай Иванович — см. Костомаров Н. И.
Николай Иванович — см. Кудрявцев Н. И.
Николай Самойлович — студент Петербургского университета. — 51.
Нифонт — новгородский епископ ИЗО–1156 гг. — 398.
Норманская — вероятно, кто-нибудь из семьи саратовского дьякона Нормандова. — 271.
Носович Наум Фаддеевич (Фаддей Ильич) — священник-униат, сосланный в Саратов. — 677, 678, 684–687, 689.
О
Овидий Назон Публий (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский но»т, классик. — 324.
Огарев Николай Платонович (1813–1877). — 733, 734.
Огарева Мария Львовна (ум. в 1853 г.) — урожденная Рославлева, жена Н. П. Огарева. — 733, 734.
Олег (878–912) — киевский князь. — 648.
Ольга Андреевна — повидимому, член семьи Патрикеевых. — 448, 449.
Ольга Егоровна — см. Самбурская О. Е.
Ольга Сократовна — см. Чернышевская О. С.
Олимп и Олимп Яковлевич — см. Рождественский О. Я.
Оржевские — Василий Владимирович (1797–1867), чиновник министерства внутренних дел, позднее сенатор, и его жена Прасковья Петровна. — 190, 271.
Орлеаны — боковая ветвь французского королевского дома. — 224.
Орлов Алексей Фёдорович (1787–1862) — генерал-адъютант, за участие в подавлении восстания декабристов в 1825 г. получил титул графа. С 1844 г. шеф жандармов и главный начальник III отделения. В 1856 г. назначен председателем государственного совета. — 274.
Орлов — студент, однокурсник Чернышевского. — 126, 218, 285.
Орлов Павел Осипович — чиновник, в семье которого В. П. Лободовский давал уроки. — 315, 318, 325.
Ортенберг Иван Фёдорович (1793–1866) — генерал, инспектор кадетского корпуса; с 1856 г. — член учёного комитета (военно-учебных заведений). — 395, 396.
П
Павел Васильевич — см. Акимов П. В.
Павлов Платон Васильевич (1823–1895) — историк, профессор Киевского, а с 1860 г. Петербургского университета; один из инициаторов движения в пользу открытия воскресных школ; в 1862 г. выслан из Петербурга за произнесённую им речь по поводу тысячелетия России. — 759.
Павловский Дмитрий Михайлович — инспектор классов «Дворянского полка». — 390.
Павский Герасим Петрович (1787–1863) — священник, профессор богословия и еврейского языка Петербургского университета; подвергался преследованиям со стороны синода и правительства за сделанный им перевод некоторых частей библии, расходившийся с принятым в православной церкви текстом. — 287.
Палимпсестов Иван Устинович (1818–1902) — агроном, преподаватель саратовской гимназии, впоследствии профессор сельского хозяйства. Автор воспоминаний о Н. Г. («Русский архив», 1890, № 4). — 40, 134.
Палимпсестов Фёдор Устинович — брат И. У., товарищ Чернышевского по семинарии; впоследствии смотритель губернской типографии и акцизный чиновник в Саратове. — 384, 386, 401, 410, 411, 415, 427, 450–459, 462–466, 469, 471, 475, 488–90, 509, 510, 526, 547–549, 553, 557, 560, 561.
Пальм Александр Иванович (1822–1885) — писатель. Привлекался в 1849 г. по делу Петрашевского, провёл 8 месяцев в крепости, но был освобожден. Автор ряда романов и драматических произведений. — 346.
Панаев Иван Иванович (1812–1862) — журналист и беллетрист, с 1847 г. издатель «Современника». — 284, 288, 295, 714–718, 722–725, 732, 733, 740, 746.
Панчулидзев Алексей Давыдович (1762–1834) — саратовский губернатор в 1808–1826 гг. — 648–651.
Пархумов — откупщик, муж сестры Лободовского В. П. — 91–94.
Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик и философ, активно выступавший против иезуитов на стороне сторонников «янсенизма» (приверженцы «строгого христианства»). — 132.
Пасхалова Анна Никаноровна, урожденная Залетаева, по второму мужу Мордовцева; вдова саратовского чиновника; автор книги стихотворений «Отзвуки жизни» (1877 г.). — 476, 479, 490, 492, 493,501, 502, 505, 518, 524, 535, 550–552, 774, 775.
Патрикеева Екатерина Матвеевна — подруга О. С. Чернышевской по Саратову. — 410–412, 415–417, 421, 425–428, 441, 443, 446–449, 457, 458, 462, 465–474, 477, 504–508, 511, 515, 520, 522, 526–529, 533, 546, 549, 554, 556, 558, 566.
Патрикеева Ольга Андреевна — мать Е. М. Патрикеевой. — 457, 551.
Пелагея Васильевна — теща В. П. Лободовского. — 40, 75.
Пелопидов — студент-медик, саратовец. — 89, 134, 213, 267, 293, 308, 311, 340, 341, 401.
Перевлесский Пётр Миронович (ум. в 1866 г.) — профессор русской словесности в Александровском лицее. Автор ряда учебников и учебных пособий. В 1842 г. изданы его «Практическая орфография» и «Практический синтаксис». — 392.
Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788–1880) — профессор астрономии Московского университета, сотрудник «Современника». — 636.
Перре (Perrée) Луи (род. в 1816 г.) — адвокат и политический деятель, редактор газеты «Siècle», член учредительного собрания 1848 г. — 236.
Перро Жюль — преподаватель французского языка в Петербургском университете в 1849–1856 гг. — 315, 317, 321–323, 326, 327, 330.
Персидский — саратовский помещик. — 516, 518.
Песков — знакомый Чернышевского по Саратову. — 410, 553.
Пестель Павел Иванович (1793–1826) — организатор и идеолог «Южного общества» декабристов. — 90.
Петавий (1583–1652) — богослов-иезуит. — 632.
Пётр I (1672–1725). — 91, 122, 238, 374, 375, 624, 696, 704, 746, 747.
Пётр II Алексеевич (1715–1730) — внук Петра I, номинально царствовавший с 1727 по 1730 г. Фактическое управление государством в эти годы было в руках представителей знати, организовавших так называемый «Верховный тайный совет». — 375.
Пётр Григорьевич — см. Клиентов П. Г.
Пётр Петрович (1715–1719) — царевич, сын Петра I. — 375.
Пётр Пустынник — монах-проповедник XI в., организатор первого крестового похода. — 671.
Пётр Фёдорович — см. Раев П. Ф.
Петрашевский (Буташевич-П.) Михаил Васильевич (1821–1866) — служивший в министерстве иностранных дел. Организовал регулярные собрания молодежи, на которых обсуждались общеполитические вопросы и планы общественно-политического преобразования России (обычно в духе социалистов-утопистов, в частности Фурье). 23 апреля 1849 г. был арестован. 22 декабря 1849 г. приговорен к расстрелу, замененному по конфирмации пожизненной каторгой в Забайкальи. Осенью 1856 г. переведён на поселение в Иркутск. — 274.
Петров Александр Дмитриевич (1794–1867) — шахматист, автор руководства по шахматной игре. — 233.
Петровский Алексей Тимофеевич (1818–1867) — родственник Чернышевского, священник, преподаватель саратовской семинарии. — 50, 53, 65, 96, 177, 384.
Петя — см. Пыпин П. Н.
Пий IX (1792–1878) — папа римский в 1846–1878 гг. — 56.
Писарев Иван Васильевич — сожитель Чернышевского по квартире, знакомый но Саратову, смотритель Камышинского духовного училища, позднее петербургский чиновник. — 30–36, 42, 62, 63, 74, 75, 77, 84–86, 89, 92, 93, 96–98, 102, 104, 105, 111-114, 124, 134, 135, 149, 152, 160–167, 189 203 208–210, 213, 215, 233, 235, 239, 265, 279, 283, 284, 287, 288, 295, 299, 308, 310, 312, 318, 345, 361, 364, 379, 390, 473, 554.
Планш (Planche) Густав (1808–1856) — французский литератор и критик. Сотрудничал с начала 30-х годов в ряде журналов: «Revue des deux Mondes», «Journal des Débats» и др. — 258.
Пластов Павел Николаевич (ум. в 1849 г.) — студент-медик, товарищ Чернышевского по саратовской семинарии. — 56–60, 213, 217, 220, 297, 312.
Пластунов А. Ф. — знакомый Чернышевского по Саратову. — 428.
Платон (427–347 до н. э.). — 66, 128, 490.
Плетнёв Пётр Александрович (1792–1862) — профессор истории литературы, ректор Петербургского университета с 1840 по 1861 г., редактор-издатель журнала «Современник» в 1838–1846 гг. — 108, 237, 287, 288, 310, 312, 328, 342, 343, 352, 367, 368, 391, 757.
Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) — поэт. В 1849 г. был арестован но делу Петрашевского и сослан рядовым в оренбургские линейные батальоны; амнистирован в 1856 г. В процессе Чернышевского фигурировало поддельное письмо последнего к Плещееву. — 274.
Плюшар Адольф Александрович (1806–1865) — издатель русской энциклопедии «Энциклопедический лексикон» (17 томом, изд. 1838–1841 гг.) и ряда периодических изданий и книг. — 228, 689.
Погорельский Антон — псевдоним писателя-беллетриста Перовского Алексея Алексеевича (1787–1836). — 634.
Покасовский — саратовский врач. — 601.
Покровский Герасим — студент, однокурсник Чернышевского. — 136, 142.
Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867) — брат Н. А. Полевого, писатель, автор «Записок». — 371.
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — известный литератор и историк, издатель «Московского телеграфа» (в 1825–1834 гг.), закрытого правительством. Автор «Истории русского парода». После накрытия «Московского телеграфа» — реакционер, соратник Булгарина и Греча. — 175.
Полина Ивановна — см. Рычковы.
Полинька — см. Голубева П. И.
Полинька — см. Пыпина П. Н.
Полозов Даниил Петрович (1794–1850) — генерал-лейтенант, начальник I округа корпуса жандармов. — 323, 743.
Поляков Иван Егорович — сын саратовского купца. — 205, 359, 413.
Попов — студент, соквартирант Н. П. Корелкина. — 139, 147, 156, 269, 286, 315, 355.
Прасковья Ивановна — см. Кудрявцева П. И.
Прац Эдуард — владелец типографии, в которой печатался «Современник». — 716, 717.
Прейс Пётр Иванович (1810–1846) — преподаватель Петербургского университета по кафедре истории и литературы славянских наречий с 1843 г. — 149.
Прескотт Вильям (1796–1859) — американский историк, автор «Завоевания Мексики», «Истории царствования Филиппа II» и др. Переводы работ Прескотта печатались в конце 40-х годов в «Отечественных записках» и в «Современнике». — 81.
Пригаровский — офицер в Саратове. — 428, 450, 453, 460, 462, 469, 470, 471, 505.
Прокопий (V—VI в.) — историк ранней византийской эпохи. Автор «Истории» (8 томов). — 152.
Прокопович Феофан (1681–1736) — проповедник и публицист эпохи Петра I. — 597, 632, 678.
Промптов Пётр Иванович — петербургский чиновник. — 36, 96, 134, 139, 214, 332, 338, 386.
Протасов Михаил Семёнович — дьякон. — 562.
Прудентов Николай Дмитриевич (ум. в 1902 г.) — с 1828 г. архивариус саратовской духовной консистории. — 426, 553.
Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865). — 60, 101, 106, 107, 114, 130, 132, 146, 224, 233, 358, 491.
Пти Поль — французский издатель. — 85.
Пугачев Емельян Иванович (1726–1775). — 67.
Пустовойтов Антон Григорьевич — купец, юродивый в Саратове. — 583–597, 631.
Пушкин — см. Мусин-Пушкин.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). — 67, 161, 207, 230, 242, 353, 363, 478, 638, 735, 745.
Пшеленский — студент, однокурсник Чернышевского. — 104, 106.
Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) — двоюродный брат Чернышевского, историк литературы, профессор Петербургского университета. В 1861 г. подал в отставку как протест против репрессий по отношению к студентам. Сотрудник «Современника» и «Вестника Европы». В годы ссылки Н. Г. содержал его семью. Воспоминания его о Чернышевском — см. Пыпин А. Н. «Мои заметки», М. 1910. — 66, 67, 218, 284, 296, 338, 354, 364, 379, 384–396, 401, 440, 497, 499, 500, 502, 526, 536, 555, 758, 759.
Пыпин Николай Дмитриевич (1808–1893) — чиновник из мелкопоместных дворян, дядя Чернышевского, отец А. Н. Пыпина. — 410, 411, 413, 415, 424, 432, 437.
Пыпин Сергей Николаевич — младший брат А. Н. Пыпина, учившийся в саратовской гимназии. — 385, 386, 424, 509, 542, 547, 555.
Пыпина Варвара Николаевна (1831–1892) — двоюродная сестра Чернышевского, родная сестра А. Н. Пыпина. — 384, 386.
Пыпина Пелагея Николаевна (1835–1909) — двоюродная сестра Чернышевского. — 379, 385.
Р
Раво (Raveaux) Франц (1810–1851) — рейнский демократ, член франкфуртского национального собрания, член баденского революционного правительства. — 302.
Раглан Фицрой (1788–1855) — главнокомандующий английской армией в Крымскую войну. — 643.
Радецкий Иосиф (1766–1858) — австрийский фельдмаршал. Яркий представитель реакционного генералитета, жестоко подавлявший всякие попытки революционного движения в 1848–1849 гг. — 89.
Раев Александр Фёдорович (1823–1901) — родственник Чернышевского; жил с ним в первые годы учения в Петербурге на одной квартире; студент, позднее видный петербургский чиновник, член совета министерства финансов. — 42, 45–49, 50, 51, 53, 55, 59, 62, 63, 67–80, 86–113, 118–120, 123, 124, 126, 128–131, 134, 137, 139, 140, 142, 146, 147, 152, 155, 157, 162–165, 168, 172, 173, 176, 177, 180–183, 188–192, 195–199, 201–203, 207–210, 213, 215–219, 234–243, 245–249, 251, 252, 255, 256, 261, 266–270, 272, 274, 276–279, 283–292, 295–300, 304–307, 310, 311, 313, 315–319, 321, 324, 327–332, 335, 338–342, 347, 348, 351, 352, 354, 359–367, 370, 373, 378, 379, 390, 395, 396, 400, 472.
Раев Пётр Фёдорович — брат Раева А. Ф. — 51, 251.
Раев Фёдор Иванович (ум. в 1848 г.) — священник, отец А. Ф. Раева. — 53.
Райковский Андрей Иванович (1802–1860) — профессор Петербургского университета, протоиерей. — 384.
Райковский Сергей Андреевич (1828–1871) — студент Петербургского университета, сын А. И. Райковского; позднее военный, сотрудник «Московских ведомостей». — 126, 228, 231, 232, 234, 236.
Райковский — полковник, учителем детей которого был В. П. Лободовский. — 260.
Распайль Франсуа (1794–1878) — французский революционер, публицист и врач. Организатор и руководитель массовых рабочих демонстраций в 1848 г. Депутат учредительного собрания. Осужден за выступление 15/V 1848 г. и выслан из Франции. Вернулся на родину по амнистии в 1850 г. Избирался депутатом и примыкал к левым радикалам в 60–70 годах. — 124, 125, 143, 253, 287.
Рато (Rateau) Жан-Пьер (род. в 1800 г.) — французский политический деятель, депутат учредительного собрания в 1848 г., активный участник разработки текста конституции. — 221, 236.
Раттье (Rattiez) Франсуа (род. в 1822 г.) — французский политический деятель, депутат законодательного собрания, участник выступления 13 июня 1849 г., принужденный эмигрировать в Лондон. — 287.
Резимон — знакомая А. Ф. Раева. — 190.
Рейбо (Reybaud) Луи (1799–1879) — французский литератор и публицист. В 1836 г. начал публиковать в «Revue des deux Mondes» серию статей, посвященных «реформаторам социального строя». В 1848–1851 гг. принимал участие в политической деятельности, поддерживая Наполеона. — 150.
Рейпольский Иван Николаевич (1789–1863) — медик, профессор Харьковского университета. — 647.
Ремишевский — юнкер. — 552.
Репинский Григорий Кузьмич (1832–1906) — сын товарища Г. И. Чернышевского по пензенской семинарии; позднее судебный деятель и председатель литературного фонда. — 104, 105.
Ржевский Владимир Константинович (1811–1885) — начальник 2-го кадетского корпуса в Петербурге. Впоследствии член совета министра внутренних дел и реакционный публицист. — 394, 395, 397, 398.
Риттер Карл (1779–1859) — немецкий географ, автор многотомного труда «Всеобщая сравнительная география». — 286.
Ришелье Арман (1585–1642) — кардинал, фактический правитель Франции в эпоху Людовика XIII. — 671.
Робертсон Вильям (1721–1793) — английский историк. — 391, 395, 396.
Робеспьер Максимилиан (1758–1794). — 214.
Родионов — знакомый Н. П. Корелкина. — 395.
Рождественский Олимп Яковлевич — саратовец, служил чиновником в Петербурге. — 40, 42, 45, 46, 48, 69, 78, 103, 104, 107, 109, 116, 124, 125, 128, 141, 147, 157, 167, 180, 183, 196, 197, 203, 217, 220, 234, 245, 246, 248, 257, 265, 269, 275, 283, 285, 293, 296, 305, 306, 313, 314.
Розен Егор Фёдорович (1800–1860) — литератор, автор ряда посредственных беллетристических произведений. В 40-х годах постоянный сотрудник «Сына отечества». — 112.
Розенберг — знакомый А. Ф. Раева. — 146, 207.
Роллен Шарль (1661–1741) — французский историк, автор «Истории римского народа». — 597.
Росницкий Иван Андреевич (1808–1889) — священник Мариинской колонии Саратовской губ. — 602, 603.
Росси (Rossi) Луиджи (1787–1848) — итальянский криминалист, экономист и политический деятель. Фактический глава итальянского кабинета в 1848 г., убитый 15 ноября того же года во время восстания. — 226, 227, 234, 237.
Ростислав — см. Васильев Р. С.
Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) — государственный деятель; участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. С 1835 г. состоял начальником штаба по управлению военно-учебными заведениями. — 371, 743.
Рубцева — племянница Оржевских. — 271.
Ру-Лавернь (Roux-Lavergne) Пьер (1802–1874) — французский писатель и политический деятель клерикального направления. В 1848 г. депутат учредительного собрания; поддерживал Наполеона. — 141, 153.
Румянцев Николай Петрович, граф (1754–1826) — министр иностранных дел при Александре I, основатель ценного собрания картин, книг и рукописей. — 332.
Руссо Жан-Жак (1712–1778). — 396.
Рычков Вениамин Иванович (ум. в 1853 г.) — двоюродный брат О. С. Чернышевской. — 522.
Рычковы — Лидия Ивановна и Полина Ивановна — двоюродные сёстры О. С. Чернышевской. — 468, 505, 521, 526–530, 532, 536, 537, 541, 545, 558.
Рюккерт Фридрих (1788–1866) — немецкий поэт. — 296.
Рюмин Владимир Николаевич — преподаватель в «Дворянском полку», член кружка И. И. Введенского; в 1857–1858 гг. редактор-издатель журнала «Общезанимательный вестник». — 400, 401, 499.
Рюрик — киевский князь в 862–879 гг. — 648.
С
Саблуков Гордей Семёнович (1804–1880) — преподаватель саратовской семинарии, а затем казанской духовной академии. Ориенталист и археолог. У него Н. Г. Чернышевский учился татарскому и арабскому языкам. — 403, 702.
Савельич (Прытков Варлаам Савельевич, ум. в 1865 г.) — университетский швейцар. — 91, 99, 219, 285, 307, 357, 379.
Савин — знакомый А. Ф. Раева. — 104.
Сальванди (Salvandy) Нарцисс (1795–1856) — французский историк и политический деятель; при Луи-Филиппе был дважды министром народного просвещения. — 148, 149.
Самбурская Ольга Егоровна — сестра Лободовской, жена Самбурского Н. С. — 32, 143–145, 147, 151, 222, 234, 235, 261, 270.
Самбурский Николай Самойлович — свояк В. П. Лободовского. — 43, 143, 144, 180.
Сахаров — саратовский чиновник. — 463, 475.
Саша (Сашенька) — см. Пыпина А. Н.
Светоний — римский историк, живший в конце I и в первой половине II века н. э. Автор «Жизни 12 императоров». — 106, 130, 140, 142, 175, 186, 302.
Свечина — из саратовской дворянской семьи. — 408.
Свинцовы (отец и сын) — саратовские знакомые Чернышевского. — 39.
Святогорец (Семён Авдеевич Веснин, 1814–1853) — в монашестве Сергей. Воспитанник вятской семинарии, принявший монашество и в 1843 г., поселившийся на Афоне. Автор книг об Афоне и его монастырях. — 406.
Святослав (942–972) — киевский князь. — 648.
Сей Жан-Батист (1767–1832) — французский экономист, один из родоначальников так называемой «вульгарной школы» политической экономии. [850] Его работа «Катехизис политической экономии» в русском переводе была издана в 1833 г. — 188.
Сенар Антуан-Мари (1800–1885) — французский адвокат и политический деятель; председатель учредительного собрания в 1848 г. и министр внутренних дел в кабинете Кавеньяка. — 124.
Сенека Луций (54 до н. э. — 39 н. э.) — римский философ-стоик. — 480.
Сент-Олер Луи-Клер (1778–1854) — французский историк и политический деятель при июльской монархии. Автор «Истории фронды» (изд. 1827 г.), где фронда рассматривалась как первая попытка создания конституционной монархии. — 139.
Сераковский Сигизмунд Игнатьевич (1826–1863) — польский революционер; в 1848 г. арестован и сослан рядовым в оренбургский корпус; в 1856 г. произведен в офицеры и поступил в Академию генерального штаба. В Петербурге сблизился с Чернышевским, сотрудничал в «Современнике». В 1863 г. принимал активное участие в польском восстании, был взят в плен и повешен. — 623, 624.
Серапион — см. Благосветлов С. Е.
Серафима Григорьевна — см. Шапошникова С. Г.
Сербжинский Василий Иванович (1786–1833) — профессор математики Петербургской духовной академии, составитель учебника алгебры. — 302.
Сергей Гаврилович — см. Шапошников С. Г.
Сережа — см. Пыпин С. Н.
Сидонский Иван Фёдорович — студент Петербургского университета, сын Ф. Ф. Сидонского. — 82, 104, 327, 333, 335.
Сидонский Фёдор Фёдорович (1805–1873) — священник, профессор философии и богословия Петербургского университета. — 8, 104, 217–220, 231, 233.
Сисмонди Леонард (1773–1842) — швейцарский экономист и историк; идеолог мелкой буржуазии, хозяйству которой угрожал развивающийся капитализм. — 191, 334, 335, 341, 354.
Скарино Иосиф Петрович:— отставной поручик. — 689–691.
Славинский — студент-медик, сын С. Славинского. — 332.
Славинский Степан — священник в Петербурге. — 266.
Славинский Яков Степанович — сын С. Славинского, однокурсник Чернышевского. — 33, 38, 74, 75, 78, 89, 90, 104, 128, 129, 131, 132, 137, 141, 144, 146–150, 171, 177, 182, 195–198, 201, 202, 204, 206, 213, 217–219, 233, 238, 239, 243, 244, 246, 249, 250, 256, 261, 266, 268, 269, 275, 279, 283, 285, 286, 288–292, 299, 301, 304–308, 310, 325, 331, 332, 336, 339, 340, 346, 359, 361, 363, 365–368, 371, 372, 375–377, 379, 384, 390, 393.
Смарагдов Сергей Николаевич (ум. в 1871 г.) — писатель и педагог; автор ряда учебников по всеобщей истории. — 183.
Смирнов — переплетчик в Саратове. — 504, 551.
Снежницкий Александр Яковлевич (ум. в 1876 г.) — священник в Гатчине. — 96, 203.
Снежницкий Яков Яковлевич — священник в Саратове. — 627, 690.
Соколов Александр — студент, однокурсник Чернышевского. — 104, 159, 172, 225, 347, 353.
Соколов Иван Яковлевич — преподаватель греческого языка в Петербургском университете. — 124.
Соколов Михаил Павлович — знакомый И. Г. Терсинского. — 310, 315.
Сокольский Пётр Максимович — саратовец, брат преподавателя саратовской семинарии К. М. Сокольского. — 238.
Сократ Евгеньевич — см. Васильев С. Е.
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — крупнейший русский историк середины XIX в., оказавший значительное влияние на развитие русской исторической науки. — 202.
Соломко — возможно, Афанасий Данилович (1786–1872), инспектор арсеналов и портов. — 111, 351, 360.
Сорочинский — знакомый Чернышевского по Саратову. — 551.
Сосницкий Иван Иванович (1794–1877) — известный петербургский драматический артист. — 150, 194.
Сосфенов — знакомый Чернышевского. — 388.
Софокл (495–406 до н. э.) — древнегреческий писатель, один из трёх корифеев античной трагедии. — 105.
Софья Никифоровна — знакомая А. Ф. Раева. — 142.
Спасович Владимир Данилович (1829–1906) — юрист, профессор Петербургского университета, вышедший в 1861 г. в отставку в виде протеста против закрытия университета правительством в связи с студенческими волнениями; позднее адвокат и либеральный публицист, один из ближайших сотрудников «Вестника Европы». — 757–759.
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — руководитель правительственного аппарата в эпоху Тильзитского мира и континентальной блокады, разработавший план буржуазного преобразования государственного строя России. В 1812 г. под давлением крепостнической знати, отправлен в ссылку. В 1821 г. возвращен в столицу и занимался составлением Полного собрания законов и Свода законов. — 146.
Срезневская Екатерина Фёдоровна — жена И. И. Срезневского.— 169, 273, 353, 380.
Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) — филолог, профессор Петербургского университета, в 1847–1848 гг. читал курс славянских древностей; записи этого курса Н. Г. Чернышевский начал составлять 19/VI 1848 г. и закончил эту работу 14/XI 1848 г. — 38, 65, 84, 90–94, 98–100, 103, 106–114, 119, 123–126, 130–139, 142, 143, 146, 150–157, 159–163, 165–171, 174–177, 183, 198, 200, 202, 225, 237, 240, 246, 247, 252, 256, 261, 265, 266, 272–277, 281, 282, 290–292, 295, 299–301, 309–311, 316, 319, 320, 322, 323, 325–326, 329, 331, 333–335, 342, 343, 348, 349, 351, 353, 354, 359–366, 368–370, 373, 378, 380, 382, 390, 395, 397–401, 474, 482, 499, 513, 536, 755, 756.
Сталь (Staël) Анна-Луиза (1766–1817) — французская писательница, салон которой был центром либеральной интеллигенции. — 476.
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — глава московского философско-литературного кружка 30-х годов XIX века, в состав которого входили К. Аксаков, В. Белинский, Т. Грановский, М. Бакунин и др. Этот кружок имел большое влияние на развитие критического отношения к крепостническому строю. Из произведений Станкевича наиболее ценна переписка с друзьями, изданная после его смерти в 1857 г. — 390.
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) — профессор истории Петербургского университета; с 1865 г. издатель умеренно-либерального «Вестника Европы». — 316, 758, 759.
Стефани Святослав Фёдорович — саратовский врач, один из основателей первого в Саратове учёного общества «Беседа врачей» в конце 50-х годов. — 408, 411, 414, 417–419, 429, 501, 550, 551, 601.
Стибургский — чиновник. — 262.
Стобеус Александр Яковлевич — чиновник. — 183, 217, 218, 547.
Страффорд (Вентворт) Томас (1593–1641) — английский государственный деятель. Вначале, являясь членом палаты общин, примыкал к парламентской оппозиции, но затем стал ревностным слугою абсолютизма. После созыва так называемого «долгого парламента» был предан суду и казнен. — 137.
Страхов Николай Николаевич (1828–1896) — философ, литературный критик и публицист реакционного направления. — 779.
Струков — чиновник ведомства, в котором служил А. Ф. Раев. — 70.
Ступин Александр Дмитриевич — сын Д. Е. Ступина. — 767.
Ступин Павел Дмитриевич — сын Д. Е. Ступина. — 767.
Ступина Анна Дмитриевна — дочь Д. Е. Ступина. — 283, 284, 286.
Ступина Варвара Дмитриевна — дочь Д. Е. Ступина. — 53, 55, 212.
Ступина Наталья Дмитриевна — дочь Д. Е. Ступина. — 212, 763–772, 776.
Ступины — дочери Дмитрия Емельяновича Ступина, саратовского стряпчего. — 770, 775.
Суворов Александр Аркадьевич, князь (1804–1882) — петербургский генерал-губернатор в 1861–1866 гг. — 759, 761.
Сю Эжен (1804–1857) — французский романист, был близок в 40-х годах к фурьеристам. Начав с исторических романов, перешёл к социальному роману. Его произведения («Парижские тайны», «Вечный жид» и др.) получили широкую известность и сыграли роль в идейной подготовке революции 1848 г., депутат законодательного собрания, после переворота Луи-Наполеона в 1851 г. принужден был эмигрировать. Ряд произведений Сю был напечатан в переводе «Отечественными записками» за 40-е годы. — 234.
Т
Татищев Василий Никитич (1686–1750) — русский историк и государственный деятель. Автор «Истории российской с самых древнейших времен» (в пяти томах; 1-й том издан в 1768–1769 гг., 2–4-й томы — в 1770–1780 гг. и 5-й том — в 1848 г.). Активный сподвижник Петра I. В 1730 г. выступил с проектом ограничения царской власти сенатом и выборности должностных лиц. Проект его не нашёл поддержки в основной массе дворянства. — 375.
Теренций Публий (около 185–159 гг. до н. э.) — римский писатель, автор ряда комедий и стихотворений. — 302.
Терещенко Александр Васильевич (1806–1865) — этнограф и археолог. Отличался большим трудолюбием и слабой научной подготовкой. Основная его работа — «Быт русского народа» (изд. 1848 г.). — 88, 114, 206.
Терсинская Любовь Николаевна (1821–1852) — двоюродная сестра Чернышевского, подруга его детства (дочь от первого брака Александры Егоровны Пыпиной); до замужества носила фамилию Котляревской. — 35, 36, 39, 40, 42–74, 76, 80, 81, 86–91, 94, 97–99, 102, 103, 107, 109, 112–116, 120, 123, 133, 135; 137, 139, 144, 146, 147, 150, 151, 154–156, 160, 162, 163, 165–171, 173, 175, 176, 179–182, 184, 186, 189, 191, 197, 200, 201, 206, 209, 212–221, 226, 229, 237, 242, 247, 249–251, 266, 274, 277, 283, 285–287, 291, 294–300, 303–317, 321, 327, 328, 331, 333–339, 342–347, 354, 359, 363, 364, 369, 377–379, 387, 389–391, 396, 399, 530, 708, 712, 713.
Терсинский Иван Григорьевич (1817–1888) — муж двоюродной сестры Чернышевского Л. Н. Котляревской, чиновник сената. — 35, 39–43, 45–50, 52–74, 77, 80, 81, 86–89, 91, 94, 97–99, 102, 103, 107, 109, 112–116, 120, 123–126, 134–141, 144–147, 150, 151, 154–156, 160–176, 179, 180, 183–191, 197–201, 203–208, 211, 215–219, 222, 226–231, 238–241, 247, 257, 259, 261, 262, 269, 274, 275, 285–287, 291, 294, 296–300, 303–308, 311–316, 321, 328, 336, 342, 360, 379, 385, 389–391, 396, 497, 499, 500, 627.
Тибулл Альбий (около 54–19 гг. до н. э.) — древнеримский поэт, один из первых римских лириков. — 365, 368.
Тимаев Николай — студент Петербургского университета, однокурсник Н. Г. Чернышевского; позднее — педагог-историк, автор учебников по истории, рецензию на которые Чернышевский напечатал в № 5 «Современника» за 1861 г. (см. VII том настоящего издания). — 359, 361.
Тихонов — начальник пажеского корпуса, с 1802 г. переданного в ведение ведомства военно-учебных заведений. — 395, 397.
Тищенко Т. И. — ученик Чернышевского по саратовской гимназии. Воспоминания его о Н. Г. Чернышевском напечатаны Духовниковым Ф. В. в «Русской старине» за 1890 г., № 9. — 430, 431, 524, 542, 560.
Тихомиров — студент, однокурсник Чернышевского. — 144.
Толстой (Толстов) Алексей Дмитриевич — студент Петербургского университета, привлекался по делу Петрашевского и был отправлен рядовым на Кавказ. — 266.
Толченов Александр Павлович (ум. в 1888 г.) — актёр Александринского Театра до середины 50-х годов и драматург. — 206.
Топильский Сила Степанович (ум. в 1873 г.) — священник, церковный писатель. — 396.
Тредьяковский Василий Кириллович (1703–1769) — поэт. — 597.
Троицкий Николай Филиппович (1808–1849) — врач в Саратове, автор ряда медицинских работ. — 175, 600, 601.
Трошю Луи-Жюль (1815–1896) — французский генерал и политический деятель. Как военный впервые выдвинулся в алжирской экспедиции (1840) [853] Губернатор Парижа и руководитель его защиты в 1870 г. Был избран президентом правительства национальной обороны после падения Третьей империи. — 252.
Трояновский (или Троянский) — студент, однокурсник Чернышевского. — 227, 229, 238, 306, 307.
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883). — 723–741, 746, 747, 750.
Турчанинов Николай Петрович — ученик Чернышевского по саратовской гимназии, товарищ Добролюбова по педагогическому институту. — 755, 756.
Туффе Мария Семёновна — жена управляющего домом, где жил И. В. Писарев. — 85.
Туффе Н. Анд. — родственница М. С. Туффе. — 209, 210, 235.
Тушев — студент, однокурсник Чернышевского. — 33, 124, 126, 130, 144, 159, 226, 283.
Тьер Адольф (1797–1877) — французский историк и политический деятель. Автор многотомной «Истории консульства и империи» (21 том, изд. с 1845 по 1869 г.). При июльской монархии был не раз министром и показал себя ожесточенным противником демократии и социализма. После революции 1848 г. не играл видной политической роли до 1870 г. В 1871 г. избран «главой исполнительной власти» и президентом республики. Беспощадный палач Парижской коммуны. — 107, 173, 174, 220, 224, 225, 227, 233.
У
Уваров Сергей Семёнович (1786–1855) — министр народного просвещения в 1833–1849 гг. Ему принадлежит формула «православие, самодержавие и народность» как основной принцип политики самодержавия в области просвещения. — 66.
Уваров (молодой) — очевидно, имеется в виду известный археолог Уваров Алексей Сергеевич (1828–1884). Он окончил в 1845 г. Петербургский университет и с 1848 г. занимался археологическими исследованиями на юге России. Оказывал материальною помощь учёным-археологам. С 1864 г. был председателем Московского археологического общества. — 350.
Удино (Oudinot) Николай-Шарль (1791–1863) — французский генерал и политический деятель (сын наполеоновского маршала Шарля-Николая Удино, 1767–1847). Командовал войсками итальянской экспедиции и в 1849 г. 1/VII взял Рим. В законодательном собрании примыкал к орлеанистам. — 236.
Ульяна Яковлевна — мать Лободовской H. E. — 218.
Устинья — домработница у О. Я. Рождественского. — 314.
Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) — профессор русской истории в Петербургском университете, автор «Русской истории» (5 томов 1837–1841 гг.), «Истории Петра Великого» (4 тома, 1858–1864 гг.) и ряда учебников. — 100, 111, 116, 117, 120, 123, 149, 150, 160, 175, 176, 181, 187, 194, 202, 225, 227, 232, 240, 246, 251, 277, 278, 310–313, 315, 323, 333, 334, 341, 355, 360, 365, 370, 371, 373–375, 513.
Утин Борис Исаакович (1832–1872) — юрист, профессор Петербургского университета; позднее судебный деятель и либеральный публицист, сотрудник «Вестника Европы». — 757–759.
Ф
Феваль Поль (1817–1887) — романист, один, из наиболее плодовитых французских писателей, бравший для своих произведений необычные сюжеты и эффектные ситуации. — 226.
Фёдор Афанасьевич — знакомый В. П. Лободовского. — 248, 249.
Фёдор Дмитриевич — см. Чесноков Ф. Д.
Фёдор Иванович — см. Раев Ф. И.
Фёдор Степанович — знакомый Чернышевского по Саратову — 384, 547, 560.
Фёдор Степанович — см. Вязовский Ф. С.
Фёдор Устинович — см. Палимпсестов Ф. У.
Федот Матвеевич — полицейский чиновник. — 114, 115, 129,
Фейербах Людвиг (1804–1872). — 248, 249, 251, 253–256, 297, 304, 358, 388, 391, 402.
Фесслер Игнатий-Аврелий (1756–1839) — философ, богослов и историк; в 1809 г. был приглашен из Берлина в Петербург на должность профессора восточных языков и философии, но вскоре обвинен в атеизме и выслан в Вольск, Саратовской губ.; в 1813–1833 гг. президент евангелической консистории в Саратове; с 1833 г. занимал такую же должность в Петербурге. — 304.
Филипп Прекрасный — Филипп IV, король французский в 1285–1314 гг. В его царствование продолжался процесс упадка могущества феодалов и укрепления абсолютизма. — 91.
Филиппов Павел Николаевич (1825–1855) — студент Петербургского университета; в апреле 1849 г. был арестован по делу Петрашевского и приговорен к расстрелу, замененному военно-арестантскими ротами. Убит при штурме Карса. — 222, 295, 296, 299, 305.
Фильдинг Генри (1707–1754) — английский беллетрист. — 358.
Фихте Иоганн (1762–1814) — немецкий философ-идеалист. — 232.
Фишер Адам Андреевич (1799–1861) — профессор философии и педагогики в Петербургском университете. — 33, 119, 136, 141, 185, 207, 227, 282, 283, 364, 367.
Фишер Фридрих-Теодор (1807–1888) — немецкий эстетик, профессор Тюбингенского университета. Был учеником Гегеля. Автор известной работы по эстетике: «Aesthethik oder Wissenschaft des Schönen» (6 тт., Лейпциг, 1846–1856 гг.). — 513.
Флокон Фердинанд (1800–1866) — французский политический деятель и журналист. В 1845–1848 гг. редактор «Réforme». После февральского переворота член временного правительства. Противник июньского восстания, но требовал амнистии для участников восстания. В 1851 г. вынужден был эмигрировать в Швейцарию. — 115, 124.
Фогелев — знакомый семьи Васильевых, впоследствии женившийся на П. И. Рычковой, двоюродной сестре О. С. Чернышевской. — 439–441, 468, 469.
Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) — автор «Недоросля». — 364, 366, 368, 369.
Фребель Юлиус (1805–1893) — немецкий радикальный публицист, депутат франкфуртского национального собрания, примыкавший к левому крылу. В 60-х годах состоял на службе австрийского правительства. — 125, 172.
Фрейман — знакомый Н. И. Костомарова. — 559.
Фройнсгейм Иоанн (1608–1660) — немецкий филолог и историк. — 632.
Фрейтаг Фёдор Карлович (1800–1859) — профессор римской словесности и древностей в Петербургском университете. — 105–107, 113, 114, 116, 120, 121, 130, 131, 134, 136, 137, 142, 144, 149, 155, 157, 159, 175, 181, 182, 186, 188, 191–194, 202, 222, 225, 227, 228, 231–236, 240, 243, 245, 248, 250, 253, 255, 258, 260, 265, 278, 279, 315, 317, 319, 322–326, 329, 331, 333–335, 342, 344, 348, 349, 351, 354, 360–363, 367, 368, 378, 561.
Фукидид (около 460–399 до н. э.) — греческий историк. Автор «Истории Пелопонесской войны». Один из основоположников истории как особой дисциплины. — 116, 125, 238.
Фурсов — студент университета, назначен учителем в Псков в 1848 г. — 33, 84, 113, 184, 234.
Фурье Шарль (1772–1837) — французский социалист-утопист. Основные положения его учения изложены им в работах «Теория четырёх движений» (изд. 1808 г.), «Всеобщее единство» (изд. 1822 г.), «Новый мир» (изд. 1829 г.), Идеалистические корни фурьеризма ясны из особого значения, которое Фурье придавал своей теории «человеческих страстей». Несомненно положительной чертой фурьеризма является разоблачение им внутренних противоречий капиталистического строя. Учение Фурье оказало заметное влияние на мировоззрение Чернышевского. — 178, 181, 183, 186, 188–191, 194–196, 233.
Х
Ханыков Александр Владимирович (1828–1853) — вольнослушатель Петербургского университета, член кружка Петрашевского, один из ревно[855]стных последователей учения Фурье. В 1849 г. Ханыков был арестован и приговорен к расстрелу, замененному лишением прав состояния и отдачей в рядовые в оренбургские линейные батальоны. Умер в Орской крепости от холеры. — 178, 179, 181, 182, 184–186, 188, 190, 191, 195, 196, 200, 202, 219, 229, 230, 235, 239, 240, 247, 248, 256, 265, 266, 274, 345, 346, 359.
Xрущов Михаил Николаевич — управляющий Мариинской колонией Саратовской губ. — 602, 604, 607, 608.
Ц
Цезарь Юлий (102–44 до н. э.) — римский диктатор. — 193, 668.
Цепелев — управляющий канцелярией попечителя Казанского учебного округа. — 387.
Церникав Адам — см. Зерникав А.
Цибулевская Анна Ивановна (ум. в 1853 г.) — урожденная Кириллова, сестра бабки Чернышевского. — 439, 506, 514, 546, 560, 583, 584, 635, 636, 638, 658.
Цицерон Марк (106–43 до н. э.) — римский оратор и писатель. В истории античной литературы его произведения берутся как образцы классического ораторского искусства. — 193, 265, 391.
Ч
Чайковский Антоний Павлович (1816–1873) — профессор польского права Петербургского университета. — 191.
Черницкий — дьякон. — 226.
Чернышев Александр Иванович, князь (1785–1857) — военный министр в 1827–1852 гг., позднее председатель государственного совета; типичный представитель абсолютизма эпохи Николая I. — 754.
Чернышевская Евгения Егоровна (1803–1853), урожденная Голубева, дочь саратовского священника, мать Н. Г. Чернышевского. — 384–386, 410, 415, 457, 479–481, 493–496, 500, 506, 512, 535, 538, 539, 541, 544, 546, 547, 557, 560–562, 567, 590, 675, 677.
Чернышевская Ольга Сократовна (1833–1918), урожденная Васильева — дочь саратовского врача, жена Н. Г. Чернышевского. — 410–564, 639, 714.
Чернышевский Гавриил Иванович (1793–1861) — саратовский протоиерей, отец Н. Г. Чернышевского. Окончил пензенскую духовную семинарию. В 1818 г. был посвящен в священники и назначен настоятелем Сергиевской церкви в Саратове. Преподавал разные предметы в ряде учебных заведений и состоял инспектором саратовских духовных и приходских училищ. — 385, 386, 457, 479, 480, 494, 496, 535, 538, 539, 544, 560, 561, 567, 591, 593, 594, 628, 636, 677, 691, 702, 703.
Чернышевский Иван Фотиевич — священник, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. — 382, 383.
Чернявский — знакомый А. Ф. Раева. — 213, 282, 288.
Черняев Константин Иванович — бывший студент университета, окончивший юридический факультет. — 268–270, 275, 279, 287, 288.
Черняев Пётр Иванович — повидимому, брат Черняева К. И. — 293.
Чесноков Василий Дмитриевич — сын Д. Я. Чеснокова, сверстник Н. Г. Чернышевского. Воспоминания его о Чернышевском напечатаны в «Русской старине» за 1890 г., № 9, в статье В. Ф. Духовникова «Н. Г. Чернышевский и его жизнь в Саратове. — 1828–1846 гг.» — 411, 415–417, 425, 426, 435, 437, 443, 445, 446, 448, 449, 475, 479, 493, 505, 508, 510, 513, 516–518, 520–522, 529, 536, 548, 550, 551, 554–561.
Чесноковы Дмитрий Яковлевич — в 40-х годах чиновник саратовской казенной палаты — и его жена Дарья Гавриловна. — 449, 522.
Чесноков Николай Дмитриевич — сын Чеснокова Д. Я. — 359.
Чесноков Фёдор Дмитриевич — сын Чеснокова Д. Я. — 545, 546, 548.
Чеснокова Анна (Анюта) — дочь Чеснокова Д. Я. — 359, 447.
Чистяков Михаил Борисович (1809–1885) — педагог петербургских гимназий, инспектор сиротского института. Автор «Очерка теории изящной словесности» (Спб., 1842) и «Курса теории словесности» (Спб., 1847). — 269–272, 274–276, 298, 363, 393, 394.
Чумиков Александр Александрович (1819–1902) — педагог и писатель. Автор «Первоначального чтения» (1847) и других учебных пособий. При[856]мыкал к кружку И. И. Введенского. Издавал «Журнал для воспитания» с 1857 по 1863 г., в котором сотрудничал Н. А. Добролюбов. — 346, 347.
Ш
Шабо (Chabot) Франсуа (1759–1794) — член конвента, сторонник Дантона, казненный вместе с ним. — 193.
Шаплет Самуил Самуилович (ум. в 1834 г.) — известный в начале XIX в. переводчик. Ему принадлежит русский перевод нескольких романов Вальтер-Скотта, перевод «Дон-Кихота» (1831) и др. — 147.
Шапошников Гавриил Михайлович — саратовский губернский казначей. — 410, 411, 415, 437, 441–443, 460–467, 472, 525, 527.
Шапошников Иван Гаврилович — сын Шапошникова Г. М. — 438, 439.
Шапошников Сергей Гаврилович — сын Шапошникова Г. М., чиновник саратовской казенной палаты. — 428, 438, 461, 464, 467, 475, 517, 555, 556.
Шапошникова Анна Ивановна — жена Шапошникова Г. М. — 439, 506, 514, 546, 560.
Шапошникова Серафима Гавриловна — дочь Шапошникова Г. М. — 404, 406, 408, 437–441, 446, 447, 453, 456, 515, 527, 556, 557.
Шатобриан Франсуа (1768–1848) — французский писатель. В его произведениях отразились настроения разгромленного революцией старого дворянства, что придало его творчеству реакционно-меланхолическое направление, идеализирующее старину. — 82, 163, 184, 188, 198, 218, 221, 237, 239, 255.
Шафарик Павел (1795–1861) — известный словакский филолог и политический деятель. Автор «Славянских древностей» (изд. 1837 г.), «Истории славянского языка и литературы по всем наречиям», «Славянской этнографии» и др. — 91, 139, 170, 401.
Шаховской Александр Александрович (1777–1846) — писатель-драматург. — 364.
Швецов Пётр Иванович — знакомый Чернышевского. — 222, 223, 243.
Шеве — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427.
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — историк литературы и писатель, один из идеологов так называемой «официальной народности»; находился в близких отношениях с Погодиным, С. С. Уваровым и др. — 112, 398.
Шекспир Вильям (1564–1616). — 88, 111, 135, 241, 326, 327, 353, 683, 745.
Шеллинг Фридрих (1775–1854) — немецкий философ-идеалист. Влияние его философии в России было особенно велико в 30–40-х годах XIX в. (В. Ф. Одоевский, бр. Киреевские, Хомяков, Белинский в молодости и др.). — 147, 203.
Шереметевы — дворянская семья, одни из крупнейших земельных собственников и России. — 100.
Шиллер Иоганн-Фридрих (1759–1805). — 103, 106, 358, 525.
Шлегель братья — Август-Вильгельм (1767–1845) и Фридрих (1772–1829) немецкие философы и поэты. Идеологи романтизма. «Лекции о драматическом искусстве и литературе» Августа-Вильгельма и «Лекции о древней и новой литературе» Фридриха пользовались большой известностью. — 204.
Шлиттер Эдуард Егорович (1800–1848) — адъюнкт по кафедре римской словесности в Петербургском университете. — 144.
Шлоссер Фридрих-Христофор (1776–1861) — немецкий историк. Его «Всемирная история», доведенная до 1815 г., и «История XVIII века» были позднее переведены на русский язык по инициативе Чернышевского и при его ближайшем участии. — 207, 254, 333.
Шомполов — повидимому, Шомпулев В. А., чиновник при саратовском губернаторе, позднее саратовский предводитель дворянства. — 409.
Шпанов — попутчик Чернышевского во время поездки его в 1850 г. в Саратов. — 382, 383.
Штейнман Иван Богданович (1820–1872) — профессор греческой словесности Петербургского университета. — 317, 322, 330, 367, 376.
Штраус Давид-Фридрих (1808–1874) — немецкий философ, левый гегельянец. Автор известной работы «Жизнь Иисуса» (изд. в 1835 г.). В этой книге Штраус, считая Иисуса личностью исторической, евангельские рассказы признает легендами, сложившимися в первых христианских общинах. — 402.
Щ
Щеглов Дмитрий Фёдорович (ум. в 1902 г.) — товарищ Добролюбова по педагогическому институту; в то время человек, настроенный революционно, позже реакционный публицист, педагог. — 756.
Щепкин Михаил Семёнович (1788–1863) — известный артист московского Малого театра. — 331.
Э
Эггерс — владелец книжного магазина в Петербурге. — 140.
Эджворт Мария (1767–1849) — английская писательница. Автор ряда популярных дидактических романов и детских рассказов. — 228.
Эйнерлинг — издатель 5-го издания «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. — 369.
Элькан Александр Львович (1786–1868) — чиновник управы благочиния, переводчик и театральный рецензент. — 169, 170, 173, 184.
Эльсер Фанни (1810–1878) — известная танцовщица, в 40-х годах с огромным успехом гастролировавшая в России. — 171, 196, 217.
Эльснер Людвиг Фёдорович — преподаватель немецкого языка в Петербургском университете. — 378.
Эрш — Энциклопедический словарь Эрша и Грубера — см. примеч. 43. — 103, 293, 304.
Ю
Юнгмейстер — владелец публичной библиотеки в Петербурге. — 301, 302, 326.
Юрасова Софья Ивановна — дочь советника саратовского губернского правления. — 408.
Юрасовы — семья Ивана Павловича Юрасова, советника саратовского губернского правления. — 408.
Юрий Долгорукий (ок. 1090–1157) — великий князь Владимиро-Суздальской Руси. — 346.
Я
Языков Михаил Александрович (1811–1885) — член кружка В. Г. Белинского. — 732.
Якоби — управляющий соляным отделением. — 234.
Яков Степанович — см. Славинский Я. С.
Яков Яковлевич — см. Снежницкий Я. Я.
Яковлев Владимир Дмитриевич (1817–1884) — писатель, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок». — 400.
Яковлев — знакомый О. С. Чернышевской. — 417, 453, 461, 463, 492, 505, 512.
Яковлев Иван Яковлевич — врач Мариинской колонии Саратовской губ. — 599, 602–614, 675.
Яковлевы братья — Иван Алексеевич (1767–1846), отец А. И. Герцена, и Александр Алексеевич (1762–1825). — 381.
Ярополк I — киевский князь в 973–980 гг. — 353.
Ярославцев Андрей Константинович (1815–1884) — беллетрист, секретарь совета Петербургского университета, цензор. — 395.
Яхонтов Иван Константинович (1819–1888) — священник, духовный писатель; с 1862 г. редактор «Духовной беседы». — 71, 147, 247.
А. Луначарский. «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности». «Вестник Коммунистической Академии», кн. 25. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 170—171. (Везде цитируется по III изд. 1931 г.) ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 143. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 144. ↩︎
Чернышевский, как человек чрезвычайно скромный, говоря о себе, всегда старался выставить себя в смешном виде, выставить в преувеличенном виде свои недостатки или даже приписать себе такие, которых у него совсем не было. Так он делает и в данном случае. В действительности никакой трусости у него не было; как показала вся его жизнь, он был очень мужественным, стойким революционером. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 178. ↩︎
Ленин. Соч., том IV, стр. 126. ↩︎
Ленинский сборник, XXV, стр. 231. ↩︎
Ленин. Соч., том XIII, стр. 295. ↩︎
Ленин. Соч., том XVII, стр. 224. ↩︎
Ленин. Соч., том XVII, стр. 342. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 144. ↩︎
Ленин. Соч., том XVII, стр. 342. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 178. ↩︎
Ленин. Соч., том XVI, стр. 283. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 466—467. ↩︎
Ленин. Соч., том XVII, стр. 341—342. «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев»… — говорит Ленин в уже цитированной статье «Памяти Герцена» (том XV, стр. 467). ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 143. ↩︎
Ленин. Соч., том XVII, стр. 342. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 468–469. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 170. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 303–338. ↩︎
Ленинский сборник, том IV, стр. 13–14. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 314. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 323—324. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 324—325. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 328. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 330. ↩︎
То есть марксист. ↩︎
Ленин. Соч., том II, стр. 330—331. ↩︎
Ещё позже, в эпоху пролетарской революции, выродившееся народничество (эсеры, энесы и т. д.), вступив в борьбу против революционного пролетариата и его требований, превратилось в силу прямо контрреволюционную. Народнические контрреволюционеры того времени не имеют, конечно, ничего общего с великим демократом и революционером Н. Чернышевским. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 165. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 170. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 95—97. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 143—144. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 145. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 145—146. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 98. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 142. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 147. ↩︎
Ленин. Соч., том XV, стр. 98. ↩︎
Ленин. Соч., том I, стр. 178. ↩︎
Исправленная опечатка. Было: «в себе». ↩︎
Изобретение «вечного двигателя» (perpetuum mobile) занимало Чернышевского в течение 1848 и 1849 гг. Он придавал ему огромное значение, рассчитывая стать при удачном разрешении проблемы «благодетелем человечества» (7/III, 22/V и 11/VII 1849 г.; 9/I 1853 г.), и столь верил в возможность этого разрешения, что летом 1849 г. приступал к практическому (и, разумеется, неудачному) опыту. ↩︎
«Débats» — «Journal des Débats» — парижская ежедневная газета: после февральского переворота 1848 г. отражала мнение так называемой «партии порядка»; при выборе президента не поддерживала ни одной из выставленных кандидатур. Газета ведёт своё начало от «Journal des débats et décrets», издававшегося с 1789 г. и в 1814 г. получившего своё позднейшее название. ↩︎
Самомнение. ↩︎
В силу этого. ↩︎
Сродство душ. ↩︎
Слова, отмеченные вопросительным знаком, написаны неразборчиво. Ред. ↩︎
Попустительство. ↩︎
На третьем курсе, в 1848–1849 уч. году, Н. Г. Чернышевский работал под руководством проф. Срезневского над составлением толкового словаря к начальной летописи. Эта запись в дневнике, как и многие последующие (см. записи от 20/VII, 28/VII, 1848 г.; 3/VII 1849 г. и др.), посвящена техническим приемам, применяемым при составлении словаря. ещё летом 1849 г. Чернышевский рассчитывал, что словарь будет издан Академией наук (см. 12/VII 1849 г.), связывал с этим свою учёную карьеру (см. 1/VIII 1848 г.). О судьбах этой работы см. запись в Дневнике 14/VII 1849 г. ↩︎
Здесь, очевидно, имеется в виду 2-е издание «Теории финансов» И. Горлова, «исправленное и умноженное» (Спб., тип. И. Глазунова и К0. 1845 г., 227 стр.). В «Отечественных записках» за 1845 г. (т. 40) на эту книгу было обращено внимание читателей как на «редкий у нас истинно-добросовестный учёный труд» и как на работу, касающуюся «одной из наиболее живых струй современной жизни». При всей рутинности взглядов Горлова эта работа натолкнула Чернышевского на ценные выводы (см. запись от 15/VII 1848 г.). Впоследствии Н. Г. Чернышевский дал уничтожающий разбор экономических взглядов Горлова; см. его статью «Капитал и труд» в VII томе настоящего издания. ↩︎
В течение 1848 и 1849 гг. Чернышевский оказывал постоянную материальную поддержку своему другу В. П. Лободовскому, передавая ему большую часть денег, присылаемых из Саратова родителями, и свой заработок от частных уроков. Делал он это втайне от своих родных, в частности и от Терсинских, совместно с которыми в это время жил,— этим и объясняется попытка подделать письмо. Отдавая почти все деньги Лободовскому, Чернышевский в эти годы рассчитывал каждую копейку, тратя на себя минимальные суммы. ↩︎
«Домби и сын» — роман Чарльза Диккенса; русский перевод его печатался в «Отечественных записках» за 1847–1848 гг.; тт. 54–56 и 59. ↩︎
Существо и поведение. ↩︎
«Том Джонс» — роман Генриха Фильдинга, в 18 книгах; русский перевод его, сделанный А. И. Кронебергом, печатался в «Современнике» за 1848 г., №№ 5–12. ↩︎
Повидимому, речь шла о попечителе петербургского учебного округа Мусине-Пушкине. ↩︎
Слово неразборчиво. ↩︎
Первым попавшимся. ↩︎
Комедия Гоголя «Ревизор», изданная в 1836 г., известна, очевидно, была Чернышевскому раньше. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души, поэма Н. Г.», первый том которой вышел в Москве в 1842 г., повидимому, до того времени Николаем Гавриловичем была прочитан, о чём свидетельствует ряд записей в его «Дневнике» (см., например, записи от 4–5/VIII и 6/IX 1848 г.). ↩︎
«Иллюстрация» — иллюстрированный сатирический еженедельный журнал, издававшийся в 1845–1849 гг. в Петербурге. До середины 1847 г. издателем-редактором его был Н. В. Кукольник. ↩︎
Участие Л. Блана в «бунте 25 июня» — здесь имеется в виду обвинение, выдвинутое против Л. Блана реакционными партиями и печатью, возлагавшими на него ответственность за июньское восстание (22–26 июня) в Париже, когда пролетариат отстаивал свои классовые интересы в открытой вооружённой борьбе со сплоченным фронтом буржуазии. ↩︎
Право на труд. ↩︎
Бабенька — Пелагея Ивановна Голубева, мать Е. Е. Чернышевской. ↩︎
«Выбранные места из переписки с друзьями» (Спб., 1847 г.) Гоголя в основном включают его письма за 1845–1846 гг. Полное одобрение в этих письмах существующего в России общественного строя, изложенное к тому же в пророческом тоне, вызвало резко-отрицательную оценку этого издания со стороны западников (см. известное письмо Белинского к Гоголю, чтение которого вменялось петрашевцу Ф. М. Достоевскому в основную вину). О впечатлении, произведённом этой книгой, «Москвитянин», близкий к славянофилам, писал: «В течение двух месяцев по выходе книги она составляла любимый живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы… где бы не толковали о ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из неё отрывки. Действие «Мёртвых душ» не было столь, значительно, как действие «Переписки»: первое отдалось звонким хохотом на всю Россию, не везде хорошо сознанным, не везде благотворным; второе разбудило мысль, привело в движение мнения, подняло вопросы» («Москвитянин», 1848 г., № 1). ↩︎
«Герой нашего времени» Лермонтова отдельным изданием вышел в 1840 г. Именно в этом издании впервые опубликованы были «Максим Максимыч» и «Княжна Мери» («Бэла», «Фаталист» и «Тамань» напечатаны были раньше в «Отечественных записках» — 1839 г., тт. 2 и 6 и 1840 г., т. 8). Второе издание этого произведения вышло в 1842 г. и третье — в 1843 г. Первое собрание сочинений Лермонтова издано Смирдиным в 1847 г. ↩︎
есть ↩︎
Н. Г. Чернышевский вырос в религиозной семье, корни религиозного мировоззрения в нём заложены были глубоко и критический пересмотр основ этого мировоззрения протекал у него крайне болезненно. Многие страницы «Дневника» дают яркую картину этого внутреннего кризиса Чернышевского в студенческие его годы; 2/VIII 1848 г. он записывает: «Старого держусь более по силе привычки», отмечает своё настроение в церкви (1/IX, 13/IX), подробно разбирается в этом мучившем его вопросе» (25/IX). ↩︎
В студенческие годы Чернышевского складывались основные положения его общественно-политических воззрений, на что несомненно решающее влияние оказали революционные события в Европе. Чернышевский констатировал: «Кажется, я принадлежу к партии крайних, ультра» (2/VIII 1848 г.), «я террорист и последователь красной республики» (2/IX), «я стал по-убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно» (18/IX). Чернышевский нащупывал верную основу революционных переворотов, видя её в общественных отношениях (7/VIII, 7/IX и др.) и обнаруживал особый интерес к радикальным деятелям современных ему революционных событий в Европе, правда, не всегда чётко отдавая себе отчет в действительной роли отдельных лиц (см., например, явную переоценку им роли Л. Блана). ↩︎
Совместная жизнь с родственниками на одной квартире, к тому же малоудобной, крайне мешала Чернышевскому,— он стеснялся приглашать к себе своих товарищей (в частности — В. П. Лободовского), принужден был время работы по вечерам согласовывать со своими сожителями, экономившими на свечках, и т. д. Естественна поэтому его мысль — поселиться отдельно oт Терсинских. ↩︎
Изводится. ↩︎
Изведётся. ↩︎
Каждый производит в меру своих способностей и получает в меру своих потребностей. ↩︎
Имеется в виду французское учредительное собрание 1848 г., выбранное в конце апреля и состоявшее в основном из умеренных республиканцев при значительном меньшинстве орлеанистов. Социалисты на выборах повсюду потерпели поражение, проведя в собрание лишь небольшое число своих представителей. Разработанная учредительным собранием конституция в замаскированной общими принципами «свободы, равенства и братства» форме укрепляла основы буржуазного строя — «декларативный принцип конституции должен был прикрыть её реакционную сущность» (Маркс). По этой конституции, наряду с представительным собранием выборных депутатов, устанавливалась фактически независимая от него власть президента, также выбираемого прямым голосованием. ↩︎
О своей будущности Чернышевский пишет в «Дневнике» довольно часто, что и понятно накануне окончания университета. Но ясности в этом у него нет — он то сознаёт своё превосходство над товарищами (29/VIII и 28/IX), то сомневается в своих способностях (18/VIII); он то мечтает об учёной деятельности, то о работе в области журналистики. Как правило, всё же Чернышевский сознаёт свои исключительные способности и не раз пишет о той крупной роли, которую он призван сыграть в будущем; некоторые из этих записей имеют почти пророческий характер (23/IX и 24/IX 1848 г. и 2/I, 11/VII 1849 г.). ↩︎
Речь идёт о возможности избежать взноса платы за учение в университете. Для этого нужно было достать через полицию свидетельство о несостоятельности, чем Чернышевский и был озабочен до первых чисел октября, когда, наконец, в выдаче такого свидетельства ему было отказано (см. 7/Х). ↩︎
В соответствии с этой пренебрежительной характеристикой русской действительности стоит следующая запись «Дневника» от 18/IX: «Россию уважаю мало и даже почти не думаю о ней». Но эта оценка Чернышевского оказалась неглубокой — уже 23/IX он признает, что «пришло России время действовать на умственном поприще», а 11/XII, после разговора с петрашевцем Ханыковым, мысль о возможности революции в России кажется ему уже довольно обоснованной. ↩︎
«Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод». Издавался в 1834–1864 гг. в Петербурге: с 1834 по 1858 г. — А. Ф. Смирдиным, а с 1859 по 1864 г. — В. Н. Печаткиным. Редакторами журнала были: О. И. Сенковский и Н. И. Греч (1834 –1836), один Сенковский (1837–1856), А. В. Дружинин. (1856–1860). А. Ф. Писемский (1860–1863) и П. Д. Боборыкин — по 1864 г. В 30–50-х годах был одним из самых распространенных «толстых» журналов, особенно популярный в провинции. До середины 50-х годов не имел чёткой принципиальной линии, выступая, однако, защитником существующего порядка, и стремился дать подписчикам (а к 40-м годам их было уже до 7 тыс. человек) лишь «занимательное чтение». Ср. характеристику Сенковского, данную Чернышевским в «Очерках гоголевского периода». ↩︎
Уважение Чернышевского к Краевскому объясняется тем, что в 40-х годах ещё в Саратове Николай Гаврилович не мог не выделить «Отечественные записки» времени Белинского как наиболее содержательный и серьёзный журнал и естественно видел в этом заслугу его издателя. Более близкое знакомство с журнальным миром показало ему вскоре истинное лицо Краевского — талантливого организатора «доходного дела» журналистики, но бездарного и мало-разборчивого в принципиальных вопросах. ↩︎
Чернышевский не раз отмечал всё нараставшую после разгрома июньского восстания реакцию и утешительным в этом видел лишь то, что буржуазия «решительно снова берёт верх…, но как хищница, а не по закону», и что поэтому окончательная победа над ней облегчается: «хищение легче разрушить, чем закон» (см. 12/IX). ↩︎
Неразборчиво. Ред ↩︎
Шутя — здесь и во многих местах ниже — в смысле: пожалуй. ↩︎
Чернышевский имеет в виду следующее место из известной агитационной проповеди церковного оратора Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, произнесённой по случаю опубликования царского манифеста 14 марта 1848 г. и напечатанной почти во всех газетах и журналах: обращаясь риторически к народам Запада, Иннокентий говорил: «Не знаем, кто с вами; а с нами бог великий и премудрый». Такого рода реакционно-патриотические проповеди широко использовались в то время как орудие правительственной агитации. ↩︎
Право на труд. ↩︎
Романы Ж. Занд «Horace» и «Le Compagnon du tour de France» вышли в свет в 1841 г., и «Орас» в русском переводе был напечатан в «Отечественных записках» за 1842 г. В названных Чернышевским томах «Отечественных записок» - за 1848 г. (тт. 56–57) печатались русские переводы следующих произведений того же автора: «Проступок господина Антуана» и «Проклятое болото». ↩︎
В 1848 г. в Европе свирепствовала эпидемия холеры, поразившая в первую очередь Россию, но затем проникшая и в западноевропейские страны. В ослабленной форме эпидемия наблюдалась в России и в 1849 г. ↩︎
Мой покой исчез. ↩︎
Имеется в виду переводная работа, напечатанная в тт. 56–60 «Отечественных записок» за 1848 г. под названием: «Завоевание Мехики» — сочинение «североамериканца» Виллиама Прескотта, в 7 книгах. ↩︎
«История цивилизации во Франции» Гизо прочитана была Чернышевским в оригинале — см. именной указатель — «Гизо». ↩︎
Журнал — подразумевается настоящий дневник. ↩︎
«Космос». Опыт физического миропонимания, сочинение Александра Гумбольдта, в русском переводе напечатан в «Отечественных записках» за 1845–1846 гг. (тт. 42–46). Критический разбор этого произведения был дан в том же журнале за 1848–1849 гг. (тт. 48–59). ↩︎
«Дютроше», статья Н. Я. Данилевского в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 58), дающая русскому читателю понятие о жизни и деятельности Дютроше, умершего в 1847 г. (см. именной указатель — «Дютроше»). ↩︎
Это письмо не сохранилось. ↩︎
Решение Чернышевского не писать кандидатской работы по предмету Срезневского (славянские древности) обусловлено было прежде всего опасением осуждения со стороны товарищей-студентов, в среде которых этот профессор не был популярен. Как известно, впоследствии Чернышевский взял тему по научной специализации у проф. Никитенко. Собственное, и притом положительное, мнение о Срезневском Чернышевский составил себе позднее (см. 14/VII 1849 г.). ↩︎
Австрийский генерал Радецкий, подавивший революционное движение в Италии, демонстративно был награжден русским императором Николаем I ещё летом 1848 г., о чём было сообщено и в русских газетах (см., например, «Северную пчелу», № 182, от 16/VIII 1848 г.). ↩︎
По просьбе Срезневского, в этот период Чернышевский занимался обработкой и составлением текста лекций Срезневского по курсу славянских древностей. ↩︎
Одно слово неразборчиво. Ред ↩︎
После подавления июньского восстания 1848 г. в Париже первой задачей победившей реакции было назначение следственной комиссии по расследованию событий 15 мая и июня. Следствие было направлено против Л. Блана, Ледрю-Роллена и Коссидьера, как вождей социалистических и демократических партий. «Буржуазные республиканцы горели нетерпением освободиться от этих соперников» (Маркс). Председателем комиссии был О. Барро, который сочинил целое дело против февральской революции, резюмировав его так: «17 марта манифестация, 16 апреля заговор, 15 мая покушение, 23 июня гражданская война». Луи Блану удалось избежать ареста и эмигрировать в Англию (см. запись 1/IX). ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Кондитерская Вольфа на Невском, как многие петербургские кондитерские (в «Дневнике» упомянуты ещё Доминик, Иванов, Излер), являлась местом времяпровождения интеллигенции того времени. Владельцы предприятий выписывали для чтения посетителей не только русские, но и иностранные газеты и журналы. При относительно высокой подписной плате на толстые журналы (18—20 руб. сер.) и при трудностях получения разрешения на выписку иностранных изданий эти кондитерские в те годы с успехом заменяли отсутствовавшие читальни. ↩︎
«Illustrierte Zeitung» — старейший немецкий иллюстрированный еженедельный журнал, издаваемый И. И. Вебером с 1843 по 1880 г. в Лейпциге, а после его смерти в 1880 г. перешедший в руки его сыновей. ↩︎
Из «Mailied» Гёте. ↩︎
Из «Die Piccolomini», Шиллера, 3-е действие, 7-е явление. ↩︎
Энциклопедический словарь Эрша и Грубера — «Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste», начавший издаваться в 1818 г. и с 1831 г. продолженный Брокгаузом (Эрш — Ersch, 1766–1828 гг. — немецкий библиограф, профессор географии и статистики в Галле). ↩︎
Милейший Чернышевский, меня часто раздражал твой невнятный голос. ↩︎
Имеется в виду Белинский, идейные противники которого часто указывали на отсутствие у него систематического образования, что не мешало, однако, Белинскому быть одним из образованнейших людей своего времени. ↩︎
«Прошлое» — повесть барона Ф. Ф. Корфа, напечатанная в «Отечественных записках» за 1839 г. (т. 5). ↩︎
Повесть Фредерика Сулье «Влюблённый лев» была напечатана в «Отечественных записках» за 1839 г. (т. 6). ↩︎
Имеется в виду донесение специальной следственной комиссии учредительному собранию о результатах расследования июньских событий в Париже. ↩︎
Люксембургская комиссия для изучения рабочего вопроса — образованное временным правительством взамен министерства труда совещание представителей рабочих. Занятия комиссии проводились под председательством Л. Блана в помещении Люксембургского дворца, откуда произошло и название комиссии. Вместо активной борьбы за интересы рабочего класса члены комиссии занимались академическим обсуждением речей Л. Блана по рабочему вопросу, что демобилизовало пролетариат и обеспечило укрепление фронта реакции. ↩︎
«Монитер» — ежедневная политическая газета, выходившая в Париже с 1789 г. При Наполеоне I, а также в период с 1/II 1816 г. по 1868 г. эта газета являлась официальным органом правительства. ↩︎
Внутренне, а внешне. ↩︎
Тема об «отношении искусства к действительности» интересовала таким образом Н. Г. Чернышевского ещё в студенческие годы — в 1848 г. Первое же упоминание о работе над диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности» относится к августу 1853 г. (см. его письмо к отцу от 7 сентября 1853 г. в XIV т. наст. издания). ↩︎
Вы не предрешаете ничего! ↩︎
Полемика между Розеном (в «Сыне отечества») и Шевыревым («Москвитянин») велась по поводу допущенного Розеном искажения текста процитированной им статьи Гоголя о переводе «Одиссеи» Жуковского. «Современник» изложил эту полемику в «Современных известиях», № 9 за 1848 г. ↩︎
Показания. ↩︎
Здесь имеется в виду публикация протоколов Люксембургской комиссии (см. выше, примеч. 48). ↩︎
Идите же, идите. ↩︎
«Петушков» — повесть И. С. Тургенева, напечатанная в «Современнике» за 1848 г., № 9. ↩︎
«Москва» М. Н. Загоскина — его сборник «Москва и москвичи», посвященный прошлому и настоящему этого города. ↩︎
Чумбуров — анонимная повесть «Путевые приключения Чумбурова, великого знатока лошадей» в №№ 9 и 10 «Современника», 1848 г., в отделе «Смесь». ↩︎
Письмо от Пыпиных, которые тогда жили в Аткарске. ↩︎
Временно приостановить. ↩︎
«Constitutionnel» — французская газета, выходившая с 1815 г. В эпоху реставрации — оппозиционный орган либеральной буржуазии. В годы июльской монархии значение газеты падает — ведущим органом либералов становится «National». «Constitutionnel» принимал участие в проведении реформистских банкетов конца 1847 — начала 1848 г., после февральской революции занимал антиреспубликанскую, реакционную позицию. ↩︎
Эти противоречивые и нечёткие рассуждения крайне характерны для периода кризиса общественно-политического мировоззрения Чернышевского в студенческие годы. Позднее, в своих зрелых работах, он вплотную подошёл к пониманию классового характера государственной власти в классовом обществе. ↩︎
Слово неразборчиво. ↩︎
В середине сентября 1848 г. во Франкфурте радикалами было организовано восстание, которое было раздавлено вызванными имперским правительством австро-прусскими войсками. ↩︎
Разрешения возбудить преследование. ↩︎
«Journal de St.-Petersburg» — официальная газета министерства иностранных дел России, в 1825 г. заменившая газету «Conservateur imperial» выходившую три раза в неделю в течение 1812–1825 гг. ↩︎
Наиболее просвещённая, которая требовала или которой было обещано право на труд. ↩︎
Божественное, священное. ↩︎
Неосвященный, мирской. ↩︎
Это не менее нелепо. ↩︎
Несомненно имеются в виду статьи Белинского о Державине, напечатанные в «Отечественных записках») за 1843 г. (тт. 26–27) и за 1845 г. (т. 42). ↩︎
Занята. ↩︎
«С.-Петербургские ведомости» — ежедневная петербургская газета, издававшаяся Академией наук с 1727 г. (как продолжение первого периодического русского издания «Ведомости о военных и иных делах», выходившие в 1703–1727 гг.). В 1836–1850 гг. редактором газеты был А. Н. Очкин. С 1851 года газета сдавалась в аренду разным лицам. ↩︎
Волям. ↩︎
Уменьшить. ↩︎
Реальные существа. ↩︎
Воля упорядочена. ↩︎
Описание своего путешествия за границу Н. И. Греч дал в книгах: «28 дней за границей или действительная поездка в Германию» (Спб. 1837 г.), «Путевые письма» (Спб. 1839 г.), «Письма с дороги» (1843). Судя по записи в «Дневнике» от 2/Х 1848 г., здесь имеется в виду именно первая книга. ↩︎
Без него и вопреки ему. ↩︎
«Полицейская газета» — «Ведомости с.-петербургской городской полиции», издававшаяся с 1839 по 1873 г. Редакторами этих «Ведомостей» были В. С. Межевич, с № 54 за 1849 г. — И. Мокрицкий, с № 128 за 1849 г . — Е. Ф. Корш. ↩︎
Попытки создания беллетристических произведений таким образом делались Чернышевским ещё в Саратове, то есть не позднее начала 1846 г. До середины 1848 г. Чернышевский уже дважды пытался поместить свои работы в «Отечественных записках», но неудачно (см. 17/XII 1848 г.). В «Дневнике» 1848—1849 гг. мы встречаем новые попытки литературного творчества со стороны Чернышевского (статья его «О Жозефине» — или о воспитании — 13/I 1849 г., «Понимание» — эпизод из жизни Гёте — 10/VI 1849 г., статья «Теория и практика» — 10/Х 1849 г.) и новые безрезультатные попытки с его стороны поместить рассказ в «Современнике» (5/III и 25/VI 1849 г.) и снова в «Отечественных записках» (14/XI 1849 г.). ↩︎
Вступление и повествование. ↩︎
Гадание у славян. ↩︎
Письмо это не сохранилось. ↩︎
Попечитель М. А. Мусин-Пушкин был типичным представителем полицейского режима в высших школах в эпоху Николая I. Он часто посещал университетские лекции, чтобы следить за благонадёжностью профессоров. ↩︎
Скрытно. ↩︎
Я. ↩︎
У нас не клеится, я сам установлю очередь. ↩︎
Свободе. ↩︎
Не болтать! ↩︎
Черепокожные рабы. ↩︎
Черепаха. ↩︎
Мюнх — см. именной указатель. ↩︎
«Times» — английская консервативная газета. ↩︎
«National» — влиятельная политическая газета, издававшаяся с начала 1830 г. в Париже Тьером, Минье, Каррелем и др. Газета являлась органом оппозиции либеральной буржуазии в годы июльской монархии. Ведущую роль в редакции по 1836 г. играл Каррель, а с 1841 г. — А. Марраст. «National» сыграла заметную роль в подготовке февральской революции, и из кругов близких к ней лиц в 1848 г. сложилось временное правительство первого состава. Вскоре партия «National'я» заняла чётко реакционную позицию и поддерживала при выборе президента кандидатуру палача июньского восстания — генерала Кавеньяка. ↩︎
«Коринфская невеста» («Braut von Korinth») — баллада Гёте. ↩︎
«О древней и новой России» Карамзина — см. именной указатель — «Карамзин». Характеристика, данная здесь карамзинской записке, Сперанскому и Александру I, ясно свидетельствует о противоречивости и нечёткости политических взглядов Чернышевского в эти годы. ↩︎
Конституцию. ↩︎
«Revue des deux Mondes» — французский двухнедельный журнал, начавший издаваться в 1849 г. В нём печатались оригинальные художественные произведения, философские, научные и политические статьи. Журнал консервативного направления,— по словам одного современника, он шагал на двух ногах: одной ногой ему служила литература, а другой — политика, причём политика была его «правой ногой». ↩︎
«Миссионер» — в данном случае название домашнего платья. ↩︎
Книга Сальванди «Seize mois ou la révolution et les révolutionnaires». Paris, 1831. ↩︎
Куторгина брошюра — книга М. Куторги «История афинской республики». СПБ. 1848 г. ↩︎
«Маяк» — ежемесячный журнал, крайне реакционного направления, издававшийся в Петербурге в 1840–1845 гг., с конца 1841 г. под редакцией С. А. Бурачка (см. именной указатель). ↩︎
О характере занятий студентов с Никитенкой в 1848–1849 гг. Чернышевский писал своим родителям: «Никитенкины лекции педагогические, т. е. посвящаются на чтение наших статей, разговоры об относящихся к литературе вопросах и т. д.» (см. письмо Н. Г. к родителям от 29 августа 1849 г. в XIV т. наст. издания). Этим «педагогическим» характером лекций Никитенко и объясняются произвольная тематика выступлений студентов и свободная программа занятий. ↩︎
«Путеводитель в пустыне» — роман американского писателя Ф. Купера, вышедший отдельным изданием в русском переводе Кетчера (Спб. 1841 г.) ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
В октябре 1848 г. в Вене в течение трёх недель происходили баррикадные бои, и наконец город был взят правительственными войсками под командою Виндишгреца. Причиной венского восстания являлось желание рабочих, учащихся и части национальной гвардии помочь венгерскому восстанию. Восстание было подавлено благодаря предательству буржуазии и колебаниям радикальных демократов. В результате разгрома восстания в Вене введён был режим правительственного террора, с массовыми расстрелами участников баррикадных боев, причём тогда же был расстрелян и член франкфуртского парламента Роберт Блюм (см. запись 14/XI). ↩︎
Неразборчиво. ↩︎
«Сын отечества» — журнал истории, политики, словесности, наук и художеств, издававшийся в Петербурге в 1812–1852 гг. До 1825 г. журнал был еженедельным, затем выходил дважды в месяц, а в 40-х годах ежемесячно. К возникновению журнала причастен был граф С. Уваров, и по его мысли это издание должно было являться органом внедрения и защиты официальной идеологии. Редакторами журнала были: Н. И. Греч, А. Воейков, Ф. Булгарин, О. Сенковский, а с 1842 по 1852 г. К. Масальский. ↩︎
Верховная власть. ↩︎
Праву, справедливости. ↩︎
Граф — министр путей сообщения Клейнмихель. ↩︎
Неразборчиво. ↩︎
Всеобщее избирательное право. ↩︎
Один из рассказов В. И. Даля, напечатанных в «Отечественных записках» за 1848 г. (тт. 56 и 61) под общим заголовком «Картины из русского быта». Здесь Чернышевский имеет в виду рассказ «Упырь. Украинское предание», напечатанный в т. 61. ↩︎
«Замогильные записки» Шатобриана печатались в «Отечественных записках» за 1848 г. в т. 61 (перевод производился из газеты «La Presse», в то время публиковавшей это произведение). Очерк о Шатобриане, в связи с его кончиной, был опубликован в том же журнале, в т. 59 за тот же год. ↩︎
Буржуазное по своему составу национальное собрание Пруссии боялось революции и, оставаясь на почве формального права, должно было уступить реальной силе окрепших реакционеров; несмотря на принятое депутатами решение продолжать заседания, оно было разогнано. ↩︎
Здесь имеется в виду Виноградов И. Г. ↩︎
Наёмный слуга. ↩︎
См. примечание 80: В октябре 1848 г. в Вене в течение трёх недель происходили баррикадные бои, и наконец город был взят правительственными войсками под командою Виндишгреца. Причиной венского восстания являлось желание рабочих, учащихся и части национальной гвардии помочь венгерскому восстанию. Восстание было подавлено благодаря предательству буржуазии и колебаниям радикальных демократов. В результате разгрома восстания в Вене введён был режим правительственного террора, с массовыми расстрелами участников баррикадных боев, причём тогда же был расстрелян и член франкфуртского парламента Роберт Блюм (см. запись 14/XI). ↩︎
Произведение А. Майкова «Встречи и рассказы: II Пикник во Флоренции» напечатано было в «Современнике» за 1848 г., № 11. ↩︎
Командующий правительственными войсками, взявшими Вену в октябре 1848 г., ген. Виндишгрец был демонстративно награждён орденом русским правительством Николая I (см. извещение об этом в «Северной пчеле» № 255, от 12/XI 1848 г.). ↩︎
Одно слово неразборчиво. ↩︎
Критическая статья А. Д. Галахова о книге «Сочинения Кантемира» (Полное собрание сочинений русских авторов — изд. Ад. Смирдина, Саб. 1847 г.) напечатана в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 61). ↩︎
Закон о дотации. ↩︎
Очевидно, речь идёт о предложении Л. Блану выставить свою кандидатуру на пост президента, так как 10 декабря 1848 г. должны были производиться путём всеобщего голосования выборы президента Франции. ↩︎
Оглавление. ↩︎
«Господин Светёлкин» — повесть M. M. Достоевского, напечатанная в «Отечественных записках» за 1848 г., т. 60. ↩︎
Неразборчиво. ↩︎
«Gazette de France» — старейшая парижская политическая газета, основанная в 1631 г. и не раз менявшая своё название вплоть до 1848 г., когда приняла, наконец, приведенный выше заголовок. ↩︎
«La Presse» — французская газета, одно из первых массовых ежедневных периодических изданий современного типа (большой формат, богатое и разнообразное содержание, доступная цена). Эта газета основана была Э. Жирарденом в 1834 г. и выходила под его редакцией до 1856 г. В числе сотрудников газеты были Бальзак, Ал. Дюма, Т. Готье, Е. Сю, В. Гюго и др. Вскоре после начала издания газета получила невиданное для 30-х годов количество подписчиков — свыше 20 тыс. При июльской монархии имела консервативный характер; в 1848 г. поддерживала республику; с конца этого года стала бонапартистской. ↩︎
Запросах. ↩︎
Кворума. ↩︎
С удовлетворением отмечая отсутствие кворума «в Бранденбурге», Чернышевский имеет в виду перенесённое по решению правительства заседание национального собрания Пруссии из Берлина в Бранденбург. ↩︎
«Парижские тайны» — роман Е. Сю, впервые напечатан в «Journal des Débats» за 1842 г. Русский перевод романа печатался в «Отечественных записках» в 40-х годах и не раз выходил отдельным изданием в разных переводах. ↩︎
Инициатива. ↩︎
Скорбит. ↩︎
Деятельность Франкфуртского национального собрания, осуждавшаяся Чернышевским, бралась Марксом и Энгельсом как образец буржуазного парламентаризма, отгораживающегося от реальной классовой борьбы формальной деятельностью: в то время как укрепившаяся реакция, подавив рабочее восстание, разгоняла национальные собрания в Берлине и Вене, депутаты во Франкфурте продолжали обсуждать проект конституции; это обсуждение продолжалось даже тогда, когда к парламенту были стянуты войска, при помощи которых собрание было разогнано. ↩︎
Здесь Чернышевский имеет в виду главу итальянского правительства Росси, убитого восставшим народом 15/XI 1848 г., и представителей реакции: Латира, военного министра, повешенного восставшими венцами в октябре 1848 г., и правого депутата франкфуртского собрания Лихновского, убитого во время октябрьского восстания во Франкфурте. ↩︎
«La Phalange, journal de la Science Social» — журнал фурьеристов, основанный в 1836 г. (выходил два раза в месяц). С 1843 г. вместо «Phalange» фурьеристы стали издавать ежедневную газету «Democratie pacifique». ↩︎
Революционный Париж. ↩︎
Неразборчиво. ↩︎
Решился составить заговор. ↩︎
Религиозный вопрос. ↩︎
Прошу не спрашивать про вещи, которые тебя не касаются. ↩︎
Не люблю поучений. ↩︎
Привлекательный труд. ↩︎
Песня Маргариты из «Фауста» Гёте (15 сцена). ↩︎
О свободе воли и всемирном единстве. ↩︎
О всемирном единстве. ↩︎
Повидимому, Дон-Жуана. ↩︎
«Прусский Монитер» — очевидно, имеется в виду официальный орган прусского правительства «Preussischer Staats-Anzeiger» (см. примечание 114). ↩︎
Предисловия. ↩︎
Хорошо. ↩︎
Тени умерших требуют умилостивления богов человеческими жертвами. ↩︎
Рождается новый порядок вещей. ↩︎
Предисловие. ↩︎
Правильно организованному. ↩︎
10 декабря 1848 г. Луи-Наполеон был выбран президентом французской республики, получив 5½ млн. голосов из 7½ млн. общего числа голосовавших, причём его кандидатура прошла именно благодаря голосам крестьянства: «10 декабря было крестьянским coup d'état, свергнувшим существующее правительство»… «Остальные классы помогли довершить победу крестьянства» (Маркс и Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 36). ↩︎
Всеобщее избирательное право. ↩︎
Совпадением. ↩︎
Почва. ↩︎
«Allgemeine Zeitung» — ежедневная политическая газета, получившая широкую известность в период издания её в Аугсбурге (1810–1882 гг.). Газета считалась органом «независимо-либерального» направления. Редактором её в 1837–1863 гг. был Густав Кольб (Kolb). ↩︎
«Физиогномика» — книга швейцарского писателя Лафатера, вышедшая в 1772–1778 гг. в Лейпциге. Эта книга переиздавалась на многих европейских языках и в 1817 г. была переведена на русский язык. ↩︎
Неразборчиво. Ред ↩︎
Временным. ↩︎
Влечение или склонность. ↩︎
Увидим. ↩︎
Здесь Чернышевский имеет в виду следующие произведения: а) критическую статью К. Д. Кавелина о книге «Быт русского народа», соч. А. Терещенко (Спб. 1848 г.). Статья напечатана в «Современнике» за 1848 г. (№ 9–10). б) Роман в 8 частях «Три страны света», написанный Н. А. Некрасовым и Н. И. Станицким (псевдоним А. Я. Панаевой). Роман печатался в «Современнике» за 1848 г. (№ 10–12) и 1849 г. (№ 1–5). в) Статью А. Н. Егунова «Взгляд на торговлю в древнейшей Руси», печатавшуюся в «Современнике» за 1848 г. (№ 8–10). ↩︎
«Москвитянин» — журнал, издававшийся в Москве в 1841–1856 гг. M. H. Погодиным. В 1841–1848 г. выходил ежемесячно, а с 1849 г. два раза в месяц, но крайне нерегулярно (например, за 1855 г. №№ 23 и 24 вышли лишь в апреле 1856 г., а за 1856 г. издано было всего 16 номеров). Журнал «охранительного», реакционного направления, полностью принимавший формулу официальной идеологии («православие, самодержавие, народность»); как орган правого крыла славянофилов вел, не стесняясь формой и приёмами, ожесточенную борьбу с западниками, постоянно полемизируя с «Отечественными записками», а с 1847 г. и с «Современником». ↩︎
«Пантеон и репертуар русской сцены» — ежемесячный журнал, выходивший в 1848 г. и 1850–51 гг. в Петербурге под редакцией Ф. А. Кони. ↩︎
Роман Евг. Сю «Семь смертных грехов», I том которого назывался «Гордость» (1–4 части). Роман печатался в «Отечественных записках» за 1848 г. (тт. 56, 57, 60 и 61). ↩︎
Рассказ Ф. М. Достоевского «Ревнивый муж. Происшествие необыкновенное»; напечатан в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 61, отд. VIII — «Смесь»). ↩︎
Остроту. ↩︎
Приняла республиканский строй. Принимая… ↩︎
Верховенство народа. ↩︎
Неразборчиво ↩︎
«Белые ночи. Сантиментальный роман (из воспоминаний мечтателя)» Ф. М. Достоевского в «Отечественных записках» за 1848 г., т. 61. ↩︎
Голосуя за кандидатуру Луи-Наполеона, крестьянство голосовало против налогов, в частности против обременительного налога на соль. Правительство же президента Наполеона уже 27 декабря предложило этот налог сохранить. Учредительное собрание, желая свергнуть министерство и опереться в борьбе с Наполеоном на крестьянство, отвергло проект правительства — снизило налог до одной трети прежнего размера. Эта мера собрания, боровшегося в рамках легальности с Наполеоном, имевшим в своём распоряжении государственный аппарат и опиравшимся на 51⁄2 млн. голосов избирателей, открыла затяжной период борьбы собрания с президентом, победа в которой осталась за Наполеоном. ↩︎
«Indépendance Belges» — бельгийская ежедневная газета консервативного направления, начавшая издаваться в 1831 г. ↩︎
«Staats-Anzeiger» — официальная ежедневная правительственная газета «Deutscher Reichs-Anzeiger», издававшаяся в Берлине с 1719 г. (вначале она называлась «Allgemeine Preussische Staats-Zeitung»). ↩︎
До 1871 г. Германия была экономически и политически раздроблена на ряд самостоятельных государств, объединяемых союзным сеймом из уполномоченных представителей Германии, заседавших во Франкфурте. Франкфуртский парламент, открывшийся в мае 1848 г., не имел в своих руках реальной власти; армия, государственный аппарат, бюджет — всё это оставалось в распоряжении фактических правительств. Парламент этот не был признан отдельными государствами «Германского союза». В нём не было также представителей Австрии, чем и объясняются переговоры с нею, «как с отдельной державой». ↩︎
Роман Ф. М. Достоевского «Неточна Незванова» был напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 62). ↩︎
«Капельмейстер Сусликов» — повесть Д. В. Григоровича, помещена в № 12 «Современника» за 1848 г. ↩︎
Эскиз Г. Горчакова «Наталия Ивановна» напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 62, отдел «Смесь»). ↩︎
«Рустем и Зораб» в переводе Жуковского издан был в 1848 г. ↩︎
В № 1 «Пантеона» за 1848 г. была напечатана «повесть из бессарабских преданий» В. А. Каприцкого (псевдоним) «Дёрдий Гиржа». ↩︎
Иллюзии. ↩︎
Искренни. ↩︎
Беспримерной. ↩︎
Невозможной. ↩︎
Голосовать. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Избирателей. ↩︎
Высказанное Чернышевским предположение о невозможности роспуска Наполеоном учредительного собрания связано с затянувшейся борьбой правительства О. Барро и собрания, в отдельные моменты достигавшей большого обострения. Учредительное собрание было распущено лишь в начале мая, и созванное в конце того же месяца законодательное собрание имело следующий состав: на 700 депутатов около 450 было монархистов, умеренных республиканцев («победители» июньского восстания) всего 75 чел. и демократов-социалистов около 180 чел. Таким образом «левая сторона» хотя и усилилась, но составляла явное меньшинство. В дальнейшем борьба развернулась между монархически настроенной буржуазией и коалицией мелкой буржуазии и рабочих. ↩︎
«De la démocratie en France» — брошюра Гизо, написанная им в годы эмиграции (1848–1849 гг.) в Англии и изданная в 1849 г. ↩︎
«Les Confidences» («Признания») Ламартина печатались в 1849 г. в газете «La Presse» и в отрывках на русском языке были опубликованы в «Отечественных записках» за 1849 г. (тт. 63–64). ↩︎
Свидание. ↩︎
Бичевать. ↩︎
Роман в 2 частях А. В. Дружинина «Жюли» был напечатан в «Современнике» за 1849 г. (№ 1). ↩︎
Очевидно, «Illustrated London News», старейший английский еженедельный иллюстрированный журнал, с 1842 г. издававшийся Г. Инграмом (H. Ingram) в Лондоне. ↩︎
«Galignani Messenger» — ежедневная газета по вопросам политики, литературы и торговли, издававшаяся с 1814 г. в Париже на английском языке. В ней давалась перепечатка важнейших статей и сообщений из всех основных периодических изданий Лондона и Парижа. ↩︎
Дополнения. ↩︎
Предоставить ходу вещей. ↩︎
Мораль. ↩︎
Нежное снисхождение к существующему. ↩︎
Из 25 сцены «Фауста» Гёте, в переводе Губера. ↩︎
26–29 января 1849 г. имели место наиболее острые моменты борьбы учредительного собрания с министерством Луи-Наполеона (см. выше, примечание 121). ↩︎
Статья Е. П. Ковалевского «Негриция. Из путешествия во внутреннюю Африку», напечатана в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 62). ↩︎
Имеется в виду продолжение романа Е. Сю «Семь смертных грехов», а именно часть 2-я, «Зависть», напечатанная в «Отечественных записках» за 1849 г. в тт. 62–63 (продолжение 1-й части «Гордость», опубликованной в том же журнале за 1848 г.). ↩︎
Всеми правдами и неправдами. ↩︎
Об эмансипации женщины. ↩︎
Проститутках. ↩︎
«Journal pour rire» — иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в Париже с 1848 по 1856 г. Среди сотрудничавших в нём художников были: Nadar, Daumier, Grévin, Randon и Doré. ↩︎
Голосование. ↩︎
Порядок дня о расследовании против министерства. ↩︎
Мотивированный порядок дня. ↩︎
Поправка. ↩︎
Идти вперёд. ↩︎
Имеется в виду, повидимому, попечитель петербургского округа Мусин-Пушкин. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Упрямству. ↩︎
Чернышевский имеет в виду драматическую повесть Октава Фелье «Кризис», напечатанную в «Современнике» за 1849 г., № 2, отдел «Смесь». ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Куторга С. С. — брат профессора истории Куторги М. С., исполнявший обязанности цензора (см. именной указатель). ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Порядок дня. ↩︎
Защитники республики. ↩︎
Вечный двигатель. ↩︎
Имеется в виду одна из работ французского экономиста Адольфа Бланки (см. именной, указатель). ↩︎
Сорит — цепь положений, приводящих к требуемому заключению. ↩︎
Имеется в виду одна из работ французского экономиста Адольфа Бланки (см. именной, указатель). ↩︎
В «Отечественных записках», 1849 г., № 3, была помещена рецензия на книгу М. Михайлова «История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до уложения 1649 г.». ↩︎
Революционные события в Европе вызвали резкое усиление реакционных настроений в России; органы полиции и цензуры проявляли исключительное рвение. Неудивительно, что распространившийся в начале января 1849 г. слух о закрытии университетов (или, по крайней мере, о реорганизации их), при всей очевидной нелепости этого слуха, казался вполне обоснованным. Статья об университетах была написана И. И. Давыдовым и напечатана в «Современнике» с ведома министра народного просвещения Уварова, не сочувствовавшего крайним реакционным мероприятиям правительства (вскоре он был смещен с министерского поста), и в умелой форме, обезоруживая сторонников оголтелой реакции, отстаивала университеты. Статья эта вызвала раздражённую резолюцию Николая I: «Нахожу статью, пропущенную в „Современнике“, неприличною… Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе. Объявить цензорам, чтобы впредь подобного не допускали, а в случаях недоумений спрашивали разрешения». Таким образом, Чернышевский не понял основного значения статьи и усмотрел в ней лишь обычное реакционное выступление в поисках истоков «крамолы». ↩︎
Лавальер Луиза-Франсуаза (1644–1710) — фаворитка Людовика XIV, ушедшая в монастырь после того, как король увлёкся другой женщиной. ↩︎
Ангел. ↩︎
«Московский телеграф» — московский журнал литературы, критики, наук и художеств, издававшийся в 1825–1834 гг. Н. А. Полевым. Первый русский научно-литературный журнал, пытавшийся проводить точку зрения свободы мысли и независимости творчества. В нём впервые давались общественно-политические оценки литературных произведений. Журнал был закрыт решением правительственных органов, поводом для чего послужил помещённый в нём неблагоприятный отзыв о патриотической драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», получившей одобрение Николая I. ↩︎
См. в настоящем дневнике запись 11/VIII 1848 г. ↩︎
«Письма об изучении природы» — серия статей Герцена, напечатанных в «Отечественных записках» за 1845–1846 гг. (тт. 39, 41, 43 и 45). Эти статьи Герцена наряду с циклом статей «Дилетантизм в науке» (см. «Отечественные записки» за 1843 г.) написаны Герценом в Москве после возвращения из новгородской ссылки. Эти блестяще написанные статьи научно-философского характера посвящены вопросу сближения философии с естествознанием и резко заострены против всякого рода метафизических и религиозных концепций. Однако, стоя на точке зрения так называемого «реализма», Герцен и в этих работах (равно как и в последующих) не свободен от влияния философского и исторического идеализма. «Письма об изучении природы» известны были Чернышевскому ещё в 1844–1846 гг. в Саратове (см. А. Н. Пыпик — «Мои заметки», стр. 58). ↩︎
Роман Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чодзльвита» напечатан в «Отечественных записках» за 1844 г. (тт. 36 и 37). ↩︎
Статья «Реформация» напечатана в «Отечественных записках» за 1844–1845 гг. (тт. 36, 37 и 40) в разделе «Науки и художества». Это сокращённый перевод работы Леопольда Ранке — «Deutsche Geschichte in Zeitalter der Reformation», вышедшей в 1843 г. В журнале давалось, по словам редакции, «содержание этой книги по возможности полное, сколько позволяют нам пределы повременного издания». ↩︎
Роман в 3 частях Ж. Занд «Жак» напечатан был в «Отечественных записках» за 1844 г. (тт. 35 и 36). ↩︎
По рекомендации А. В. Никитенко Чернышевский в 1849 г. для крупного сенатского чиновника Булычёва делал из Полного собрания законов выписки тех мест, которые имели отношение к Сибири. В бумагах Николая Гавриловича сохранился лист этих выписок с пометкой: «Это ещё во время студенчества делал выписки для Булычёва из Полного собрания законов, всё относящееся до Сибири». В 1857 г. Чернышевский напечатал в «Современнике» рецензию на книгу Булычёва «Путешествие по Восточной Сибири», см. IV т. настоящего издания. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
«Kladderadatsch» — еженедельный иллюстрированный журнал политической сатиры, издаваемый в Берлине с 1848 г. Давидом Калиш совместно с книготорговцем А, Гофманом. Редактором журнала был И. Троян (Trojan). Среди сотрудников журнала были художники — г. Брандт, Л. Штурц, Иттер и др. ↩︎
«Neue Prcussische Zeitung» — берлинская газета консервативного направления, возникшая в 1848 г. и в период победившей контрреволюции игравшая ведущую реакционную роль. Консервативный характер газеты типичен для неё и в последующие годы. Первым редактором издания до 1853 г. был Вагнер. ↩︎
Остромирово евангелие — один из древнейших памятников церковно—славянской письменности, относящийся к середине XI века. Оригиналом для него служила, очевидно, рукопись южнославянского происхождения. Благодаря точной передаче правописания оригинала Остромирово евангелие является первостепенным источником для изучения староцерковного славянского языка. ↩︎
Арест основной группы петрашевцев произведён был в ночь на 23/IV. Решив начать вооружённую борьбу с революцией в Европе и желая обезопасить положение в тылу, Николай I отдал распоряжение об аресте «заговорщиков» сразу после получения о них сведений, за несколько дней до манифеста о выступлении русских войск в Венгрию (манифест подписан 26/IV). Дело петрашевцев было несомненно раздуто в результате соперничества «ведомств»: открывшее «заговор» министерство внутренних дел заинтересовано было в преувеличении серьёзности сделанного открытия, желая тем самым доказать бездеятельность III отделения (жандармерии), не обратившего внимания на петрашевцев. Чернышевский, лично знавший некоторых из арестованных петрашевцев (Ханыков, Дебу, Филиппов), прав был, характеризуя их арест как «подлую и глупую историю». ↩︎
Норманское моление (?). Из записей Чернышевского в «Дневнике» за 21–25/IV видно, что, давая уроки в семье М. Б. Чистякова, Николай Гаврилович преимущественно занимался с учениками историей средних веков. Повидимому, упоминание о «норманском молении» (запись здесь не вполне четка) связано с его рассказом о набегах скандинавов-норманов на европейские государства в VIII—IX вв. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Повесть Ж. Занд «Теверино» была напечатана в «Отечественных записках» за 1845 г. (т. 42). ↩︎
Через Неву. Ред. ↩︎
Любуша, по преданию, чешская королева IX в., за несправедливый суд принуждена была отказаться от управления государством. Этот эпизод составляет главное содержание так называемой Зеленогорской рукописи, которая вместе с Краледворской рукописью являются поддельными памятниками древне-чешской литературы X—XI в. На русском языке издано несколько переводов Краледворской рукописи ещё в первой половине XIX в.: перевод Шишкова — Спб. 1820, А. Соколова — в «Учёных записках Казанского университета» (1845 г., т. IV, и 1846 г., т. I), H. Берга — в «Московском сборнике на 1846 г.» (М. 1846 г.). ↩︎
Вероятнее всего, здесь имеется в виду одна из печатных работ немецкого филолога Готфрида Германа (1772–1848 гг.), лейпцигского профессора. Менее вероятно, что здесь речь идёт о трудах основателя в России научной статистики К. Ф. Германа (1767–1838 гг.) ↩︎
Как следует из ряда последующих записей в «Дневнике», письмо это было от родителей из Саратова с предложением провести летние каникулы на родине. ↩︎
Противоречие в определении. ↩︎
Вероятно, описка вместо сосуда. Ред. ↩︎
Перевод романа А. Дюма «Две Дианы» печатался в «Отечественных записках» за 1847 г. (тт. 51–55). ↩︎
«Записки императорского русского географического общества» — непериодическое издание, выходившее в СПБ. с 1846 г. «Записки» издавались по трем отделениям: 1) по общей географии (физическая и математическая география), 2) по статистике, 3) по этнографии. ↩︎
Рост числа голосов, поданных за кандидатуры демократов при выборах в законодательное собрание (см. выше, прим. 121), поставил их лицом к лицу с большинством собрания, состоявшим из монархистов. Лидеры демократов под давлением рабочих организаций пошли на парламентское оппозиционное выступление против правительства, закончившееся «мирной демонстрацией» 13 июня 1849 г. под лозунгом защиты конституции. Демонстрация была разогнана, вожди демократов бежали. Одновременно произошёл ряд демонстраций в провинции, причём в отдельных случаях они переросли в вооружённые восстания (Лион, Тулуза, Страсбург), вскоре, однако, подавленные войсками, правительства. ↩︎
Чернышевский здесь имеет в виду бомбардировку Рима французским экспедиционным корпусом под командою генерала Удино. ↩︎
Злорадство ↩︎
«Натан Мудрый» — драма Лессинга, изданная в 1779 г. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред ↩︎
«Поэзия и правда моей жизни» — автобиография Гёте, изданная в 1811–1831 гг. (4 тома). Сокращённый русский перевод этого произведения печатался в «Современнике» за 1849 г. (№№ 7–10). ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Русский перевод «Германа и Доротеи» Гёте, выполненный Фетом, напечатан в «Современнике» за 1856 г. (№ 7). ↩︎
Письмо это не сохранилось. ↩︎
13/VIII 1849 г. венгерские революционные войска под командою Гёргея принуждены были капитулировать перед превосходящими их численностью русскими войсками, посланными Николаем I для подавления венгерского восстания. ↩︎
«Дженни Эйр» — английский роман в пяти частях, перевод которого был напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (тт. 64–66). Редакция журнала, отмечая успех романа в Англии, указывает, что автор его неизвестен. Существовало предположение, что роман этот написан гувернанткой, работавшей в семье Теккерея, которому 2-е издание этого анонимного произведения и посвящено. (Одновременно в Англии шумным успехом пользовался роман на ту же тему самого Теккерея — «Vanity Fair»). ↩︎
«Калевала» — финская поэма, составленная из народных карельских песен учёным Э. Ленротом, опубликованная в печати впервые в 1835 г. и в расширенном, повторном издании — в 1849 г. Составителем поэмы использован был текст 50 песен (рун). Отрывки из «Калевалы» в русском переводе Я. Г. Грота помещены были в «Современнике» за 1840 г. ↩︎
Здесь разумеется Чернышевским одно из двух энциклопедических изданий фирмы Брокгауз: или «Conversations-Lexicon der Gegenwart (4 тома, 1838–1841 гг.), или «Die Gegenwart» (12 томов, 1848–1856 гг.). ↩︎
«Conversations-Lexicon» — немецкий энциклопедический словарь, начавший издаваться в 1796 г. В 1808 г. издание перешло в руки Брокгауза (см. именной указатель). Первое издание словаря вышло в 1809–1811 гг. Словарь много раз переиздавался и значительно перерабатывался и обновлялся — до 1848 г. вышло уже седьмое его издание. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Нападаю. ↩︎
Прошедшее время. ↩︎
«Северное обозрение» — учёно-литературный ежемесячный журнал, издававшийся в 1848–1850 гг. в Петербурге Ф. К. Дершау. ↩︎
Повесть эта называлась «Теория и практика», см. XI том настоящего издания. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
«Siècle» наряду с «La Presse» — одна из популярнейших французских газет умеренно-либерального направления. Основана она была в период июльской монархии, в 1836 г., и имела среди своих постоянных сотрудников Дюпона де Лера, Одилона Барро и др. В 1839 г. газета уже имела около 30 тыс. подписчиков. Представляя мнение оппозиционных конституционалистов, эта газета после февральской революции 1848 г. высказывается за республику. Редактором её в этот период (по 1851 г.) был M. Chambolle. ↩︎
Роман Ж. Занд «La petite Fadette» издан был в 1846–1848 гг. ↩︎
Здесь имеется в виду работа французского литератора и журналиста Touchard-Lafosse (1788–1847) — «Chroniques de l'Oeil-de-Boeuf, des petits appartements de la cour et des salons de Paris sous les régnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI» (изд. 1829–1833 гг. в восьми томах). ↩︎
То есть от Пыпиных для И. Н. Терсинской. ↩︎
«Histoire des Franèais» Сисмонди (1–31 том) издана была в 1821 — 1844 гг. ↩︎
Роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» был напечатан в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 57). ↩︎
Повесть А. И. Герцена «Кто виноват?» (1-я часть) напечатана в «Отечественных записках» за 1845–1846 гг. (тт. 43 и 45). ↩︎
Роман Чарльза Диккенса «Замогильные записки Пикквикского клуба или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях учёных членов-корреспондентов покойного клуба» напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 67). ↩︎
«Немецкая иллюстрация» — очевидно, «Illustrierte Zeitung» (см. выше, примечание 40). ↩︎
Эта работа Чернышевского включена во II том настоящего издания. ↩︎
Имеется ввиду исполнение приговора над петрашевцами 22/ХII 1849 г. на Семёновской площади. Привезённым туда петрашевцам был прочитан смертный приговор. Затем их одели в белые рубашки с колпаками и троих из них привязали к столбам. После этого войскам была дана команда готовиться к стрельбе. В эту минуту прискакал фельдъегерь, сообщивший о «высочайшем помиловании», то есть о замене смертной казни ссылкой на каторгу на разные сроки. ↩︎
То есть повестку на получение 25 рублей. ↩︎
Заговорщики — петрашевцы. Разгул реакции исключал в представлении современников мысли о возможности смягчения участи осужденных. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
В таком шуме зима съедает сухие кости лета (кузница). Ред. ↩︎
Книга Срезневского И. И. «Мысли об истории русского языка» была издана в 1849 г. и явилась крупным событием в науке. Эта работа оказалась необходимым предшествующим этапом для «Опыта исторической грамматики русского языка» Буслаева (изд. в 1858 г.). ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
То есть Пыпины, жившие в Аткарске. ↩︎
Загадка, предложенная Фрейтагом; см. запись 17/I 1849 г. ↩︎
Здесь Чернышевский имеет в виду свою запись в «Дневнике» от 18 сентября 1848 г. ↩︎
Снизу. ↩︎
Сверху. ↩︎
Эта запись свидетельствует о быстром политическом росте студента Чернышевского, ещё не так давно (18/IX 1848 г.) совершенно безнадёжно смотревшего на будущее России (см. примечание 21). См. аналогичную запись от 11/II.1853 г. ↩︎
Следует напомнить, что с произведениями Фейербаха Чернышевский познакомился лишь в начале 1849 г. (см. запись 27/II). О влиянии Фейербаха см. запись от 15/IX 1850 г. ↩︎
Les Antiquités russes. — Вероятнее всего, здесь Чернышевский имеет в виду издание императорского Русского археологического общества «Mémoires de la Société d'archéologie et de numismatique de St.-Pétersbeurg (6 тт., изд. 1847–1852 гг.). ↩︎
Статья В. А. Милютина о Мальтусе и его противниках была напечатана в «Современнике» 1847 г., №№ 8 и 9. ↩︎
«Памятник» Державина написан был в 1796 г. Об этом произведении Белинский был очень высокого мнения: «Хотя мысль этого превосходного стихотворения взята Державиным у Горация, но он умел выразить её в такой оригинальной, одному ему свойственной форме, так хорошо применить её к себе, что честь этой мысли также принадлежит ему, как и Горацию» (Белинский, Соч., том VII, стр. 149). Стихотворение Пушкина «Памятник» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…») написано в 1836 г. ↩︎
Окончательная тема для кандидатской диссертации взята Чернышевским у Никитенко («О «Бригадире» Фонвизина», см. том II настоящего издания). Степень кандидата получена Чернышевским 11/IX 1850 г. Тему для магистерской диссертации Чернышевский, как известно, взял тоже по кафедре Никитенко (см. примечание 44). ↩︎
Очевидно, здесь Чернышевский имеет в виду итоги дополнительных выборов депутатов в Законодательное собрание 10 марта 1850 г. (не надо забывать при этом о разнице между счётом времени по старому и новому стилю, которая равнялась в XIX в. 12 дням). 10 марта в больших городах одержал победу «красный список», и от Парижа были избраны Карно, Видаль и де Флотт. Но реакция продолжала усиливаться. Признаком этого явился закон 31 мая 1850 г. об отмене всеобщего избирательного права. ↩︎
Повесть Ф. М. Достоевского «Двойник» была напечатана в «Отечественных записках» 1846 г., т. XLIV. ↩︎
«Revue Indépendante» — французский журнал, издававшийся в 1841–1847 гг. П. Леру, Виардо и Ж. Занд. ↩︎
Фишер А. А. исполнял в 40–50-х годах обязанности цензора. ↩︎
«Не печальная элегия, поэтому не надо читать таким голосом». — «Это природный порок». ↩︎
Вместо волосы — девушки. ↩︎
Н. Г. Чернышевский писал родителям в Саратов о своём предположении остаться в Петербурге по окончании университета и спрашивал согласия на это. Из позднейших записей «Дневника» видно, что это согласие ему было дано (см. запись от 10/V 1850 г.). Однако это решение и у самого Чернышевского было недостаточно твёрдое — он одновременно с подыскиванием места в Петербурге (по ведомству военно-учебных заведений) хлопотал через попечителя Казанского учебного округа В. П. Молоствова о преподавании в саратовской гимназии. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Карета — дилижанс, курсировавший по городу в установленном направлении и за небольшую плату перевозивший всех желающих; введен был в Москве и Петербурге лишь в конце 40-х годов. ↩︎
Окончательная тема для кандидатской диссертации взята Чернышевским у Никитенко («О «Бригадире» Фонвизина», см. том II настоящего издания). Степень кандидата получена Чернышевским 11/IX 1850 г. Тему для магистерской диссертации Чернышевский, как известно, взял тоже по кафедре Никитенко (см. примечание 44). ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Ta же фамилия, как и выше. ↩︎
В 1850 г. Чернышевский оканчивал университетский курс и в связи с нерешенным вопросом о своей дальнейшей работе колебался, ехать ли летом на родину в Саратов или оставаться в Петербурге, перейдя на жительство в семью Ворониных, где он давал уроки. В конце концов он решил ехать в Саратов (см. запись от 3/VI 1850 г.). ↩︎
Путешествие из Петербурга в Саратов производилось до Москвы в карете-дилижансе, проходившей это расстояние в течение 80 часов. Железная дорога между двумя столицами была открыта лишь во второй половине 1851 г. ↩︎
Приехавшего в Петербург попечителя Казанского учебного округа Молоствова Чернышевский посетил в связи с хлопотами о переводе А. Н. Пыпина из Казанского в Петербургский университет. ↩︎
Эта часть «Дневника» писалась уже в Саратове, и запись событий по 26 июня производилась по памяти, задним числом. ↩︎
Ив. Фот. — племянник Гав. Ив. Чернышевского, священник, лишённый права совершать церковную службу и долго хлопотавший о реабилитации. О его деле см. в прим. к XIV т. наст. издания. ↩︎
В отличие от всех других случаев под именем Алексея Тимофеевича здесь разумеется не Петровский А. Т., а дьякон Сергиевской церкви в Саратове, в которой настоятелем был отец Николая Гавриловича. ↩︎
De l'Esprit — очевидно, Чернышевский имеет здесь в виду произведение французского философа Гельвеция (1715–1771 гг.) «Livre de l'esprit», появившееся в печати в 1758 г. По мнению Гельвеция, человеческое поведение обусловливается стремлением к наслаждению и отрицанием страдания. Таким образом эгоизм является источником всякой деятельности людей. ↩︎
Мы — Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин. ↩︎
Рукопись «Дневника» продолжается дальше на черновике прошения о месте в Саратове. Прошение это подано не было, так как попечителя учебного округа В. П. Молоствова в это время в Казани не было, а, как следует из последующих записей, прошение должно было быть подано лично Чернышевским. ↩︎
Имеется в виду проект изобретения Чернышевским «вечного двигателя» (см. примечание 1). ↩︎
Здесь Чернышевский говорит о работе Вильгельма Гумбольдта — см. именной указатель — «Гумбольдт В.». ↩︎
«Журнал министерства внутренних дел» издавался ежемесячно с 1829 по 1861 г. и являлся официальным ведомственным изданием. В 1861 г. заменен был ежедневной газетой «Северная почта». ↩︎
Речь идёт здесь о тексте пробных лекций, которые должны были быть прочитаны Чернышевским на испытании для поступления преподавателем в военно-учебные заведения. ↩︎
См. примечание 192. ↩︎
Переговоры с Тихоновым касались вопроса о поступлении Чернышевского преподавателем в Артиллерийское училище. Как следует из записи 9/XII, это место Чернышевским не было получено. ↩︎
Переписка, на которую ссылается Н. Г. Чернышевский, до нас не дошла — за 1850 г. сохранились его письма лишь до 13 июня. ↩︎
Чернышевский составлял записки лекций Срезневского и помогал ему при держании авторской корректуры. В это время (с середины октября) Чернышевский занимался с одним молодым человеком (Мерк), готовившимся к сдаче экзамена на домашнего учителя, и, наконец, Чернышевский решил сделать для И. И. Введенского перевод с английского языка для «Отечественных записок» (в благодарность за помощь при подыскании места в Петербурге). ↩︎
Неразборчиво — грознѣ? Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Дальше Чернышевский приводит перечень виденных им драматических и оперных спектаклей. ↩︎
Обычно под именем Николая Ивановича Чернышевский разумеет в своём «Дневнике» Н. И. Костомарова. Кого он имеет в виду здесь (разумеется, что не Костомарова),— установить не удалось. ↩︎
Сверхнабожный человек. Ред. ↩︎
Неразборчиво — Малышевы? Ред. ↩︎
фамилия не разобрана. Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Одно слово неразборчиво. Малышевых? Ред. ↩︎
«Фрейшиц» («Волшебный стрелок») — опера немецкого композитора Вебера (1786–1826), написанная в 1817–1820 гг., впервые была поставлена в 1821 г. «Вильгельм Телль» — опера итальянского композитора Россини (1792–1868 г.), впервые была исполнена в 1829 г. Любопытно, что до 60-х годов на русской сцене эта опера давалась с музыкой Россини, но при искаженном сюжете и с измененным названием («Карл Смелый»). ↩︎
Далее в записях перерыв до 4 марта. Дневник своих отношений с О. С. Васильевой, начатый 19 февраля, Н. Г. Чернышевский вёл особо. ↩︎
Описываемые здесь эпизоды происходят на квартире Акимова; одна из дочерей хозяев, Елена Васильевна, была в это время невестой и вскоре вышла замуж. ↩︎
К этой и следующим цифрам в скобках относятся «Дополнения к моему дневнику о той, которая теперь составляет моё счастье», прибавленные Н. Г. Чернышевским 7 и 14 марта. См. ниже. ↩︎
Эта мысль о неизбежности столкновения в будущем с карательными органами царской России неоднократно встречается во многих последующих записях «Дневника» (см. 21/II, 13/III 1853 г.). ↩︎
Что Чернышевский пользовался своим положением педагога для посильного распространения своих революционных взглядов, видно из той оценки, какая ему давалась его учениками: «Среди смешного и дурного в бытность мою в гимназии было хорошее и светлое; последние годы моего пребывания в заведении это хорошее и светлое тесно связано с воспоминаниями об одном учителе (Н. Г. Чернышевском. — Ред.), имевшем громадное и благотворное влияние на умственное и нравственное развитие своих учеников» (воспоминания В. И. Дурасова — см. «Русская старина», 1911 г., том I, ст. 76–77). Связи Чернышевского с саратовскими его учениками не прекратились и после ухода его из гимназии — приезжавшие саратовцы охотно посещали в Петербурге дом Н. Г. Чернышевского в годы его работы в «Современнике». ↩︎
Два слова неразборчивы; может быть, несколько или отчасти. Ред. ↩︎
Расчёты Чернышевского были верны. Правда, по приезде в Петербург ему пришлось браться за самую разнообразную работу (он служил во 2-м кадетском корпусе преподавателем, работал по правке корректуры, сотрудничал в «Отечественных записках», в «Современнике», в «Петербургских ведомостях», в журнале «Мода» и т. д.). Но уже в 1856 г. за работу в редакции «Современника» он имел 3 тыс. рублей в год и сверх того по 40 руб. с листа за все написанные для журнала работы (с 1858 г. полистный гонорар ему был повышен до 50 руб.). ↩︎
То есть на 7 недель великого поста. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Шиллер, «Песнь о колоколе». У Шиллера последние слова: der jungen Liebe. Ред. ↩︎
Страница оригинала, соответствующая стр. 520 настоящего издания. Ред. ↩︎
Гёте, «Mailied». Ред. ↩︎
Записка Палимпсестова опубликована в приложениях ко II тому «Дневника» Чернышевского, М. 1932 г., стр. 295. ↩︎
Н. Г. Чернышевский решил подарить О. С. Васильевой книгу сочинений Кольцова и предварительно отдал её в переплет. ↩︎
Между прочим, когда она не хотела подать мне руку, чтоб пройтись по залу, и отвертывалась от меня, я сказал (тут стояла Ел. Вас. и сказала: «О. С. решительно на вас сердится»): «О. С. изволит капризничать, только она забывает, что капризничать можно только тогда, когда наши капризы кого-нибудь огорчают». — Она обернулась ко мне с раздражённым видом: «Что вы сказали?» — «То, что мы можем капризничать только тогда, когда наши капризы кого-нибудь огорчают, и что поэтому вы напрасно капризничаете». — После этого она ещё больше стала выказывать досады на меня. Это было почти перед самым отъездом. Авт. ↩︎
К этим встречам в Петербурге Чернышевский ещё раз возвращался позднее. Впечатление от неизвестной девушки на выставке (запись от 21/VI 1849 г.) сохранилось у него до старости (см. его письмо из Сибири от 8 марта 1876 г.), а о вечере у Писарева (запись от 29/XII 1848 г.) он ещё раз упоминает дальше в «Дневнике» (см. запись 14/III 1853 г.). ↩︎
Если бы молодость знала. ↩︎
Предположения Н. Г. Чернышевского были ошибочны — его родители весьма отрицательно отнеслись к его женитьбе на Ольге Сократовне, и этот вопрос его сильно заботил впоследствии (см. запись 28/III и дальше). ↩︎
19/II 1853 г. Н. Г. Чернышевский сделал предложение О. С. Васильевой. ↩︎
Это слово не совсем разборчиво. Может быть, блинник. Ред. ↩︎
Самоотречение. ↩︎
Друг Платон, друг Сократ, но ещё больший друг истина. ↩︎
Брат — здесь и ниже — это двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин, в то время студент Петербургского университета. Иван Григорьевич — Терсинский, женатый на сестре А. Н. Пыпина, вскоре умершей. ↩︎
Записка эта не сохранилась. ↩︎
Только не говорите никому о моей женитьбе. Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Неразборчиво — райскую? Ред. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
«Давид Копперфильд» Диккенса был издан на русском языке в переводе И. И. Введенского (на английском языке он напечатан был в 1849–1850 годах). ↩︎
Как видно из последующих записей (см. запись 2/IV), Ольга Сократовна решила выйти замуж до отъезда Н. Г. Чернышевского из Саратова, и в Петербург Чернышевский уехал в начале мая уже вместе с женой (его свадьба состоялась 29 апреля). ↩︎
Речь идёт о родителях Ольги Сократовны, невесты Н. Г. Чернышевского. ↩︎
Ваши отношения ко мне, ваши мысли обо мне, о моих чувствах неопределённы. Эта неопределённость мучит меня. Я решительно затосковал. Ждать до воскресенья — нестерпимо. Да и что будет в воскресенье! снова не удастся мне сказать с вами ни одного слова. Я прошу у вас позволения быть ныне у Анны Кирилловны. Это тем более необходимо, что во вторник я спрашивал А. К., а не вас,— это ей, конечно, сказали,— и между тем не был у неё. Это неловко. Если вы не пришлете до 5 часов мне с Венедиктом приказания не быть, в 6 часов буду у А. К. Чтоб хоть на минуту видеть вас, чтоб сказать с вами хоть одно слово. До сих пор я не мог достичь даже того, чтоб вы считали меня человеком честным. Нет, это невыносимо. 12 марта [1853 г.] (писано в ½ XII и отдано Венедикту). Авт. ↩︎
Я сказал ещё: я довольно жил в своих отношениях, кроме любви к женщине. Я много испытал. Но я никогда не испытывал ничего настолько сильного, как то, что заставляют меня испытывать мои отношения к вам. И это правда. Авт. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Блумеристки — так назывались последовательницы американки Амалии Блумер, которая в 1850 г. начала носить мужской костюм, считая покрой женского платья вредным для здоровья. Блумеризм в 50-х годах XIX века нашёл ряд сторонников в Америке и в Англии, но вскоре интерес к нему пропал. ↩︎
«Проступок г. Антуана» — роман Ж. Занд. ↩︎
Об «Эстетике» Фишера см. в Именном указателе: Фишер Ф.-Т. ↩︎
То есть за три месяца. ↩︎
В первое время самостоятельной семейной жизни в Петербурге Н. Г. Чернышевский сотрудничал в ряде журналов и имел постоянную работу по найму. В частности его работы в 1853–1856 годах печатались одновременно и в «Отечественных записках» и в «Современнике». Лишь с апреля 1856 г. он является сотрудником и вскоре руководящим редакционным работником лишь в одном «Современнике». ↩︎
Она не могла сказать мне ни слова, было слишком много подслушивающих, я мог спросить только её взор,— и хорошо понял, что он говорил. ↩︎
«Так вы уедете в мае?» — «Даже раньше, если можно». — «И мы поедем на лето с папенькою в Харьков недели на две и воротимся в конце июля». И я с грустным, но покорным тоном сказал: «И выйдете там замуж». — «За кого же? Я там знаю всех. Я говорила вам, что там один помещик сватал меня, но я не пошла за него и не пойду». Авт. ↩︎
Я был так глуп, что в это время в самом деле думал, что эта смерть только брата, которого, может быть, она любила. Но потом увидел, что умер, в самом деле, ещё другой, и о нём она так грустит. Это было уже после. Авт. ↩︎
Шумит дубрава, плывут облака; на зеленом берегу сидит девушка, волны разбиваются с силой, а она посылает стоны во мрак ночи, слёзы туманят её глаза. Умерло сердце, мир опустел, нечего больше делать. — Святая, призови своё дитя, я изведала земное счастье, я жила и любила. — Напрасно лить слёзы, скорбь не воскресит мёртвых. Но скажи, что утешит и исцелит грудь после исчезновения радостей сладкой любви: я, святая, не откажу в том. — Пусть напрасно струятся слёзы, и скорбь не воскресит умершего, но самой сладкой отрадой для скорбящей груди после исчезновения радости прекрасной любви являются скорби и сетования любви. — Шиллер, Das Mädchens Klage. 7 стих у Шиллера читается: Und weiter giebt sie dem Wunsche nichts mehr. ↩︎
Да, я сержусь. Ред. ↩︎
Завтра в пять часов. Ред. ↩︎
Н. Г. Чернышевский не раз получал приглашение на обед к саратовскому губернатору М. Л. Кожевникову. Здесь речь идёт об одном из таких случаев. ↩︎
Комната Н. Г. помещалась наверху в мезонине. ↩︎
Что и требовалось доказать. ↩︎
То есть записку с надписью «будущему сыну». ↩︎
Сядьте здесь. ↩︎
Относятся к стр. 410–412 настоящего издания. Ред. ↩︎
Неразборчиво. Эдмонду? Ред. ↩︎
Н. Г. Чернышевский неоднократно имел столкновения с директором саратовской гимназии — типичным представителем дореформенной школьной администрации. Обычно предметом расхождения их являлся характер школьных занятий, так как Н. Г. Чернышевский, как правило, отступал от казенных формальных приемов преподавания, что сказывалось как на темах, подлежащих изучению, так и на методике его занятий. ↩︎
Чернышевский имеет в виду здесь настроение Ольги Сократовны в связи со смертью её двоюродного брата В. И. Рычкова. ↩︎
Неразборчиво. Ред. ↩︎
Разрешение на вступление в брак. ↩︎
Евгения Егоровна, мать Н. Г. Чернышевского, серьёзно болела и 19 апреля 1853 г. умерла. Свадьба Н. Г. Чернышевского с О. С. Васильевой произошла 29 апреля, и через несколько дней они уехали в Петербург. Очевидно, все эти события помешали дальнейшему ведению «Дневника». ↩︎
Фамилия неразборчива. Ред. ↩︎
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дубовый листок оторвался от ветки родимой». ↩︎
«Страницы, которые могут быть интересны для Ольги Сократовны (это пишу 14 марта накануне дня её рождения — 15 марта, воскресенья): 4 стр., конец — о женщинах, не внушающих неприятного чувства; 5, 16 [строка] внизу; 8, [строка] 28; 17, мнения о Василии Петровиче; 18, конец; 25, начало; 28, 12 [строка] снизу.» (Пометка Н. Г. Чернышевского к Дневнику 1848 г.; указанные места соответствуют следующим страницам настоящего издания: 43, 14 строка и след. снизу; 44, 8 и след. снизу; 49, 14 и след. снизу; 63, 15 и след.; 66, 5 и след. снизу; 80, 22 и след.; 85, 21 и след.) Ред. ↩︎
Черновик ответа на просьбу А. К. Васильевой изложить взгляды жениха её дочери на семейную жизнь. См. запись Дневника от 2 апреля 1853 г. Беловой текст не сохранился. ↩︎
О предках Чернышевского известно немногое. Его прадед по отцу Василий (отчество неизвестно) и дед Иван служили дьяконами церкви в с. Чернышево, Чембарского у., Пензенской губ. Иван был женат на сестре священника этой церкви. По преданию её предки, как, видимо, и предки Ивана, принадлежали исстари к духовенству; но её отец, в порядке рекрутского набора, выбыл из его рядов на военную службу. 5 июня 1793 г. от этого брака родился отец Чернышевского Гавриил Иванович. Прадед Чернышевского по матери известен только именем — Иван. Дед по ней Георгий Иванович Голубев был протоиереем Сергиевской церкви. От его брака с дочерью крестовоздвиженского священника И. К. Кириллова Пелагеей родилась мать Чернышевского Евгения Егоровна Голубева-Чернышевская. Подробнее о семействе Чернышевских см. в статье С. Н. Чернова «Семья Чернышевских» в II томе «Известий Научно-исследовательского института по изучению Южно-Волжской области им. А. М. Горького в Саратове» ↩︎
Русский перевод романа французского романиста Жозефа Мери «Гева» был издан в 1849 г. ↩︎
Население Саратовского Заволжья начало более или менее расти лишь в конце XVIII в. Впрочем, уже в начале XVIII в. или даже в конце XVII в. в нём по Б. Иргизу возник ряд селений беглых «раскольников». Позже в край проникает много беглых, особенно крепостных помещичьих крестьян. Во второй половине XVIII в., в связи с эксплуатацией соляных богатств Заволжья, в край были переселены и устроены в особых слободах против Саратова (Покровская) и Камышина (Николаевская) привычные к «чумачеству» «коренные малороссияне». Тогда же были вызваны из-за границы для поселения в Заволжьи русские старообрядцы и иностранные (почти исключительно немецкие) колонисты. Приостановленные восстанием Пугачева планомерные мероприятия правительства по колонизации Заволжья возрождаются лишь после совершенной ликвидации в крае последних отголосков восстания и осуществляются под защитою укрепленной линии ог Урала к Волге, через среднее течение Узеней, в форме расселения выходцев из-за рубежа и из внутренних губерний по Узеням, Еруслану и Иргизам. Однако рост населения оказался заметен лишь к 30-м годам XIX века; он позволил в 1835 г. открыть за Волгою два новых уезда: Николаевский и Новоузенский. В 40-х годах XIX века в крае производилось специальное межевание, между прочим рассчитанное и на подготовку колонизационного земельного фонда,— знак того, что край был заселен ещё очень слабо. Не правом берегу Волги население было гуще, чем в Заволжьи, но всё же и здесь простор был очень значителен, особенно на юге, в Камышинском и Царицынском уездах. ↩︎
Что это значит, я не знаю. Разделись ли они для того, чтобы быть страшнее, как люди совершенно отчаянные, пренебрегшие уже всеми принятыми в общежитии правилами? Тогда это производило на меня такое впечатление. Или бабушка не совсем поняла в детстве рассказ отца, говорившего о голых саблях, а не о том, что сами разбойники были без рубах? Но нет, она тоном, голосом показывала, что именно это обстоятельство было важно, производило на её батюшку и на самого Мезина такое же ужасное впечатление, как на меня. Авт. ↩︎
Лощина — ущелье с довольно отлогими стенами. У нас в Саратове большая часть садов близ города разведена в лощинах. Авт. ↩︎
Прежде архиерей в юго-восточном Поволжье был только один, астраханский, а Саратов принадлежал к Астраханской епархии. Потом он принадлежал к Пензенской. Епархия в Саратове открыта уже после 1830 года, чуть не на моей, но ещё не на моей памяти. Авт. ↩︎
Переход от счёта на ассигнации к счёту на серебро был, в существе дела, девальвацией. Эта реформа была вызвана невозможностью поднять ассигнации, курс которых к тому же колебался от 350 до 380 за 100. Проведена она была в конце 30-х — начале 40-х гг. её этапы: в 1839 г. учреждение депозитной кассы, выпускающей билеты, обмениваемые на золотую и серебряную монету, то есть полностью обеспеченные металлом, в 1841–43 гг. выпуск кредитных билетов, обеспеченных серебром на одну треть. При девальвации ассигнация считалась 350 за 100. ↩︎
Чернышевский разумеет тревоги и горе, которые несомненно испытал бы от его ареста и судебного дела отец Г. И. Старик умер за несколько месяцев до ареста Чернышевского. ↩︎
Возок. ↩︎
Даже и я ещё помню остатки этого обычая, просить священника позволения остановиться у него: у него всё-таки почище в комнатах, чем на постоялом дворе. А быть может, постоялого двора и нет на десятки верст, так бывало ещё и лет 30 назад, а прежде, конечно, таких глухих местностей было гораздо больше. Авт. ↩︎
То есть гвоздиками с широкими шляпками, какие теперь употребляются при обивке дверей сукном и т. п. Авт. ↩︎
Не называю его фамилии, потому что если он ещё жив — что очень может быть — и если бы прочел своё имя в такой истории,— чего уж никак не могло быть, потому что он не читал книг, не только новых, но и старых,— то имел бы право рассердиться. Я не знавал его лично, но фамилию слышал часто, и во всём, что я слышал, не было ничего, дававшего искателю кладов основание поставить в пещере именно этого, а не другого купца: я не слышал, чтобы он разбогател быстро или как-нибудь загадочно; да он и не особенно богат,— он из очень второстепенных купцов, так что его имя могло представиться бредившему фантазёру только уже вследствие крайней беспомощности найти какое-нибудь пригодное имя,— а его имя представилось потому, что в семье у него перед тем временем случилось несчастие,— слуга именно и указывал на это несчастие, как на божеское наказание за продажу души чёрту. Авт. ↩︎
Купец NN был уже и сам старик, потому неудивительно, что его душа тоже состарилась. Но, значит, он брил бороду, если длинная борода указана как особенность печального положения его души в закладе. Авт. ↩︎
Холера в Саратове появилась в начале августа 1830 г. В июне 1831 г. холера вновь появилась в Саратове, но была уже значительно слабее, чем в 1830 г. После этого холера в Саратове была в 1847–48 гг. ↩︎
Мнение о том, что действие гоголевского «Ревизора» протекает в Петровске, Саратовской г., естественнее всего было выразить кому-либо из саратовцев, знающих местные обстоятельства и направление местных дорог. Так как Чернышевский называет автора этого мнения своим «бывшим приятелем, а нынешним противником по литературе и прочему вздору», возможно счесть таковым Н. И. Костомарова, саратовского приятеля Чернышевского, с которым в Петербурге он сильно разошелся в политических взглядах. С другими «бывшими приятелями» по Саратову у Чернышевского, кажется, не было разрыва. ↩︎
Нечто вроде широкого шила; им плетут лапти. Авт. ↩︎
Иерусалимки — паломницы, ходившие на богомолье в Иерусалим. ↩︎
Колония питомцев Московского воспитательного дома была первоначально устроена в Горелове, Смоленской губ.; в её организации и быте заметны общие черты с военными поселениями А. А. Аракчеева. В 1830 г. состоялось переселение питомцев в заново устроенную колонию меж городами Саратовом и Аткарском. На беду питомцев общий режим на новом месте испытал мало изменений, быстро усвоив характерные черты жестокого николаевского царствования. Одним из его проводников был Михаил Николаевич Хрущов, о котором рассказывает Чернышевский, жестокий в наказаниях, горячий на руку и несдержанно-вспыльчивый человек. ↩︎
С рассказом Чернышевского об его знакомом необходимо сопоставить переданный В. Н. Шагановым его же рассказ о Сераковском в бытность его солдатом одного из оренбургских линейных батальонов: «Генерал делал смотр. Ему сейчас же донесли, что в рядах находится солдат из политических преступников. Генерал прямо подошёл к Сераковскому, долго смотрел на него, не говоря ни слова, и, наконец, произнес: „читайте пунктики“, то есть катехизис об обязанностях солдата. Сераковский нарочно общесолдатским манером, как бы без всякого понимания того, что говорит, начал,— „Стойте,— закричал генерал. — Стойте! Читайте снова опять!“ Сераковский начал снова и тем же способом. — „Как же, как же это можно образованному человеку?.. И зачем вы мне это отвечаете?“ — залопотал генерал, не зная, как выразить боровшиеся в нём человеческие чувства и сообразовать их с требованиями военной субординации. — „Возьмите, возьмите его из строя!“ — приказал генерал и потом, после смотра, долго толковал с Сераковским. С тех пор Сераковскому стало полегче жить в солдатах». См. Шаганов В. Н. «Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. Воспоминания». СПБ. 1907. ↩︎
В селе Копенах или Львово, Аткарского у., образовалось гнездо крайнего старообрядческого толка — «нетовцев» или «спасовцев». Они утверждали, что антихрист — царь Пётр «потребил» все «божественные тайны» не только в русском православии — «никонианстве», но и во всем мире, что «благодать» взята богом на небо, что поэтому исчезли все обычно употреблявшиеся человеком пути и средства спасения и осталось только два: один «сторонний» человеку — «спасова милость» и другой совершенно ему необычный — «самоубийственная смерть». В делах веры и поведения копенские нетовцы долго подчинялись главному наставнику вероисповедной группы И. С. Бездельеву, проживавшему в скиту Формозовского буерака, в 30 км от Саратова. Однако социальный состав Копен и Формозовского скита был различен: в первом — владельческие крепостные крестьяне, во втором — смешанный, крестьянско-мещанско-купеческий, с заметным преобладанием городского элемента; отсюда в Копенах не только держится, но крепнет психологическая готовность уйти из греховного и безблагодатного царства антихриста в небесный рай верным путём «самоубийственных смертей», а в скиту, с его тихим и далеким от жизни бытом одних и ростом благосостояния других, сначала увядает и никнет решимость стать на этот путь, а потом он уже кажется бесполезным и даже вредным, и вся надежда возлагается на «спасову милость». В итоге отступления вождей копенцы слагаются в самостоятельную религиозную группу, с руководящею семьею Юшкиных. Отец — А. Юшкин — в 1802 г. начал проповедывать близкое пришествие антихриста и «самоубийственную смерть» как верное средство спасения и сумел подготовить, но не сумел осуществить массовое самоубийство, попытка к которому была ликвидирована местными крестьянами, не принадлежащими к секте «нетовцев». Тогда и самое копенское гнездо секты было раздавлено. Отбыв наказание, Юшкин в 1819 г. или несколько позже вместе с одною своею последовательницей принял в пещере близ Копен «самоубийственную смерть». Повидимому, это подняло упавшие с 1802 г. настроения копенцев, среди которых к тому же постепенно сложился новый руководящий центр во главе с И. Юшкиным — сыном. Последний в ночь на 1 марта 1827 г. организовал и провёл массовое добровольное убийство двух семей, в 35 человек, полностью, от полугодовалого ребёнка до 70-летнего старика: у семи из них было перерезано, у остальных перерублено горло. Следует иметь в виду, что часть копенских нетовцев отклонила предложенную им Юшкиным «самоубийственную смерть» (40 чел.) ; из них 16 впоследствии были обращены в православие. «Копенское действо» имело огромные последствия во всем укладе отношений к старообрядчеству местной светской и духовной власти. Инициатором произведённых реформ (в том числе и образования особой саратовской епархии) был губернатор кн. А. Б. Голицын, а одним из деятелей по борьбе со старообрядчеством стал отец Чернышевского, выдвинувшийся в этой области в 1827 г. при второй ликвидации копенского гнезда нетовцев и награжденный по этому делу фиолетовой бархатной скуфьей. Об отношении отца Чернышевского к расколу можно судить по следующему неопубликованному документу, «предложению» обер-прокурора гр. Протасова синоду от 12 апреля 1837 г., копия коего сообщена редакции Н. А. Алексеевым. «Саратовский преосвященный сообщил мне, что благочинный г. Саратова протоиерей Чернышевский, для водворения порядка при существующих в сем городе раскольнических часовнях, признает, по местным обстоятельствам, весьма полезными следующие предположения: 1) поелику известно, что секта поповская и поморская имеют старшин или попечителей, то сим лицам выдавать именной список, за подписанием полицмейстера, для внесения в оный вновь родившихся и умерших, который ежегодно поверять полицмейстеру или по доверию его чиновнику полиции, и без огласки, но не без сведения местного приходского духовенства и благочинного. 2) Раскольники не должны переходить своевольно из одной секты в другую, а ежели убеждаются в неправости своей секты,— обязаны обращаться к соединению с православною церковью; за нарушение сего хотя следует судить и переходящего, но всю строгость законов обращать на принявшего, как распространителя раскола. 3) Также не должны они, раскольники, принимать новоприбывшего в г. Саратов, хотя бы то был и старообрядец же, на общественное моление, ни исправлять у него треб без дозволения полицмейстера. 4) Не излишним было бы, к сокращению своевольства попечителей или старшин общества, подчинить их в отчетности прихода и расхода денег, поступающих от продажи свеч, вкладов и кошелькового сбора, или магистрату, или думе, и для сего выдавать им шнурозапечатанные книги. 5) Для записи рождающихся, брачущихся и умерших выдавать им ежегодно таковые же книги из саратовской градской полиции и особо шнурованную книгу для писания обысков брачных, и писать оные по форме, какою пишутся сии же книги в церквах православных; метрические книги по окончании года представлять полицмейстеру, а обыскные оставлять при молитвенном доме, пока испишутся. 6) От старшин поповской секты требовать исповедных росписей за подписью священников, по образцу подаваемых православным духовенством. 7) Поелику в секте поморской числится только около 600 душ мужеского пола, а молитвенных домов сей секты в Саратове три: первый, каменный, на общественном сей секты месте, второй при доме дворянина Волкова, третий при саде купца Никитина, Кабанова тож, то полезно было бы причислить всех поморцев к одному молитвенному дому. 8) Для собраний их на моление оставить первый из вышеупомянутых домов, как достаточный к помещению показанного числа душ, включая и женский пол, и 9) затем остальные два молитвенные дома упразднить. Преосвященный, признав с своей стороны предположения сии уважительными и полезными к уничтожению раскола, просил на приведение их в исполнение согласия саратовского гражданского губернатора, но как он отозвался, что на сие нужно иметь предписание министерства внутренних дел, то преосвященный отнесся ко мне об оказании в сем случае содействия. Вследствие сего я относил вышеозначенные предположения по принадлежности на усмотрение г. министра внутренних дел, который представлял об оных на высочайшее разрешение. Его императорское величество, находя предположения сии неудобными, ибо оные согласуются с теми правилами, коими руководствуются вообще священники при церквах, между тем как раскольнические действия не признаются законными, высочайше повелеть соизволил: предоставить св. Синоду сделать преосвященному саратовскому надлежащее по сему предмету наставление». (Оригинал этого документа находится в Ленинградском центральном историческом архиве.) ↩︎
Бенарес или Бонарес — главный город одноименной области в Индии, центр браминской учёности, священный город индусов. Джагарнат или Джаггернаут, также Джаганнатха — девятое воплощение Вишны в виде Кршны. Упомянуто Чернышевским вместо местечка Пури, где происходило поклонение Джаганнатхе. Шива — одно из трёх главных божеств индусов послеведдийской поры. Под Бахвани Чернышевский, вероятно, разумел Бгавани, жену Вишну. ↩︎
С замечаниями Чернышевского по поводу книги Кинглека «The invasion of the Crimea», 1863, ср. его статью «Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку)», написанную, как и автобиография, в крепости (см. X том настоящего издания). ↩︎
Алексей Давыдович — А. Д. Панчулидзев, саратовский губернатор с 1808 по 1826 г. До назначения на должность губернатора работал в Саратове по соляному делу. Будучи губернатором, Панчулидзев вёл весьма широкую и весёлую жизнь, требовавшую значительных расходов. Между тем средства, которыми он обладал, были весьма ограниченными. Под влиянием этого Панчулидзев допустил ряд злоупотреблений по должности, раскрытых ревизией, произведённой в 1826 г. и приведшей к отставке Панчулидзева. ↩︎
Старший Брут — Люций Юний Брут, внук Тарквиния Древнего,— римский государственный деятель конца VI в. до н. э., организатор и вождь патрицианского восстания против царской власти. По легенде, он осудил на смерть, вместе с другими заговорщиками против нового порядка, двух своих сыновей и сам присутствовал при их казни. ↩︎
Баус, Фёдор Яковлевич, начал свою службу в пензенской градской полиции: приехав в Саратов, он последовательно проходил должности квартального надзирателя, пристава 4-й части и с 1842 г. пристава 1-й части. Находясь на службе в 1-й части, Баус возбудил против себя подозрения как в неправильных действиях по розыску в уголовных делах, так и в причастности к ряду таковых дел. Особенно сильны были улики против Бауса в деле о грабеже у отставного чиновника Секавина, в Долгом буераке, близ Саратова: в одном из грабителей, убитом Секавиным при защите, был опознан работник на мельнице жены Бауса Пятаков, причём относительно последнего выяснилось, что он состоял под следствием по обвинению в конокрадстве и ограблении церкви в слободе Покровской против Саратова, и что он был по «приказанию» Бауса, скрывшего его второе преступление, взят на поруки некиим мещанином Астрадымовым и тогда же определён Баусом работником на женину мельницу. Гибель Пятакова в секавинском саду дала возможность начать распутывать клубок грабежей и дерзких краж в Саратове, особенно за 1843 г.; не доверяя местной власти, министерство внутренних дел поручило расследование своему чиновнику Васильчикову. Следствие открыло шайку грабителей — разбойников и обширный круг их пособников; оно имело указания на связи их с Баусом, но не смогло установить организационного характера этих связей. Баус был предан суду саратовской уголовной палаты, а затем сената. Первая оставила его в сильном подозрении, а второй признал виновным в ряде служебных преступлений и постановил лишить его всех прав состояния и сослать на поселение в Сибирь. Но ни та, ни другой, несмотря на ряд улик, не признали его виновным в соучастии с грабителями. Тем не менее министр внутренних дел А. А. Перовский в разговоре с саратовским губернатором А. М. Фадеевым определённо говорил о соучастии Бауса. ↩︎
Энциклопедия Плюшара — «Энциклопедический лексикон», издававшийся в 1835–1841 гг. петербургским издателем А. Плюшаром и бывший первым в России опытом издания энциклопедического словаря. Издание его не было доведено до конца, прекратившись на букве «Д». ↩︎
Здесь и дальше Андрей Васильич именуется в рукописи В. М. — Ред. ↩︎
Наши волжские «суда» разделялись на два тогда (вероятно, и теперь тоже) [сорта]: судно — это большой сорт,— то же, как в морском деле «корабль» — и всякий корабль, и, собственно, только линейный корабль; дощаник относился к «судну», как фрегат к кораблю, и тоже славился перед ним лёгкостью на ходу. Авт. ↩︎
Так в рукописи; Следует Мавра ↩︎
Так в рукописи; Мавра ↩︎
Так в рукописи и далее. ↩︎
Так в рукописи. ↩︎
Так в рукописи. ↩︎
Как видно из письма Н. Г. Чернышевского к отцу от 18 мая 1853 г. (см. XIV том настоящего издания), Чернышевский и его жена приехали в Петербург 13 мая 1853 г. ↩︎
Сотрудничество Н. Г. Чернышевского в «Отечественных записках» началось с № 7 за 1853 г. Возможно, что литератором, рекомендовавшим его А. А. Краевскому, был М. Л. Михайлов, с которым Чернышевский был знаком ещё со студенческих лет и который с 1852 г. являлся постоянным сотрудником «Отечественных записок», или А. П. Милюков, участвовавший в библиографическом отделе этого журнала. ↩︎
Это сообщение Чернышевского не вполне точно. На титульном листе «Современника» печаталось: «Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым». Однако объявления об издании «Современника» (см., например, объявление на 1854 г. в №№ 11 и 12 «Современника») подписывались Панаевым, как редактором и издателем, и Некрасовым, только как издателем журнала. Это и могло давать людям, недостаточно осведомленным в редакционных делах «Современника», повод предполагать, что по делам чисто редакционным надлежит обращаться к И. И. Панаеву. В действительности же львиная доля редакционной работы лежала на Н. А. Некрасове. ↩︎
Из дальнейшего рассказа Чернышевского видно, что его переговоры с Панаевым, а затем с Некрасовым происходили в конце осени 1853 г. Ниже Чернышевский исправляет допущенную им в этом месте ошибку: не 29, а 30 лет. ↩︎
В 1850–1853 гг. «Современник» имел от двух до трёх тысяч подписчиков. С 1854 г. подписка начала расти (В. Евгеньев, «Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова» — «Голос минувшего», 1915 г., № 11, стр. 94–95). Естественно, что при таких условиях журнал не мог окупаться, и долг, лежавший на «Современнике», возрастал. ↩︎
Этот отзыв Некрасова об И. И. Панаеве находит документальное подтверждение в письмах Некрасова. В конце 1856 г. он писал заведующему конторою «Современника» И. А. Панаеву: «Прежде всего не доверяй денег И. И. и пресекай ему пути к получению их, где бы то ни было, резко и решительно. Можешь действовать моим именем и показать ему это письмо. Это для него же лучше». Некрасов. Сочинения, т. V. М. — Л., 1930 г., стр. 277. ↩︎
После, когда возобновлял он разговор о том, что как начнёт играть в банк, непременно проигрывается, я стал объяснять ему, почему это неизбежно должно всегда бывать так: он иногда понтировал; а по условиям игры в банк понтер, в общей сложности длинного ряда ставок, необходимо проигрывает. Он не подозревал, что это так по самым условиям игры, воображал, подобно почти всем игрокам, что произвольность определения величины ставок даёт понтеру преимущества, более чем уравновешивающие те шансы выгоды, которые в пользу банкира. Он только дивился, что он, понтер, всегда остаётся проигравшимся, и лишь смутно мечтал, что хорошо бы ему приобрести возможность держать банк, потому что банкир, по какому-то странному ходу оборотов игры, вообще, должно быть, больше выигрывает, чем проигрывает. Авт. ↩︎
Продолжение пришлю через несколько дней. Авт. ↩︎
Сотрудничество Чернышевского в «Отечественных записках» прекратилось в начале 1855 г. Последние его рецензии были напечатаны в этом журнале в №№ 1 и 3 за указанный год. ↩︎
А. В. Дружинин был одним из основных сотрудников «Современника» в 1849–1854 гг. и после смерти Белинского сменил его в качестве литературного критика. «Это был добрый и образованный человек, большой англоман,— пишет о нём сотрудник «Современника» Е. Я. Колбасин,— но по принципам ярый крепостник и защитник мракобесия. Он владел сотней — другой крепостных душ и не допускал мысли о возможности освобождения крестьян. Некрасов страшно сердил его, наводя разговоры на этот предмет» (Е. Колбасин. «Тени старого «Современника». «Современник», 1911 г., № 8, стр. 238). В своих литературно-критических статьях Дружинин выступал как сторонник теории «чистого искусства» и вёл борьбу против «натуральной школы», горячим сторонником которой выступал Белинский. Чернышевский относился к Дружинину резко отрицательно. В 1857 г. он писал И. С. Тургеневу: «Я попрошу вас указать мне во всём, что написано Боткиным, Дружининым, Дудышкиным, хотя бы одну мысль, которая не была бы или банальною пошлостью, или бестолковым плагиатом. По-моему, уж лучше Аполлон Григорьев — он сумасшедший, но всё же человек (положим, без вкуса), а не помойная яма». Дружинин в свою очередь питал непримиримую вражду к Чернышевскому. «Неужели вы довольны Чернышевским и видите в нём критика,— писал он в 1856 г. Тургеневу,— и не обоняете запаха отжившей мертвечины в его рапсодиях, неловких и в цензурном отношении?» (Тургенев и круг «Современника», М.—Л., 1930 г., стр. 194). Естественно, что при таких условиях сотрудничество Чернышевского и Дружинина в одном журнале было невозможным. Опираясь на свою близость к Некрасову и дружбу с ближайшими сотрудниками «Современника» (Тургеневым, Боткиным и др.), Дружинин делал неоднократные попытки вытеснить из «Современника» Чернышевского. Он обвинял последнего в том, что он ничего не понимает в искусстве, стремится перессорить редакцию «Современника» со всеми сотрудниками и что он подводит журнал под цензурные гонения. Пользуясь приездом Некрасова в июле 1855 г. в Москву, где в то время был и Дружинин, последний совместно с Боткиным сделал решительную попытку воздействовать на Некрасова, чтобы убедить его расстаться с Чернышевским. Однако и эта попытка оказалась безуспешной, и Дружинину не осталось ничего другого, как прекратить сотрудничество в «Современнике». Он начинает деятельно сотрудничать в «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения», а с конца 1856 г. становится редактором этого последнего журнала. В №№ 11 и 12 «Библиотеки для чтения» Дружинин печатает статью «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», являвшуюся прямым ответом на «Очерки гоголевского периода» Чернышевского. В отличие от Чернышевского Дружинин отрицательно относился к «гоголевскому направлению», противопоставляя ему «пушкинское» и приглашая литературу вернуться к нему. На статью Дружинина Чернышевский ответил, не называя его фамилии, чрезвычайно резкой критикой его взглядов на задачи литературы и на теорию «искусство для искусства». Это было сделано Чернышевским в рецензии на «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского, напечатанной в № 4 «Современника» за 1857 г. ↩︎
Этот спор между Чернышевским и Некрасовым касался денежного обеспечения больного и находившегося на излечении за границей Н. А. Добролюбова. См. письма Чернышевского к Добролюбову от 14 (26) декабря 1860 г. и от 3 (15) мая 1861 г. Об этом же споре Чернышевский вспоминал в письме к А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г. Из этого письма видно, что Чернышевский считал Некрасова правым, но находил необходимым, считаясь с болезненным состоянием Добролюбова, выполнить предъявленные им редакции «Современника» требования. ↩︎
Если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небогатые, и с радостью передали Некрасову квартиру, получив от него вознаграждение за согласие переселиться из неё. Кажется, именно так и было: квартира была куплена у прежних жильцов. Авт. ↩︎
Добролюбов поселился в доме Краевского на Литейном в двадцатых числах августа 1858 г. Из письма его к В. И. Добролюбову, датированного 25 августа, видно, что Н. А. в это время уже жил на новой квартире, но ещё «не вполне устроился» (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М., 1890 г., стр. 453). Добролюбов прожил на этой квартире до конца августа или начала сентября 1859 г.; это видно из письма его к И. И. Бордюгову от 5 сентября, в котором Добролюбов писал: «Живу я теперь на новой квартире в Моховой, дом Гуткова» (там же, стр. 529). ↩︎
Тургенев прожил в Петербурге с конца 1858 г. по 20 марта 1859 г., затем был там проездом пять дней в апреле того же года. В конце ноября 1859 г. он вновь приехал в Петербург и пробыл здесь до 24 апреля 1860 г. (с. 14 января по 8 февраля 1860 г. он был в Москве). Этими датами определяется время, к которому относятся встречи с ним Добролюбова. ↩︎
Несомненно, что этот разговор Чернышевского с Тургеневым и Некрасовым происходил не после отпечатания статьи Добролюбова, а до появления её в печати. Чернышевский не мог не знать тех осложнений, которые эта статья вызвала в цензуре. Просматривавший её цензор Бекетов счёл нужным показать её Тургеневу; последний же заявил Некрасову протест против её напечатания на том основании, что она «несправедлива и резка». «Я не буду знать, куда бежать, если она напечатается»,— писал он Некрасову (В. Евгеньев. «Некрасов и люди 40-х годов». «Голос минувшего», 1916 г., № 10, стр. 101). В то же время Бекетов сообщил Добролюбову (письмо от 19 февраля 1860 г.), что пропустить его статью нет никакой возможности: «Критика такая, каких давно никто не читал, и напоминает Белинского… Напечатать её так, как она вылилась из-под вашего пера, по убеждению, значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и слуге вашему покорному». Что именно так испугало Бекетова и Тургенева в статье Добролюбова, в точности нам неизвестно, так как первоначальный текст этой статьи до нас не дошёл. В «Современнике» же она была напечатана в значительно переделанном виде. ↩︎
В письме к А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г. Чернышевский, рассказывая об отношении своём к Добролюбову, писал: «Статей его я никогда не читал. Я всегда только говорил Некрасову: «Всё, что он написал, правда. И толковать об этом нечего». ↩︎
Это была уже переделанная Добролюбовым рукопись, а не первоначальный вариант его статьи. ↩︎
Окончательный разрыв Тургенева с Некрасовым и «Современником» произошёл уже после отъезда Добролюбова за границу и был вызван появлением в № 6 «Современника» за 1860 г. рецензии Н. Г. Чернышевского на книгу Н. Готорна «Собрание чудес». Автор рецензии, не называя имени Тургенева, весьма прозрачно указывал на то, что в «Рудине» им дана карикатура на М. А. Бакунина. Прочитав эту рецензию, Тургенев написал И. И. Панаеву письмо с отказом от сотрудничества в «Современнике» (1 октября 1860 г.). Письмо это не дошло по назначению, так как его задержал П. В. Анненков, которого Тургенев просил переслать это письмо Панаеву. ↩︎
Имеется в виду поездка Чернышевского в июне 1859 г. в Лондон к Герцену для объяснений по поводу статьи последнего «Very dangerous!!!», заключавшей в себе резкие выпады против «Современника». ↩︎
Имеются в виду Ипполит Александрович Панаев, заведывавший в 1856 г. конторою и хозяйственною частью «Современника», и публицист Валериан Александрович Панаев, сотрудничавший в этом журнале. ↩︎
Вопреки ожиданиям Чернышевского, дело о наследстве М. Л. Огаревой до сих пор не выяснено в полной мере и продолжает возбуждать споры среди исследователей. Можно считать установленным, что А. Я. Панаева сыграла в этом деле весьма некрасивую роль, присвоив себе часть огаревских денег. Что же касается Некрасова, то он лично не был причастен к этому делу, но знал о его обстоятельствах и в силу личных своих отношений к Панаевой «прикрывал», по его собственному выражению, её «в этом ужасном деле». ↩︎
Литературный фонд был организован в 1859 г. Выборы его комитета происходили 8 ноября. ↩︎
Как видно из статьи Чернышевского «В изъявление признательности», этот разговор его с Тургеневым происходил на первом литературном вечере, организованном Литературным фондом. Этот вечер состоялся 10 января 1860 г. ↩︎
Чернышевский имеет в виду статью Тургенева «По поводу «Отцов и детей», опубликованную впервые в I томе Сочинений Тургенева, изд. 1869 г. ↩︎
Тургенев сам не скрывал того, что в «Рудине» пытался изобразить Бакунина. В 1862 г. он писал М. А. Маркович: «Я в Рудине представил довольно верный его портрет» («Минувшие годы», 1908 г., № 8, стр. 96). В 1873 г. он говорил Н. А. Островской: «В Рудине я действительно хотел изобразить Бакунина; только мне это не удалось; Рудин вышел вместе и ниже, и выше его. Бакунин был выше по способностям, по таланту, но ниже по характеру» (Воспоминания о Тургеневе Н. А. Островской. Тургеневский сборник, П., 1915 г., стр. 95). Вне сомнений стоит и факт переделки «Рудина» автором по советам и настояниям друзей, в частности Боткина и Анненкова. ещё в 1857 г. об этом писал А. В. Дружинин, указывая, что эта повесть Тургенева «была много раз прочитана в кругу друзей, которых мнением дорожил автор», и что она «исправлялась и переделывалась вплоть до того дня, когда обычаи нашей спешной журнальной деятельности могли терпеть такую медленность» («Библиотека для чтения», 1857 г., № 5, стр. 40). О том же писал и Чернышевский в упомянутой выше рецензии на книгу Готорна. ↩︎
Эпилог, в котором рассказывается о смерти Рудина на парижских баррикадах, отсутствовал в журнальном тексте и был добавлен Тургеневым лишь при переиздании «Рудина» в составе III тома «Повестей и рассказов» Тургенева, изданных в 1856 г. Вопреки сообщению Чернышевского, эпилог к «Рудину» был ему известен; мало этого, несмотря на просьбу Тургенева, переданную Чернышевскому Панаевым, он упомянул об этом эпилоге в печати. Говоря о кружке западников 40-х годов, Чернышевский в 5-й главе «Очерков гоголевского периода» писал: «И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть прочитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева». ↩︎
Повидимому, Чернышевский имеет в виду то место своей статьи «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», напечатанной в № 1 «Современника» за 1862 г., где он называет «тупоумными глупцами» и «дурными пошляками» людей, считающих Добролюбова «человеком без души и сердца». Другим лицом, которого Чернышевский имеет в виду, был А. И. Герцен. ↩︎
Приведенный в предыдущем примечании выпад Чернышевского против Тургенева не может быть приписан влиянию воспоминаний об «Отцах и детях», так как этот роман был напечатан позже статьи Чернышевского. ↩︎
«Биографические сведения» о Некрасове в I томе его «Стихотворений» составлены А. М. Скабичевским. Примечания же к стихотворениям и «Свод статей о Некрасове», к которым относятся следующие две «Заметки» Чернышевского, помещены в IV томе того же издания и составлены А. М, Скабичевским совместно с библиографом С. И. Пономаревым. ↩︎
Воспоминания Достоевского были напечатаны после смерти Некрасова в № 12 «Дневника писателя» за 1877 г. ↩︎
Сообщение Скабичевского о роли Андрея Глушицкого в судьбе Некрасова основано на воспоминаниях брата Андрея, Н. Глушицкого, напечатанных в виде письма в редакцию в № 107 «Петербургского листка» за 1877 г.; однако эти воспоминания не дают основания для такого категорического заключения о роли А. Глушицкого, какое сделано Скабичевским. Н. Глушицкий говорит только о том, что по приезде Некрасова в Петербург А. Глушицкий отговаривал его от поступления в дворянский полк (а не в кадетский корпус, как пишет Чернышевский), на чем настаивал отец Некрасова, и помогал Некрасову готовиться к вступительным экзаменам в университет. Всё это не исключает того, что первая мысль о поступлении в университет могла быть дана Некрасову его матерью, и не даёт основания говорить подобно Скабичевскому, что встреча с А. Глушицким «перерешила всю судьбу юноши» Некрасова (стр. XXVII). Некрасов не был принят в студенты вследствие того, что не выдержал экзамена; ему удалось поступить в университет только в качестве вольнослушателя. ↩︎
В качестве мотивов, порождавших «мягкость» критических отзывов Некрасова, Скабичевский наряду с «благодушием» его указывает на цензурные условия того времени, при которых резкий, задорный тон статей рассматривался как нарушение «мирного настроения общества и благочиния», и на ограниченность тогдашних литературных кадров и отсутствие в их среде «непримиримо враждебных лагерей». ↩︎
Высказанное Чернышевским мнение о том, что к эпохе 60-x годов во взглядах и убеждениях Некрасова не произошло никакой перемены и что знакомство его с «новыми людьми» в лице самого Чернышевского и Добролюбова не оказало никакого влияния на его образ мыслей, нуждается в весьма существенных оговорках. Конечно, Скабичевский был не прав, когда он утверждал, что в поэзии Некрасова до эпохи 1856 и следующих годов проявлялся только «горячий, но крайне неопределённый протест против пошлости, насилия, рабства и всяческого угнетения» и что только после 1856 г. Некрасов становится «певцом народного горя — в широком и глубоком, но вполне определённом смысле» (стр. XXI). Перечисленные Чернышевским стихотворения 1846–1853 гг. действительно показывают, как глубоко Некрасов уже тогда сочувствовал судьбе русского крестьянства, как уже тогда он возмущался и горячо протестовал против рабства и угнетения и, наконец, что уже тогда Некрасов был тем «певцом народного горя», каким он являлся в течение всей его последующей деятельности. Однако наряду с этим в поэзии Некрасова второй половины 50-х годов и 60-х годов появляются новые, отсутствовавшие в ней ранее ноты, свидетельствующие, что он начинает понимать невозможность улучшения участи крестьянства мирным путём. Именно в это время в поэзии Некрасова появляются призывы идти в борьбу «за честь отчизны, за убежденья, за любовь», и он начинает понимать, что «дело прочно, когда под ним струится кровь» («Поэт и гражданин», 1856 г.). В этом прояснении и углублении политических взглядов Некрасова громадную роль сыграло сближение его с Чернышевским. Не столько «специальные сведения» и «технические подробности» воспринимал Некрасов из бесед с Чернышевским, сколько понимание непримиримой противоположности интересов эксплуатируемых и эксплуататоров и убеждение в том, что только путём борьбы первые могут освободиться от гнёта последних. Достаточно вспомнить разрыв Некрасова с его прежними друзьями из лагеря либерального дворянства (Боткин, Тургенев, Анненков и др.), чтобы убедиться в том, насколько велико было на Некрасова влияние идей, пропагандистами которых выступали Чернышевский и Добролюбов. Несмотря на настойчивые советы своих прежних друзей порвать с Чернышевским, который, по их словам, губит «Современник», Некрасов предпочел сохранить его сотрудничество хотя бы ценою полного разрыва с людьми, дружбой и близостью которых он чрезвычайно дорожил. Конечно, в воззрениях Некрасова не произошло столь резкого перелома, какой пережил, например, Белинский, перешедший от примирения с действительностью к «маратовской» любви к человечеству; в этом Чернышевский безусловно прав, и параллель, проводимая Скабичевским между «Менцелем» Белинского и «Тремя странами света» Некрасова, лишена достаточных оснований, но от этого ещё далеко до отрицания какой бы то ни было перемены в его взглядах под влиянием Чернышевского и Добролюбова. ↩︎
Высокое мнение о Петре I Некрасов выразил в поэме «Несчастные», где он отзывается об этом царе, как о «мудром государе, кому в царях никто не равен, кто до скончанья мира славен и свят». Чернышевский неправ, утверждая о себе, будто он всегда одинаково отрицательно относился к личности и преобразовательной деятельности Петра. В IV главе «Очерков гоголевского периода» он писал: «Для нас идеал патриота — Пётр Великий». Соответствующую этому характеристику Петра он давал и в статье «О новых условиях сельского быта» (см. V том настоящего издания), где он между прочим писал: «Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо громадно и существенно величие совершенного им дела». Таким образом в начале сотрудничества Чернышевского в «Современнике» расхождение между ним и Некрасовым в оценке петровской реформы и личности самого Петра ни в чём не проявлялось. Однако через некоторое время отношение Чернышевского к Петру стало принимать более скептический характер. В написанной в 1861 г., но в то время ненапечатанной статье об «Апологии сумасшедшего» Чаадаева (см. том VII настоящего издания) Чернышевский решительно выступает против панегиристов Петра. По его мнению, Пётр вовсе не имел в виду перенести в Россию западную цивилизацию, а заботился исключительно лишь о том, чтобы сделать из России могущественную военную державу, способную вынести борьбу с западноевропейскими государствами. Чернышевский утверждает, что в результате реформ Петра изменились лишь «имена, а не характер вещей» и что «способ его действования был чисто национальный, без малейшей примеси западного характера». ↩︎
Имеется в виду А. Я. Панаева. ↩︎
Статьи Белинского «Менцель как критик Гёте» и «Бородинская годовщина» были написаны Белинским в эпоху увлечения его идеями Гегеля и связанного с этим «примирения» с действительностью. Позднее Белинский не только не любил вспоминать об этих статьях, но и негодовал на себя за их опубликование. Что же касается романа «Три страны света», написанного Некрасовым в сотрудничестве с А. Я. Панаевой (под псевдонимом Н. Станицкий) и впервые напечатанного в «Современнике» в 1848–49 гг., то роман этот имел авантюрный характер и в нём не было ничего, от чего Некрасову приходилось бы впоследствии отрекаться, за исключением лишь некоторой апологии приобретательства, свойственного герою этого романа. ↩︎
Для правильного понимания этих слов Чернышевского необходимо иметь в виду следующее. Из его примечаний к «Очеркам политической экономии» Милля и из ряда его статей («Капитал и труд» и др.) совершенно ясно, что Чернышевский вполне понимал эксплуататорскую роль капитала в народном хозяйстве и непримиримость его интересов с интересами труда. Однако Чернышевский понимал и то, что, несмотря на все тёмные стороны, свойственные капитализму, капиталистический строй является прогрессом по сравнению с феодально-крепостническим и что поэтому в условиях русской политической жизни его эпохи у буржуазии и у трудящихся классов общества имеются на известном этапе общие интересы, сводящиеся к борьбе против самодержавия, как диктатуры феодального дворянства. ↩︎
В биографии Некрасова, напечатанной в I томе его «Стихотворений», цитировалась статья доктора Н. А. Белоголового «Болезнь Н. А. Некрасова», напечатанная в № 10 «Отечественных записок» за 1878 г. ↩︎
Заметка Чернышевского о сборнике стихотворений Некрасова была напечатана в № 11 «Современника» за 1856 г.; она сопровождалась перепечаткой трёх наиболее острых в политическом отношении стихотворений. Эта заметка вызвала целую цензурную бурю. Министр народного просвещения А. С. Норов отдал предписание: «Запретить как перепечатание книги, так и всякие из оной выписки. Издателю «Современника» объявить, что первая подобная выходка подвергнет его журнал совершенному прекращению; а цензору — что он будет отрешен от должности за первый пропуск чего-либо подобного». Сам Некрасов в это время находился за границей. На первых порах по получении известия о происшедшем в Петербурге он сильно негодовал на Чернышевского и особенно на И. И. Панаева, согласившегося на печатание заметки Чернышевского, но вскоре успокоился настолько, что все усилия его друзей из либерального лагеря, воспользовавшись этим инцидентом, побудить Некрасова порвать с Чернышевским, не увенчались успехом. ↩︎
Нет никакого сомнения в том, что в 1862 г. «Современник» был приостановлен вовсе не исключительно из-за Чернышевского, а из-за общего направления этого журнала, за которое Некрасов был ответственен столько же, сколько и Чернышевский. ↩︎
Первоначальный вариант этого изуродованного в угоду цензуре стиха до сих пор неизвестен. ↩︎
Предисловие издательницы А. А. Буткевич было помещено в 1 томе «Стихотворений» Некрасова, стр. V–XI. ↩︎
Рассказанная Чернышевским история произошла в начале 1855 г. По случаю 50-летнего юбилея Н. И. Греча Добролюбов написал весьма резкое стихотворение, широко разошедшееся в списках по Петербургу. Вследствие нескромности товарищей Добролюбова его авторство стало известно директору педагогического института Давыдову, по распоряжению которого у Добролюбова был произведен обыск, причём были найдены издания Герцена. Одновременно обыск был произведен у товарища Добролюбова Д. Ф. Щеглова. Однако вся эта история не имела для Добролюбова серьёзных последствий. «Я мог поплатиться за своё легкомыслие целою карьерою,— писал Добролюбов М. И. Благообразову,— но, к счастью, имел довольно благоразумия, чтобы не запираться перед директором, признавшись в либеральности своего направления, показал вид чистосердечного раскаяния. Профессора заступились за меня» (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М. 1890 г., стр. 230–231) ↩︎
Знакомство Чернышевского с Добролюбовым состоялось в июне 1856 г. ↩︎
В письме к Н. А. Некрасову от 17 июня 1856 г. Чернышевский писал: «Статья (в библиографии) о педагогическом институте произвела прелестнейший эффект, так что я решительно конфужусь от похвал, которыми осыпают меня за неё (она приписывается мне)» ↩︎
Ответ А. Галахову был напечатан в № 11 «Современника» за 1856 г., как часть обзора «Заметки о журналах», составленного Н. Г. Чернышевским. Статья Галахова «Были и небылицы, сочинение императрицы Екатерины II» была напечатана и «Отечественных записках» 1856 г., № 10. Автор её доказывал, что сатира Екатерины II имела более серьёзный характер, чем тот, который придавал ей Добролюбов в его статье «Собеседник любителей российского слова». ↩︎
В «Русской мысли», 1885 г., №№ 5 и 6, была опубликована автобиография Н. И. Костомарова, записанная с его слов в 1869 г. Другой вариант его автобиографии, значительно более обширный, записанный со слов Костомарова в 1875 г., был опубликован частично в 1890 г. в «Литературном наследии» Костомарова, а полностью — в 1922 г. издательством «Задруга». ↩︎
8 февраля 1861 г. Н. И. Костомаров должен был прочитать на годичном акте в Петербургском университете речь на тему «О значении в обработке русской истории трудов Константина Аксакова». Однако, по распоряжению министра народного просвещения, речь Костомарова была снята. Это послужило поводом для шумной демонстрации, произведённой студентами во время акта. Чтобы успокоить студентов, ректор университета заявил им, что речь Костомарова будет прочтена в ближайшие дни на публичном литературном вечере. Это обещание было сдержано. Костомаров действительно прочитал свою речь, а вслед за этим она появилась в печати («Русское слово», 1861 г., № 2). Абсолютно без всяких оснований Костомаров, как это видно из его «Автобиографии», вообразил, что отмена его выступления на акте явилась результатом интриги нескольких профессоров, придерживавшихся «западнического направления» и увидавших в его намерении прочитать речь, посвященную памяти незадолго до того умершего К. С. Аксакова, переход к славянофильству. «Чернышевский,— добавляет, рассказывая об этом, Костомаров,— напротив, отнесся сочувственно, да он и вообще не был врагом славянофилов, только не терпел их поповского направления» («Русская мысль», 1885 г., № 6, стр. 351). Конечно, это сообщение Костомарова надо принимать как свидетельство не о действительном отношении Чернышевского к славянофилам, а о том, как мало разбирался в этом отношении Костомаров и как превратно он понимал взгляды Чернышевского. ↩︎
Популярный среди студенчества профессор П. В. Павлов был выслан из Петербурга за речь о тысячелетии России, произнесённую им на литературном вечере 2 марта 1862 г. Петербургский университет в то время был закрыт правительством в связи с студенческими волнениями, разыгравшимися в сентябре и октябре 1861 г., но в здании городской думы происходило организованное по инициативе студентов чтение публичных лекций по различным предметам университетского курса. Возбуждённое высылкой Павлова студенчество решило реагировать на этот акт правительственного произвола прекращением публичных лекций. Что касается профессоров, то среди них замечалось колебание по этому вопросу; однако большинство склонялось в пользу продолжения лекций. На такой именно точке зрения стоял и Костомаров. 8 марта во время очередной его лекции между ним и студентами произошло резкое столкновение. На заявление Костомарова о том, что он намерен продолжать чтение лекций, студенты ответили свистками. Костомаров же в ответ на это обозвал студентов «Репетиловыми, из которых лет через десять выйдут Расплюевы». ↩︎
Посещение Костомарова Чернышевским приходится отнести на один из ближайших дней после 8 марта,— вероятно, 9 или 10. Во втором варианте «Автобиографии» Костомаров значительно изменил рассказ о посещении его Чернышевским. См. «Автобиография», М. 1922 г., стр. 303. ↩︎
Студенческий комитет образовался в декабре 1861 г. для распределения между нуждающимися студентами собираемых в их пользу денег. В состав этого комитета входили студенты, принимавшие деятельное участие как в студенческих волнениях 1861 г., так и в революционном движении той эпохи: Н. И. Утин, Л. Ф. Пантелеев, П. А. Гайдебуров, А. Я. Герд, В. Л. Гогоберидзе, С. И. Ламанский, П. Ф. Моравский, Е. П. Печаткин и П. Л. Спасский. Среди них были люди, принадлежавшие, подобно Утину и Гогоберидзе, к числу частых посетителей Чернышевского. Последний проявлял большой интерес к деятельности комитета. По свидетельству Пантелеева, Чернышевский присутствовал на одном из заседаний студенческого комитета, состоявшемся вскоре после 8 марта, и отговаривал его членов подавать правительству адрес о помиловании проф. Павлова, сбором подписей под которым в то время занимались члены комитета (Л. Ф. Пантелеев. «Из воспоминаний прошлого». М.—Л., 1934 г., стр. 226). ↩︎
Это письмо Костомарова к Чернышевскому опубликовано в книге М. К. Лемке «Политические процессы в России 1860-х годов», М., 1923 г., стр. 194–196. ↩︎
Н. Д. Ступину Костомаров характеризует как «крайне экзальтированную девушку, недурную собою». Познакомившись с ней в 1850 г., Костомаров, по его словам, подружился с ней. Получив неожиданно от неё письмо с признанием в любви, он ответил холодным письмом, в котором указал, что ей известно о существовании у него невесты в Киеве. После этого всякие отношения между ним и Ступиной были прерваны. Однако, когда Костомарову стало известно, что его невеста вышла за другого, он возобновил знакомство со Ступиной и заговорил с нею о женитьбе. Но, по его словам, Ступина медлила дать ему окончательный ответ на его предложение, и он, по свойственной ему мнительности, приписывал это тому, что Ступина ждёт предложения со стороны одного богатого старика, посещавшего её родителей. Вскоре старик уехал из Саратова, и тогда Ступина заявила Костомарову, что он может официально свататься к ней. «Это,— рассказывает Костомаров,— окончательно взбесило меня; прав ли я был или нет, не знаю, но после нескольких сцен мы разошлись». К этому вкратце сводится рассказ Костомарова о его взаимоотношениях со Ступиной («Русская мысль», 1885 г., № 6, стр. 23). Подробный разбор его рассказа Чернышевским показывает, как мало искренен был Костомаров, повествуя об этом эпизоде своей биографии. ↩︎
Из письма Чернышевского к родителям от 29 марта 1851 г. видно, что в это время он находился в Симбирске и рассчитывал приехать в Саратов между 3 и 5 апреля. Этим приблизительно определяется время знакомства его с Костомаровым. ↩︎
Участие в саратовском ритуальном процессе является одной из наиболее мрачных страниц в биографии Костомарова. Обстоятельства этого дела, по всей справедливости названного Чернышевским «гнусным», сводятся к следующему. В конце 1852 и в начале 1853 г. в Саратове были убиты два христианских мальчика; подозрение, основанное на сбивчивых и противоречивых показаниях некоторых тёмных личностей и заведомых авантюристов, пало на трёх местных евреев. Процесс тянулся около восьми лет и кончился только в 1860 г., когда Государственный совет, несмотря на оправдательный приговор Сената и на заключение министра юстиции, признавшего отсутствие в деле достаточных данных для обвинения привлечённых к делу, большинством голосов приговорил последних к каторжным работам. Царь утвердил этот приговор. Костомаров входил в состав следственной комиссии по этому делу. В своей автобиографии он обвинял саратовские власти в том, что они прикрывали обвиняемых: следователи, по его словам, «хлопотали только о том, чтобы замять дело»; губернатору «хотелось во что бы то ни стало оправдать жидов». «Я,— говорит Костомаров,— написал скорее в обратном смысле» («Русская мысль», 1885 г., № 6, стр. 25–26). Им была составлена «ученая записка», в которой он доказывал, что обвинение евреев в пролитии христианской детской крови «не лишено исторического основания» («Автобиография», М., 1922 г., стр. 216). Мало этого: когда в 70-х годах известный ориенталист Д. Хвольсон, также принимавший участие в расследовании саратовского дела, опубликовал брошюру, в которой доказывал, что ритуальная легенда, возникшая на почве мрачного фанатизма в средние века, не имеет под собою никаких оснований, Костомаров напечатал в «Новом времени» (1872 г., № 1172) разбор этой брошюры, в котором между прочим писал: «Не имея повода разделять с евреями их племенного патриотизма, не можем в ущерб здравому смыслу и в противность истории согласиться с г. Хвольсоном, что между евреями не могло возникнуть этого суеверия». ↩︎
Чернышевский до конца жизни признавал научные заслуги Костомарова; это видно из лестной оценки им исторических трудов Костомарова в своём предисловии к XI тому русского перевода «Всеобщей истории» Г. Вебера. Что касается Костомарова, то он даёт Чернышевскому следующую характеристику: «Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотой, видимым добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием. Он, впрочем, лишён был того, что носит название поэзии, но зато был энергичен до фанатизма, верен своим убеждениям во всей жизни и в своих поступках и стал ярым апостолом безбожия, материализма и ненависти ко всякой власти» (Автобиография Костомарова, 1922 г., стр. 330). ↩︎
О свиданиях с Ф. М. Достоевским Н. Г. Чернышевский, возможно, написал в ответ на воспоминания самого Достоевского о встречах с ним. Достоевский в IV главе «Нечто личное» «Дневника писателя» за 1873 г. рассказал о «кратком и радушном знакомстве» своём с Чернышевским. Достоевский усиленно подчёркивал взаимное расположение своё и Чернышевского, чтобы своим рассказом разрушить «глупую сплетню», циркулировавшую среди литераторов и кругов, близких к «Современнику», и переданную Некрасовым лично при встрече с Достоевским, о том, что он (Достоевский) «в своей повести («Крокодил») не постыдился надругаться над несчастным ссыльным (Чернышевским) и окарикатурил его» в «Крокодиле» (см. «Дневник писателя» за 1873 г., Собр. соч. в изд. «Просвещения», т. XIX, стр. 176).
Достоевский фактическую историю своих отношений с Чернышевским рисует так: «С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моём из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвёл на него неприятное впечатление, т. е. наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.
Однажды утром я нашёл у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций изо всех, которые тогда появились, а появлялось их тогда довольно. Она называлась: «К молодому поколению». (Надо думать, что это была прокламация «Молодая Россия», составленная П. Г. Заичневским. — Ред.) Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день… [819]
Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.
Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привёл к себе в кабинет.
— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.
Он взял её как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.
— Ну что же? — спросил он с лёгкой улыбкой.
— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?
Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:
— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?
— Именно не предполагал,— отвечал я,— и даже считаю ненужным вас в этом уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения.
— Я никого из них не знаю.
— Я уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдёт до них.
— Может, и не произведёт действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.
— И однако всем и всему вредят.
Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было моё посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестоком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и помню, мне было это приятно. Потом я был у него ещё раз, и он у меня тоже… Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. За сим произошёл арест Чернышевского и его ссылка».
Устраним фактическую неточность. Показание Достоевского о том, что он на девять месяцев будто бы уехал в Москву, не соответствует действительности. На самом деле он выезжал не в Москву, а в июне 1862 г. за границу.
Достоевский вовсе не говорит о том, что мы узнаем из воспоминаний Чернышевского. А между тем известно, что петербургские пожары 1862 г., начавшиеся с 16 мая и продолжавшиеся в течение двух недель, оказали своё влияние как на общественное мнение того времени, так и на Достоевского. Так, Η. Н. Страхов, друг и единомышленник братьев Достоевских в те годы, в своих воспоминаниях не преминул отметить это обстоятельство: «Почти вслед за самою яркою из прокламаций, обещавшею залить улицы кровью и не оставить камня на камне, начались петербургские пожары. Это была самая ужасная минута нашей воздушной революции (курсив автора. — Ред.), брожения, возникшего в оторвавшихся от почвы умах и душах… Пожары наводили ужас, который трудно описать. Помню, мы вместе с Фёдором Михайловичем отправились для развлечения куда-то на загородное гулянье. Издали с парохода видны были клубы дыма, в трёх или четырёх местах поднимавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане. Но, как мы ни старались позабавиться, тяжёлое настроение не проходило»[564]. Пожары и другие современники связывали с появлением прокламаций и приписывали [820] их революционерам. Мало этого, молва связывала с пожарами имя Чернышевского. «Знаменитый апраксинский пожар (пожар Апраксина двора произошёл 28 мая 1862 года,— Ред.),— писал А. Н. Пыпин в своей «Записке о деле Н. Г. Чернышевского» 18 февраля 1881 г.,— происшедший, как после образумившись утвердительно говорили, от мошеннического поджога лавочника, дикая молва громко приписывала нигилистам, а Чернышевского провозглашала их главой» (см. «Красный архив», 1927, том XXII, стр. 219). Осведомленный во всех этих слухах и мнениях, носившихся по Петербургу, Л. Ф. Пантелеев в своих воспоминаниях без всяких колебаний связывает посещение Достоевским Чернышевского с пожарами 1862 года: «До какой степени, однако, в обществе существовало убеждение в причастности Чернышевского даже к крайним революционным проявлениям, всего лучше свидетельствует визит, который ему сделал Ф. М. Достоевский после апраксинского пожара. Ф. М. убеждал Чернышевского употребить всё своё влияние, чтобы остановить революционный поток» (см. «Из воспоминаний прошлого», изд. «Academia», 1934 г., стр., 267). Связь между посещением Чернышевского Достоевским и пожарами подтверждается и В. Н. Шагановым. В своих воспоминаниях последний говорит: «Другой анекдот рассказал сам Чернышевский. В мае 1862 года в самое время петербургских пожаров рано поутру врывается в квартиру Чернышевского Ф. Достоевский и прямо обращается к нему с следующими словами: «Николай Гаврилович, ради самого господа, прикажите остановить пожары!» Большого труда тогда стоило, говорил Чернышевский, что-нибудь объяснить Ф. Достоевскому. Он ничему верить не хотел и, кажется, с этим неверием, с отчаянием в душе убежал обратно» (см. «И. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке», восп. В. Н. Шаганова. СПБ., 1907, стр. 8). Достоевскому не удалось в то время выступить в печати по поводу пожаров, но тем не менее имеются основания предполагать, что Достоевский, до известной степени, склонялся к мнению о причастности революционеров к поджогам и о связи между поджогами и «Молодой Россией».
Не выступая публично против революционной группы журналистов, Достоевский в частной беседе с Чернышевским сделал попытку протестовать против творимых якобы πо заданиям вождя этой группы пожаров. Достоевский был сдержан в беседе с Чернышевским; однако его свидетельство о себе и его поведение отнюдь не лишают историка права и возможности усомниться в заверениях Достоевского относительно доброжелательных отношений его к Чернышевскому в 1862 году.
Расхождение Достоевского с Чернышевским обозначилось раньше 1862 года. Первое печатное заявление Достоевского о несогласии с Чернышевским относится к 1861 году. Отвечая на полемику «Русского вестника» по вопросу об эмансипации женщин, Достоевский отклоняет обвинения Каткова в солидарности с «Современником» и довольно прозрачно намекает на несходство в коренных вопросах своего мировоззрения с мировоззрением Чернышевского, незадолго до того в своей статье «Антропологический принцип в философии» («Современник», 1860 г., № 4—5) познакомившего русское общество с основами материалистической философии: «Уверяю вас,— обращается Достоевский к редактору «Русского вестника»,— что я, пишущий эти строки, отнюдь не думаю и не верю, что я вышел из реторты. Я не могу этому верить» (см. его статью «Ответ «Русскому вестнику» в журнале «Время», 1861 г., № 5; Собр. соч., изд. «Просвещение», т. XXIII, стр. 60). В этих словах прямой выпад против материалистического монизма, провозглашенного Чернышевским. Продолжая полемику с «Русским вестником», Достоевский в статье «По поводу элегической заметки «Русского времени», напечатанной в журнале «Время», 1861 г., № 10, ещё более откровенно говорит о размежевании с Чернышевским: «А знаете,— обращается Достоевский к Каткову,— что мы скажем в заключение? Ведь это вас г. Чернышевский разобидел недавно своими «полемическими красотами» (статьи Чернышевского под таким названием появились в «Современнике», 1861 г., № 6. «Коллекция первая. Красоты, собранные из «Русского вестника», № 7. «Коллекция вторая. Красоты, собранные из «Отечественных записок». — Peд.), вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. Такая обида! Нам можно говорить о г. Чернышевском, не боясь, что нас примут за [821] его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто уже задевали нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним» (Соч., т. XXIII, стр. 120). Достоевский, насколько нам известно, кроме указанного случая, ранее не полемизировал лично с Чернышевским, но он к этому времени провёл большую дискуссию с Добролюбовым по вопросам искусства («Введение», «Г — бов и вопрос об искусстве») и, выступая против утилитаристов и обличительной литературы, через голову Добролюбова «задевал» Чернышевского. Таким образом, ещё в 1861 г. Достоевский вполне ясно отмежевался от Чернышевского. Несмотря на все расхождения между воспоминаниями Чернышевского и Достоевского, есть все основания верить тому, как Чернышевский освещает эпизод посещения его Достоевским. Воспоминания Чернышевского ценны и тем, что раскрывают неточность показаний Достоевского и позволяют пересмотреть вопрос о «дружеском расположении» автора «Бесов» к революционному демократу. Подтверждая факт встреч с Достоевским, Чернышевский даёт клиническую картину состояния Достоевского. Этот диагноз, оказывается, определил и характер отношения Чернышевского к взволнованному событиями автору «Записок из подполья». Чернышевский отнесся к нему бережно и внимательно, как подобает здоровому человеку, вернее — психиатру, невропатологу, вообще врачу к пациенту. Достоевский же, не зная подлинной причины внимательного отношения Чернышевского к нему, приписал всё это дружескому расположению, на которое-де и он отвечал тем же. [822] ↩︎
См. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПБ. 1883, стр. 239. ↩︎
Составлены: к «Дневникам» и «Автобиографии» — Н. А. Алексеевым; к «Воспоминаниям» — H. M. Чернышевской. ↩︎
Под этим пунктом стоит: [здесь 5, раньше 6 + 8 = 19! Дальше — 20!] т. е. побуждений. ↩︎