Под Знамененем Марксизма 1922 03
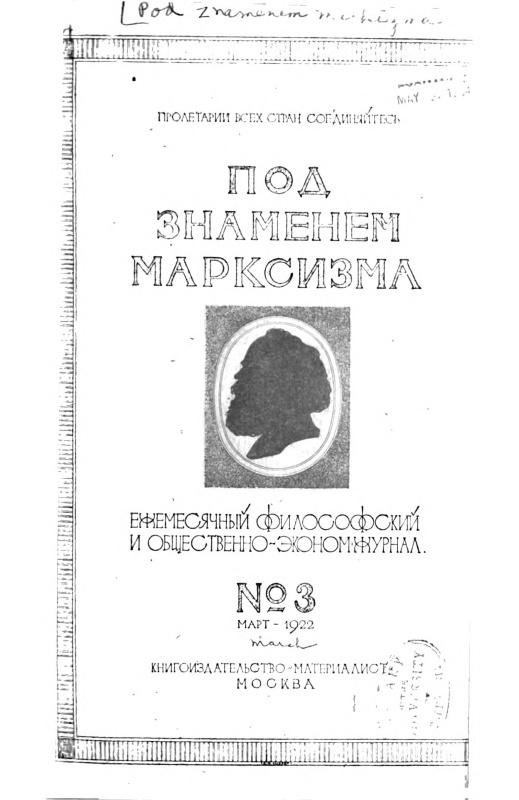
В. Ленин.— О значении воинствующего материализма
В. Ленин
Об общих задачах журнала: «Под знаменем марксизма» тов. Троцкий в № 1–2 сказал уже все существенное и сказал прекрасно. Мне хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, ближе определяющих содержание и программу той работы, которая провозглашена редакцией журнала во вступительном заявлении к № 1–2.
В этом заявлении говорится, что не все объединившиеся вокруг журнала: «Под знаменем марксизма» — коммунисты, но все последовательные материалисты. Я думаю, что этот союз коммунистов с некоммунистами является безусловно необходимым и правильно определяет задачи журнала. Одной из самых больших и опасных ошибок коммунистов (как и вообще революционеров, успешно проделавших начало великой революции) является представление, будто бы революцию можно совершить руками одних революционеров. Напротив, для успеха всякой серьезной революционной работы необходимо понять и суметь претворить в жизнь, что революционеры способны сыграть роль лишь как авангард действительно жизнеспособного и передового класса. Авангард лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а действительно вести вперед всю массу. Без союза с некоммунистами в самых различных областях деятельности ни о каком успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи.
Это относится и к той работе защиты материализма и марксизма, за которую взялся журнал: «Под знаменем марксизма». У главных направлений передовой обшественной мысли России имеется, к счастью, солидная материалистическая традиция. Не говоря уже о Г. В. Плеханове, достаточно назвать Чернышевского, от которого современные народники (народные социалисты, с.-р. и т. п.) отступали назад нередко в погоне за модными реакционными философскими учениями, поддаваясь мишуре якобы «последнего слова» европейской науки и не умея разобрать под этой мишурой той или иной разновидности прислужничества буржуазии, ее предрассудкам и буржуазной реакционности.
Во всяком случае, у нас в России есть еще и довольно долго, несомненно, будут материалисты из лагеря некоммунистов, и наш безусловный долг привлекать к совместной работе всех сторонников последовательного и воинствующего материализма в борьбе с философской реакцией и с философскими предрассудками так называемого «образованного общества». Дицген — отец, которого не надо смешивать с его, столь же претенциозным, сколь неудачным литератором — сынком, выразил правильно, метко и ясно основную точку зрения марксизма на господствующие в буржуазных странах и пользующиеся среди их ученых и публицистов вниманием философские направления, сказавши, что профессора философии в современном обществе представляют из себя в большинстве случаев на деле ни что иное, как «дипломированных лакеев поповщины».
Наши российские интеллигенты, любящие считать себя передовыми, как, впрочем, и их собратия во всех остальных странах, очень не любят перенесения вопроса в плоскость той оценки, которая дана словами Дицгена. Но не любят они этого потому, что правда колет глаза. Достаточно сколько-нибудь вдуматься в государственную, затем общеэкономическую, затем бытовую и всяческую иную зависимость современных образованных людей от господствующей буржуазии, чтобы понять абсолютную правильность резкой характеристики Дицгена. Достаточно вспомнить громадное большинство модных философских направлений, которые так часто возникают в европейских странах, начиная, хотя бы, с тех, которые были связаны с открытием радия, и кончая теми, которые теперь стремятся уцепиться за Эйнштейна, — чтобы представить себе связь между классовыми интересами и классовой позицией буржуазии, поддержкой ею всяческих форм религий и идейным содержанием модных философских направлений.
Из указанного видно, что журнал, который хочет быть органом воинствующего материализма, должен быть боевым органом во-первых, в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных «дипломированных лакеев поповщины», все равно, выступают ли они в качестве представителей официальной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя «демократическими левыми или идейно социалистическими публицистами».
Такой журнал должен быть, во-вторых, органом воинствующего атеизма. У нас есть ведомства или, по крайней мере, государственные учреждения, которые этой работой ведают. Но ведется эта работа крайне вяло, крайне неудовлетворительно, испытывая, видимо, на себе гнет общих условий нашего истинно русского (хотя и советского) бюрократизма. Чрезвычайно существенно поэтому, чтобы в дополнение к работе соответствующих государственных учреждений, в исправление ее и в оживление ее, журнал, посвящающий себя задаче стать органом воинствующего материализма, вел неутомимую атеистическую пропаганду и борьбу. Надо внимательно следить за всей соответствующей литературой на всех языках, переводя или, по крайней мере, реферируя все сколько-нибудь ценное в этой области.
Энгельс давно советовал руководителям современного пролетариата переводить для массового распространения в народе боевую атеистическую литературу конца 18 века. К стыду нашему, мы до сих пор этого не сделали (одно из многочисленных доказательств того, что завоевать власть в революционную эпоху гораздо легче, чем суметь правильно этою властью пользоваться). Иногда оправдывают эту нашу вялость, бездеятельность и неумелость всяческими «выспренними» соображениями: например, «дескать, старая атеистическая литература 18-го века устарела, ненаучна, наивна» и т. п. Нет ничего хуже подобных, якобы ученых, софизмов, прикрывающих либо педантство, либо полное непонимание марксизма. Конечно, и ненаучного, и наивного найдется не мало в атеистических произведениях революционеров 18-го века. Но никто не мешает издателям этих сочинений сократить их и снабдить короткими послесловиями с указанием на прогресс научной критики религий, проделанный человечеством с конца 18-го века, с указанием на соответствующие новейшие сочинения и т. д. Было бы величайшей ошибкой и худшей ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что многомиллионные народные (особенно, крестьянские и ремесленные) массы, осужденные всем современным обществом на темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто марксистского просвещения. Этим массам необходимо дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, знакомить их с фактами из самых различных областей жизни, подойти к ним и так и этак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от религиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными способами и т. п.
Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов 18-го века сплошь и рядом окажется в 1000 раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают. Все сколько-нибудь крупные произведения Маркса и Энгельса у нас переведены. Опасаться, что старый атеизм и старый материализм останутся у нас неисполненными теми исправлениями, которые внесли Маркс и Энгельс, нет решительно никаких оснований. Самое важное — чаще всего именно это забывают наши якобы марксистские, а на самом деле уродующие марксизм коммунисты — это суметь заинтересовать совсем еще неразвитые массы сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной критикой религий.
С другой стороны, взгляните на представителей современной научной критики религий. Почти всегда эти представители образованной буржуазии «дополняют» свое же собственное опровержение религиозных предрассудков такими рассуждениями, которые сразу разоблачают их как идейных рабов буржуазии, как «дипломированных лакеев поповщины».
Два примера. Проф. Р. Ю. Виппер издал в 1918 году книжечку: «Возникновение христианства» (изд. «Фарос». Москва). Пересказывая главные результаты современной науки, автор не только не воюет с предрассудками и с обманом, которые составляют оружие церкви, как политической организации, не только обходит эти вопросы, но заявляет прямо смешную и реакционнейшую претензию подняться выше обеих «крайностей»: и идеалистической и материалистической. Это прислужничество господствующей буржуазии, которая во всем мире сотни миллионов рублей из выжимаемой ею с трудящихся прибыли употребляет на поддержку религии.
Известный немецкий ученый, Артур Древс, опровергая в своей книге: «Миф о Христе» религиозные предрассудки и сказки, доказывая, что никакого Христа не было, в конце книги высказывается за религию, только подновленную, подчищенную, ухищренную, способную противостоять «ежедневно все более и более усиливающемуся натуралистическому потоку» (стр. 238,4-го немецкого издания, 1910 года). Это — реакционер прямой, сознательный, открыто помогающий эксплуататорам заменять старые и прогнившие религиозные предрассудки новенькими, еще более гаденькими и подлыми предрассудками.
Это не значит, чтобы не надо было переводить Древса. Это значит, что коммунисты и все последовательные материалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разоблачать ее, когда она впадает в реакционность. Это значит, что чураться союза с представителями буржуазии 18-го века, т. е. той эпохи, когда она была революционной, значило бы изменять марксизму и материализму, ибо «союз» с Древсами в той или иной форме, в той или иной степени, для нас обязателен в борьбе с господствующими религиозными мракобесами.
Журнал: «Под знаменем марксизма», который хочет быть органом воинствующего материализма, должен уделять много места атеистической пропаганде, обзору соответствующей литературы и исправлению громадных недочетов нашей государственной работы в этой области. Особенно важно использование тех книг и брошюр, которые содержат много конкретных фактов и сопоставлений, показывающих связь классовых интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды.
Чрезвычайно важны все материалы, относящиеся к Соединенным Штатам Северной Америки, в которой меньше проявляется официальная, казенная, государственная связь религии и капитала. Но зато нам яснее становится, что так называемая «современная демократия» (перед которой так неразумно разбивают свой лоб меньшевики, с.-р. и отчасти анархисты и т. п.) представляет из себя ни что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать, а выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи, религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и т. п.
Хотелось бы надеяться, что журнал, который хочет быть органом воинствующего материализма, даст нашей читающей публике обзоры атеистической литературы с характеристикой, для какого круга читателей и в каком отношении могли быть подходящими те или иные произведения и с указанием того, что появилось у нас (появившимися надо считать только сносные переводы, а их не так много) и что должно быть еще издано.
Кроме союза с последовательными материалистами, которые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если не более важен для той работы, которую воинствующий материализм должен проделать, союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму и не боятся отстаивать и проповедовать его против господствующих в так называемом «образованном обществе» модных философских шатаний в сторону идеализма и скептицизма.
Помещенная в 1–2 номере журнала: «Под знаменем марксизма» статья А. Тимирязева о теории относительности Эйнштейна позволяет надеяться, что журналу удастся осуществить и этот второй союз. Надо обратить на него побольше внимания. Надо помнить, что именно из крутой ломки, которую переживает современное естествознание, родятся сплошь да рядом реакционные философские школы и школки, направления и направленьица. Поэтому следить за вопросами, которые выдвигает новейшая революция в области естествознания и привлекать к этой работе в философском журнале естествоиспытателей, — это задача, без решения которой воинствующий материализм не может быть ни в коем случае, ни воинствующим, ни материализмом. Если Тимирязев в первом номере журнала должен был оговорить, что за теорию Эйнштейна, который сам, по словам Тимирязева, никакого активного похода против основ материализма не ведет, ухватилась уже громадная масса представителей буржуазной интеллигенции всех стран, то это относится не к одному Эйнштейну, а к целому ряду, если не к большинству великих преобразователей естествознания, начиная с конца 19-го века.
И для того, чтобы не относиться к подобному явлению бессознательно, мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала «Под знаменем марксизма» должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, т. е. той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем «Капитале» и в своих исторических и политических работах и применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке (Япония, Индия, Китай) — т. е. тех сотен миллионов человечества, которые составляют большую часть населения земли и которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обусловливали до сих пор застой и гниение во многих передовых государствах Европы, — каждый день пробуждения к жизни новых народов и новых классов, все больше и больше подтверждает марксизм.
Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды Гегелевской диалектики чрезвычайно трудна, и несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса а так же теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала: «Под знаменем марксизма» должна быть на мой взгляд своего рода «обществом материалистических друзей Гегелевской диалектики». Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды.
Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как и до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Ибо естествознание прогрессирует так быстро, переживает период такой глубокой революционной ломки во всех областях, что без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае.
В заключение приведу пример, не относящийся к области философии, но во всяком случае относящийся к области общественных вопросов, которым также хочет уделить внимание журнал: «Под знаменем марксизма».
Это один из примеров того, как современная якобы наука на самом деле служит проводником грубейших и гнуснейших реакционных взглядов.
Недавно мне прислали журнал «Экономист», № 1 (1922 г.), издаваемый XI отделом «Русского технического общества». Приславший мне этот журнал молодой коммунист (вероятно, не имевший времени ознакомиться с содержанием журнала) неосторожно отозвался о журнале чрезвычайно сочувственно. На самом же деле журнал является, не знаю насколько сознательно, органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т. п.
Некий г. П. А. Сорокин помещает в этом журнале обширные, якобы «социологические» исследования «О влиянии войны». Ученая статья пестрит учеными ссылками на «социологические» труды автора и его многочисленных заграничных учителей и сотоварищей. Вот какова его ученость:
На странице 83-й читаю:
«На 10 000 браков в Петрограде теперь приходится 92,2 разводов (цифра фантастическая), при чем из 100 расторгнутых браков 51,1 были продолжительностью менее одного года, 11% менее одного месяца, 22% менее двух месяцев, 41% менее 3–6-ти месяцев и лишь 26% свыше 6-ти месяцев. Эти цифры говорят, что современный легальный брак — форма, скрывающая по существу внебрачные половые отношения и дающая возможность любителям "клубники" "законно" удовлетворять свои аппетиты». («Экономист» № 1, стр. 83-я).
Нет сомнения, что и этот господин, и то русское техническое общество, которое издает журнал и помещает в нем подобные рассуждения, причисляют себя к сторонникам демократии и сочтут за величайшее оскорбление, когда их назовут тем, что они есть на самом деле, т. е. крепостниками, реакционерами, «дипломированными лакеями поповщины».
Самое небольшое знакомство с законодательством буржуазных стран о браке, разводе и внебрачных детях, а равно с фактическим положением дела в этом отношении, покажет любому интересующемуся вопросом человеку, что современная буржуазная демократия, даже во всех наиболее демократических буржуазных республиках, проявляет себя в указанном отношении именно крепостнически по отношению к женщине и по отношению к внебрачным детям.
Это не мешает, конечно, меньшевикам, с.-р. и части анархистов и всем соответствующим партиям на Западе продолжать кричать о демократии и о ее нарушении большевиками. На самом деле, именно большевистская революция является единственной последовательно демократической революцией в отношении к таким вопросам, как брак, развод и положение внебрачных детей. А это вопрос, затрагивающий самым непосредственным образом интересы большей половины населения в любой стране. Только большевистская революция впервые, несмотря на громадное число предшествовавших ей и называющих себя демократическими буржуазных революций, — провела решительную борьбу в указанном отношении, как против реакционности и крепостничества, так и против обычного лицемерия правящих и имущих классов.
Если г. Сорокину 92 развода на 10 000 браков кажется цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь, настолько загороженном от жизни монастыре, что в существование подобного монастыря едва кто-нибудь поверит, либо что этот автор искажает правду в угоду реакции и буржуазии. Всякий сколько-нибудь знакомый с общественными условиями в буржуазных странах человек знает, что фактическое число фактических разводов (конечно, не санкционированных церковью и законом) повсюду неизмеримо больше. Россия в этом отношении отличается от других стран только тем, что ее законы не освящают лицемерия и бесправного положения женщины и ее ребенка, а открыто и от имени государственной власти объявляют систематическую войну против всякого лицемерия и всякого бесправия.
Марксистскому журналу придется вести войну и против подобных современных «образованных» крепостников. Вероятно, немалая их часть получает у нас даже государственные деньги и состоит на государственной службе для просвещения юношества, хотя для этой цели они годятся не больше, чем заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных заведениях для младшего возраста.
Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею еще не научился, ибо в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно бы вежливенько препроводил в страны буржуазной «демократии». Там подобным крепостникам самое настоящее место.
Научится, была бы охота учиться.
12.III.22
Из писем Маркса и Энгельса — Лассалю[1]
Маркс — Лассалю. Лондон, 19 апреля 1859 год
Дорогой Лассаль!
Я тебе не подтвердил особо получение 14 ф. 10 ш., так как письмо было заказное. Но написал бы я раньше если бы не посещение проклятого «голландского дядюшки», злоупотребившего самым жестоким образом моим сверхурочным рабочим временем.
Теперь он исчез, и я опять свободно вздохнул.
Фридленберг мне написал. Условия не так благоприятны, как первоначально тебе было сообщено, но все же «приличные». Если еще несколько второстепенных пунктов будут между нами улажены — а я полагаю, это устроится на текущей неделе — я ему напишу.
Здесь в Англии классовая борьба развивается великолепнейшим образом. К сожалению, в настоящее время не выходит больше ни одной чартистской газеты, и я уже около двух лет принужден отказаться от литературного сотрудничества в этом движении.
Перехожу к «Францу фон Зикинген». Прежде всего, я должен похвалить композицию и действие, а это больше, чем можно сказать о любой современной немецкой драме. Во-вторых, оставив в стороне всякое чисто критическое отношение к этой работе, она при первом чтении очень меня заинтересовала, и потому подействует на читателей, у которых больше преобладает настроение, в еще более сильной степени. Это — второе очень значительное достоинство пьесы. Теперь — оборотная сторона медали: во-первых — чисто формально, — раз ты писал в стихах, ты мог бы более тщательно стилизовать свои ямбы. Однако, как ни шокирует профессиональных поэтов такая небрежность, для меня она является в целом скорее достоинством, так как наши поэтические последыши не сохранили ничего, кроме внешней гладкости стиха. Во-вторых: имевшаяся в виду коллизия не только трагична, это есть та самая трагичная коллизия, в силу которой революционная партия 1848–49 гг. была неизбежно осуждена на поражение. Я могу поэтому отнестись только с величайшим сочувствием к идее сделать эту коллизию осью современной трагедии. Но тогда у меня возникает вопрос, подходит ли взятая тема для изображения этой коллизии? Бальтасар мог действительно вообразить, что Зикинген бы победил, если бы поднял знамя открытой борьбы с императорской и княжеской властью, вместо того чтобы прятать свое восстание под видом рыцарской междоусобицы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию? Зикинген (а с ним и Гуттен, в большей или меньшей степени) пал жертвою не лукавства своего. Он погиб, ибо восстал против существующего строя, вернее — против новой его формы, как рыцарь и как представитель умирающего класса. Если совлечь с фон-Зикингена то, что присуще индивидууму с его особенным складом, естественными наклонностями и пр., то останется — Гец фон-Берлихинген. В этом жалком парне трагическое противоречие между рыцарством, с одной стороны, императором и князьями — с другой, выразилось в адекватной себе форме, и потому Гете справедливо сделал его героем. Поскольку Зикинген — до известной степени даже Гуттен, хотя по отношению к нему, как ко всем идеологам класса такое суждение следовало бы значительно видоизменить — борется с князьями (против императора движение направляется лишь потому, что он из императора рыцарей превращается в императора князей), он в действительности только Дон Кихот, хоть исторически и оправданный. Что он начинает восстание под видом рыцарской междоусобицы, означает лишь, что он его начинает, как рыцарское восстание. При другом приступе к восстанию, он должен был бы апеллировать непосредственно и с самого начала к городам и крестьянам, т. е. именно к тем классам, развитие которых равняется отрицанию рыцарства.
Поэтому, если ты не хотел свести коллизию к той, которая нашла свое выражение в Геце фон-Берлихингене — а это не входило в твой план, — то Зикинген и Гуттен должны были погибнуть, потому что воображали себя революционерами (чего нельзя сказать о Геце) и, точно также как образованная польская знать 1830 года, с одной стороны, стали органами идей своего времени, а с другой, на самом-то деле представляли интересы реакционного класса. Знатные представители революции — а за их лозунгами единства и свободы все еще таится мечта о старой императорской власти и кулачном праве — не должны были в такой степени, как у тебя, остановить на себе все внимание, а представители крестьян (в особенности) и революционных элементов в города с должны были образовать очень важный действительный фон пьесы. Ты мог бы тогда ввести в гораздо большей степени современные идеи в чистейшей их форме, между тем как в действительности теперь, кроме религиозной свободы, главной идеей остается буржуазное единство. Тогда тебе пришлось бы невольно больше черпать вдохновение у Шекспира, а не следовать по стопам Шиллера, с его превращением индивидуумов в простые рупоры духа эпохи, что я тебе вменяю в наибольший грех. Не впал ли ты сам до известной степени, вместе с твоим Франц фон-Зикингеном, в дипломатическую ошибку, поставив лютеранско-рыцарскую оппозицию выше плебейской оппозиции Мюнцера?
Далее, в характерах я не могу уловить характерное. Исключение составляют Карл V, Бальтасар и Рихард Трирский. А существовала ли эпоха более благодарная для сильных характеристик, чем XVII столетие? Гуттен для меня чересчур высокопарен, а это скучно. Не был ли он в то же время остряком, умницей, и не причинил ли ты ему большой несправедливости своей трактовкой?
Даже твой Зикинген, кстати тоже очерченный слишком абстрактно, и тот впадает в коллизию, вопреки всем своим личным расчетам, проповедуя своим рыцарям дружеские чувства к городам и в то же время охотно прибегая по отношению к ним к приемам кулачного права.
В частности, я должен местами осудить чрезмерное рефлектирование персонажей о самих себе — что происходит от твоего пристрастия к Шиллеру.
Особенно удавшеюся я считаю сцену между Зикингеном и Карлом V, хотя диалог с обеих сторон несколько впадает в ораторский турнир; затем, сцены в Трире. Очень хороши сентенции Гуттена о мече.
На сей раз довольно.
В лице моей жены ты приобрел особенного почитателя своей драмы. Только Марией она недовольна.
Привет. Твой К. М.
A propos. В «По и Рейне» Энгельса есть грубые опечатки, список которых я привожу на последней странице этого письма.
Энгельс - Лассалю. J. Fhorncliffe Groke Manchester 18 Mai 1859. (Отрывок)
Дорогой Лассаль!
Вам вероятно показалось несколько странным, что я так давно Вам не писал, тем более, что я еще не сообщил Вам своего мнения о Вашем Зикингене. Но это и был пункт, так долго мешавший мне писать. В этой пустыне изящной литературы, которая ныне повсюду царит, мне редко случается читать подобное произведение, и много лет уже не приходилось, читать такое произведение так, чтобы в результате его прочтения получилось обстоятельное, определенно установившееся суждение о нем. Современный хлам не стоит такого труда. Даже немногие лучшие английские романы, которые я еще читаю от времени до времени, напр. Текерея, ни разу не могли возбудить во мне такого интереса, несмотря на их неоспоримое литературное и культурно-историческое значение. Но благодаря такому долгому отсутствию практики мой дар суждения очень притупился, и требуется некоторое время, пока я могу себе позволить высказать свое мнение. Но Ваш Зикинген заслуживает другого отношения, чем этот хлам, и потому я резервировал себе для этого время. Первое и второе прочтение Вашей, во всех смыслах, по содержанию и обработке, немецко-национальной драмы, так на меня подействовало, что я должен был ее на некоторое время отложить, тем более, что мой ослабленный этим безвременьем вкус, должен к стыду своему признаться, довел меня до того, что по временам вещи мало значительные при первом чтении также производят на меня некоторый эффект. Поэтому, чтобы достигнуть совершенно беспристрастного, совершенно «критического» отношения, я отложил Зинкингена в сторону, т. е. «одолжил» его нескольким знакомым (здесь есть еще несколько литературно более или менее образованных немцев). Habent sua faga libelli[2] — когда книжку «одолжат», ее обязательно «зачитают», и так мне пришлось и моего Зикингена силою вновь отвоевывать. Могу Вам сказать, что впечатление при третьем и четвертом чтении осталось то же самое, и в сознании, что Ваш Зинкинген в состоянии вынести критику, преподношу Вам свою «горчицу».
Я знаю, что не сделаю Вам большого комплимента, если скажу, что никто из современных официальных поэтов Германии ни в малейшей степени не был бы в состоянии написать такую драму. Тем не менее, это факт, и слишком характерный для нашей литературы, чтобы его не отметить. Переходя, прежде всего, к форме, должен сказать, что меня очень приятно поразили искусная завязка пьесы и драматическая ее насыщенность. По части стихосложения Вы позволили себе, правда, кое-какие вольности, но они мешают больше в чтении, чем на сцене. Я бы очень хотел прочесть обработку для сцены; в своей теперешней редакции пьеса пойти на подмостках, безусловно, не может; здесь у меня был молодой немецкий поэт (Карл Зибель), мой земляк и дальний родственник, которому приходилось иметь довольно много дела со сценой; возможно, что ему придется, как запасному гвардии, побывать в Берлине, на какой случай я, может быть, позволю себе дать ему письмецо к Вам. Он очень высокого мнения о Вашей драме, но считал ее совершенно непригодной для постановки на сцене из-за длинных речей, при которых только одному актеру есть что делать, а другие принуждены будут без конца изощряться в мимике, чтобы не торчать в положении статистов. Два последних акта доказывают в достаточной мере, что Вы умеете быстро и живо вести диалог, и так как, за исключением нескольких , сцен (что бывает во всякой драме), мне кажется, то же самое возможно и в первых трех актах, то я не сомневаюсь, что в обработке для сцены Вы будете считаться с этим обстоятельством.
Идейное содержание должно при этом конечно пострадать, но это неизбежно, и полное слияние большей идейной глубины, осознанного исторического содержания, которые Вы не без основания приписываете немецкой драме, с Шекспировского живостью и насыщенностью действия будет достигнуто, пожалуй, только в будущем, быть может и не немцами. В этом именно я и усматриваю грядущее драмы. Ваш Зикинген, безусловно, на верном пути; главные действующие лица являются представителями определенных классов и направлений, тем самым — определенных идей своего времени, и находят свои мотивы не в мелких индивидуальных вожделениях, но именно в историческом течении, которое их несет. Но прогресс, которого следовало еще достигнуть, заключался бы в том, что эти мотивы живо, активно, естественно, так сказать, самым ходом действия выдвигаются на авансцену и, наоборот, аргументирующие словопрения (в которых я, однако, с удовольствием нашел вновь Ваш старый ораторский дар судебного красноречия и народного трибуна) становятся все более и более излишними. Вы, кажется, сами признаете целью этот идеал, делая различие между сценическою драмой и драмой литературной; я думаю, в указанном смысле Зикинген поддается, хотя и с трудом превращению в сценическую драму. С этим связана и характеристика действующих лиц. С полным основанием Вы выступаете против господствующего сейчас скверного индивидуализирования, которое сводится к всякого рода мелким выдумкам и очень сиптоматично для вырождающейся литературы эпигонов.
Однако, мне кажется, личность может характеризоваться не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает, и в этом отношении, я полагаю, идейное содержание драмы нисколько бы не пострадало, если бы отдельные характеры несколько резче оттенялись взаимным противопоставлением. Способы характеристики старых (поэтов) в настоящее время недостаточны, и здесь, думается мне, Вы могли бы без вреда дела несколько больше считаться с значением Шекспира для истории развития драмы. Но это мелочи, которые я привожу лишь для того, чтобы Вы видели, что я интересовался Вашей драмой и с точки зрения формы.
Что же касается исторического содержания, то Вы изобразили очень наглядно и с справедливым указанием на последующее развитие обе стороны тогдашнего движения, особенно близко Вас интересовавшие: национальное движение дворянства, представленное Зикингеном, и гуманистическо-теоретическое движение с его дальнейшим развитием на теологической и церковной почве, реформацией. Здесь мне больше всего нравится сцена между Зикингеном и императором, между легатом и архиепископом Трирским (здесь Вам одновременно удалось, противопоставлением светского, эстетически и классически образованного, политически и теоретически дальнозоркого легата ограниченному немецкому князю церкви, дать красивую индивидуальную характеристику, которая однако непосредственно вытекает из представительного характера обоих действующих лиц; характеристика очень ярка и в сцене между Зикингеном и Карлом. В автобиографии Гуттена, содержание которой Вы справедливо считаете существенным, Вы прибегли, правда, к рискованному средству, чтобы это содержание втиснуть в драму. Очень важно также собеседование Вальтасара и Франца в пятом акте, где первый разъясняет своему господину действительно революционную политику, которой ему следовало бы держаться. Тут именно и выступает наружу истинно трагическое; и в виду его важности, следовало бы, думается мне, несколько сильнее подчеркнуть его уже в третьем действии, где к тому представляется несколько возможностей. Но я опять увлекаюсь мелочами. — Положение городов и князей того времени изображено также многократно с большою ясностью, и таким образом официальные, так сказать, элементы движения того времени исчерпаны с достаточной полнотой. Но на неофициальные, плебейские и крестьянские элементы, с идущим рядом теоретическим их отображением, Вы, кажется мне, не обратили должного внимания. Крестьянское движение было по-своему так же национально, так же направлено против князей, как движение дворянства, и колоссальный размах борьбы, в которой оно потерпело поражение, очень сильно контрастирует с тою легкостью, с которою дворянство, покинув Зикингена на произвол судьбы, отдалось своему историческому призванию низкопоклонства. Мне кажется, поэтому, что даже при Вашем понимании, для меня, как Вы могли усмотреть, несколько слишком абстрактном, недостаточно реалистичном, крестьянское движение заслуживало более внимательного отношения. Крестьянская сцена с Постом Фрицом достаточно характерна и индивидуальность этого бунтовщика изображена очень верно, но высоко поднявшийся к тому времени напор крестьянской агитации представлен, по сравнению с дворянским движением, с недостаточною силой. Для моего понимания драмы, основанного на, том, чтобы не забывать реалистического элемента из-за идеалистического, Шекспира из-за Шиллера, привлечение тогдашней столь удивительно пестрой плебейской общественной сферы доставило бы еще совершенно новый материал для оживления драмы, благодарнейший фон для разыгрывающегося на переднем плане дворянского национального движения, выставило бы его в верном свете. Какие удивительно характерные бытовые картины дает эта эпоха распада феодальных связей в лице нищенствующих королей, голодных ландскнехтов и авантюристов всякого рода, — Фальстафовский фон, который в такого рода исторической драме был бы еще эффектнее, чем у Шекспира! Независимо от этого, мне однако кажется, что такое пренебрежение крестьянским движением привело Вас как раз и к неверному изображению дворянского национального движения, в одной его части, при чем от Вас ускользнул и действительно трагический элемент в судьбе Зикингена. По моему мнению, масса служилого дворянства того времени не помышляла о союзе с крестьянами; этого не допускала зависимость его от доходов, получаемых от эксплуатации крестьян. Скорее был бы возможен союз с городами; но и он не осуществился, или лишь очень частично. Но успех национальной дворянской революции был возможен лишь при союзе с городами и крестьянами, особенно с последними. И по моему мнению трагический момент как раз и заключается в том, что это основное условие, союз с крестьянами, было невозможно, что поэтому политика дворянства должна была неизбежно быть мелкою, что в тот самый момент, когда оно хотело стать во главе национального движения, масса нации, крестьяне, протестовали против его руководства, и оно необходимо должно было пасть. Я не могу судить, насколько исторически обосновано Ваше допущение, что Зикинген действительно состоял в некоторой связи с крестьянами, да это и не важно. Впрочем, насколько я припоминаю, писания Гуттена, где они обращены к крестьянам, легко проходят мимо щекотливого пункта о дворянстве и стараются сосредоточить ярость крестьян в особенности на попах. Однако, я нисколько не желаю оспаривать у Вас право понимать Зикингена и Гуттена так, как если бы они имели в виду освобождение крестьян. Но вместе с тем Вы получаете историческое противоречие, что оба они были поставлены между дворянством, которое этого решительно не хотело, с одной стороны, и крестьянами, — с другой. В этом заключалась, по моему мнению, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практически невозможным осуществлением. Устраняя этот момент, Вы умаляете размах трагического конфликта: у Вас Зикинген вступает в союз с одним только князем, а не с императором и государством (хотя и тут Вы с верным тактом вводите крестьян), и погибает просто благодаря равнодушию и трусости дворянства, но мотивировка была бы совершенно иная, если бы уже раньше были сильнее подчеркнуты бурное крестьянское движение и безусловное поправение дворянства под влиянием прежних Союза Башмака и Бедного Конрада. Все это, впрочем, составляет только одну сторону, в направлении которой можно было ввести в драму крестьянское и плебейское движение, и мыслим еще, по крайней мере, десяток других путей, столь же хороших или еще лучших,
Как Вы видите, я прикладываю к Вашему труду очень большой масштаб, а именно наибольший, как с эстетической стороны, так и с исторической, и наилучшим доказательством моего признания будет для Вас то, что я должен был так поступить, чтобы иметь возможность сделать местами то или другое возражение. Между нами, ведь, уже давно, в интересах самой партии, критика стала столь непринужденной, как только возможно; и, однако, меня и всех нас постоянно радует всякое новое доказательство, что наша партия, на каком бы поприще не выступала, обнаруживает свое превосходство. А Вы и на сей раз это доказали.
Перехожу к современности; мировые события принимают, как будто, очень счастливый оборот. Трудно придумать лучший базис для основательной германской революции, чем тот, который создается франко-русским союзом. Мы, немцы, должны погрузиться в воду по самую шею, чтобы всею массой прийти в тевтонскую ярость: а в этот раз опасность утонуть, по-видимому, надвигается на нас довольно близко. Тем лучше. В таком кризисе все существующие власти должны рухнуть и все партии одна за другою свернуть себе шею, начиная с Крестовой Газеты и до Готфрида Кинкеля, с графа Рехберга и до «Гекера, Струве, Бленкера, Цитца и Блюма». В такой борьбе должен наступить момент, когда только самая беспощадная, самая решительная партия в состоянии спасти нацию, и одновременно должны быть даны условия, в которых только возможно совершенно выбросить за борт весь старый хлам, внутреннее деление, с одной стороны, и доставляемые Австриею польские и итальянские придатки, с другой. От прусской Польши мы не должны уступить ни одной пяди, и что...
Маркс к Лассалю. Лондон, 22 июля 1861 год
Дорогой Лассаль!
Мое продолжительное молчание ты должен приписать различным «смягчающим вину обстоятельствам». Прежде всего, мне до сих лор еще не удалось — вопреки сделанным мне в этом отношении положительным обещаниям — привести в порядок денежные мои дела и поэтому мне было в особенности трудно послать тебе оставшиеся за мною 10 фунтов.
Во-вторых, в течение нескольких недель (особенно в течение последних дней) у меня было полостное воспаление глаз, крайне затруднявшее мне всякое письмо и чтение.
Прими, прежде всего, искреннейшую мою благодарность за твои усилия в деле моей ренатурализации. Мы, по крайней мере добились того, что скомпрометировали прусское правительство и свели к нулю его так называемую амнистию. Я думаю, что курьезное покушение О. Бекера (из газет неясно, русский ли он, или немец) очень будет способствовать тому, чтобы террором положить конец «новой эре».
Я прочел вторую часть твоего сочинения (когда я хотел начать первую, приключилась моя болезнь глаз) и испытал очень большое наслаждение. Я начал со второй главы, предмет которой мне ближе, что мне, однако, не помешает рассмотреть потом все в целом.
Коротенькое примечание на полях в прошлом моем письме ты понял не совсем правильно — и виною тому, пожалуй, мой способ выражения. Прежде всего, под «свободою завещания» я понимал не свободу составлять завещание, а свободу составлять его без всякого отношения к семье. Самый институт завещания в Англии очень древнего происхождения и не подлежит ни малейшему сомнению, что англосаксы заимствовали его из римской юриспруденции. Что англичане уже очень рано считали нормальным право наследования по завещанию, а не без завещания (по праву родства), вытекает из того, что уже в начале средних веков, когда отец семейства умирал без завещания, к его жене и детям переходили только обязательные доли (имущества), а треть или половина, смотря по обстоятельствам, доставалась церкви. А именно, попы толковали, что если бы он составил завещание, то оставил бы церкви известную долю для спасения своей души. В этом смысле, в средних веках завещания имели, пожалуй, религиозный смысл и составлялись в интересах усопшего, а не оставшихся жить. Я хотел, однако, указать на то обстоятельство, что после революции 1688 года были отменены ограничения, возложенные по закону на завещателя в отношении семейного наследственного права (о феодальной собственности здесь, конечно, нет речи). Ясно, разумеется, что это соответствует существу свободной конкуренции и основанного на ней общества; столь же ясно, что римское право, более или менее видоизмененное, было усвоено современным обществом потому, что правовое представление, которое имеет о самом себе субъект свободной конкуренции, соответствует таковому римского «лица» (при чем, я здесь совершенно не хочу касаться того пункта, очень существенного, что правовое представление определенных имущественных отношений, хотя оно из них и вырастает, с ними, однако же, не совпадает и совпадать не может).
Ты доказал, что усвоение римского завещания в первоначальной форме (и поскольку еще привходит научный анализ юристов) основано на неправильном понимании. Отсюда, однако ни коим образом не следует, что завещание в современной своей форме есть неправильно понятое римское завещание, какими бы лжетолкованиями римского права современные юристы его себе не построили. Иначе, можно было бы сказать, что всякое достижение более раннего периода, усвоенное позднейшим периодом, есть неправильно понятое старое. Несомненно, например, что три единства, как их теоретически строят французские драматурги эпохи Людовика XIV, основаны на неправильном понимании греческой драмы (и Аристотеля, как ее излагателя). С другой стороны, так же несомненно, что они понимали греков именно так, как это соответствовало их собственным эстетическим потребностям, и поэтому долго еще придерживались этой так называемой классической драмы, после того, как Дасье[3] и другие верно им истолковали Аристотеля. Или, что все современные конституции по большей части основаны на неправильно понятой английской конституции, и считают существенным именно то, что является уклонением от английской конституции и теперь еще формально существует в Англии лишь per abusum (в силу злоупотребления) напр, так называемый ответственный кабинет. Неправильно понятая форма есть именно всеобщая и на известной ступени развития общества применима для всеобщего употребления.
Мне кажется безразличным вопрос, имели ли бы, напр. англичане без Рима или не имели бы своего завещания (которое несмотря на прямое происхождение от римского завещания и приспособление к римским формам, не есть римское). Я мог бы поставить вопрос несколько иначе, примерно так: могли ли бы вырасти в гражданском обществе самостоятельно, и без опоры Рима, завещательные отказы (и современное, так называемое, завещание превращает главного наследника действительно лишь в всеобщего легатария). Или, вместо завещательного отказа, вообще письменные распоряжения имуществом со стороны усопшего?
Мне кажется еще не доказанным, что греческое завещание было импортировано Римом, хотя это очень вероятно.
Ты видел, что осуждение Бланки, одно из самых позорных, какие когда-либо постановлялись, было подтверждено во второй инстанции. Наилучший привет от моей жены.
Твой К. М.
Маркс Лассалю. Лондон, 28 апреля 1862 год
Дорогой Лассаль!
Ты на меня, дружище, вероятно страшно сердит; ты и прав, и в то же время очень неправ. Я со дня на день откладывал письмо к тебе, так как каждодневно лелеял надежду настолько упорядочить свои дела, что смогу, по крайней мере, вернуть тебе свой долг в 10 фунтов и, кроме того, с душевным спокойствием приступить к письму. Вместо того, положение с каждым днем ухудшалось. «Трибуна», с которой я возобновил отношения, хотя и с уменьшением моего заработка на одну треть, в конце-концов отказалась от всех своих сотрудников. Таким образом, я очутился совершенно не у дел. Я не хочу тебе плакаться; но, право удивительно, как я не сошел с ума. Я упоминаю об этой ерунде, чтобы, вдобавок к прочим моим злосчастиям, и ты еще не рассердился на меня.
Имеющиеся в последнем твоем письме сообщения про И. Ф. Бекера совершенно неверны. Ты ведь знаешь этого человека только понаслышке. Это один из благороднейших немецких революционеров с 1830 года, человек, которого ни в чем нельзя упрекнуть, кроме энтузиазма, не считающегося с обстоятельствами. Что касается его связей с итальянцами, то у меня депонированы бумаги ближайшего друга Орсини, не оставляющие в этом никакого сомнения, что бы ни говорили итальянцы и даже сам Гарибальди. Что ясе касается его отношений к Тюрру, — которого я еще в 1859 г. разоблачил здесь в «Вольной Прессе», то они сводятся к тому, что он назначил Тюрра лейтенантом в Баденском походе. Отсюда получились своего рода товарищеские отношения. Если бы Бекер пожелал использовать эту связь и принять предложения, которые Тюрр ему сделал в Париже в присутствии одного из здешних моих друзей, то ему, в его шестьдесят лет, не пришлось бы влачить такое мученическое существование. Я знаю совершенно точно источник, из которого Бекер получил очень скудную денежную поддержку. Это люди только из нашего самого тесного круга. С частью итальянцев он действительно попал впросак, так как с своим сильно выраженным тевтонским чувством он отверг известные добросовестные планы. Возмутительно, право, что такие люди, как Бекер, подвергаются такой низкой клевете.
Моя книга[4] будет готова не раньше, чем через два месяца. В течение последнего года, чтобы не умереть с голоду, мне пришлось заниматься самой гнусной поденщиной, и часто целые месяцы я не мог написать ни одной строчки для «дела». Сюда еще присоединяется моя особенность, что если я через месяц увижу какую-нибудь свою уже вполне законченную работу, я нахожу ее неудовлетворительной и опять совершенно перерабатываю. Во всяком случае, сочинение от этого нисколько не страдает, а немецкая публика занята, ведь, пока гораздо более важными делами.
По поводу твоего сочинения, которое я, конечно, перечитал теперь целиком и отдельными главами по нескольку раз, мне приходит в голову, что ты, по-видимому, не читал Вико, его «Новую Науку». Не то, чтобы ты там нашел что-нибудь для твоей определенной цели, а просто, как философскую концепцию духа римского права, в противоположность к филистерам права. Оригинал ты вряд ли одолеешь, так как он написан не только по-итальянски, но вдобавок на очень путанном неаполитанском диалекте. Я тебе рекомендую, напротив, французский перевод: «La Science Nouvelle etc. Traduite par l'auteur de l'essai sur la formation du dogme catholique». Paris, Charpentier, 1844». Чтобы раззадорить твой аппетит, привожу следующие цитаты: «L’ancien droit romain a été un poème sérieux, et l’ancienne jurisprudence a été une poésie sévère dans l’aquelle se trouvent renfermés les premiers efforts de la métaphysique légale.». «L’ancienne jurisprudence était très poétique, puisqu’elle supposait vrais les faits qui ne l’élaient pas, et qu’elle refusait d’admettre comme vrais les faits qui l’étaient en effet; qu’elle considérait les vivans comme morts, et les morts comme vivans dans leurs héritages».«Les Latins nommèrent heri les héros; d’où vint le mot hereditas... l’héritier... représente, vis-à-vis de l’héritage, le père de famille défunt»[5]«Древнее римское право было серьезной поэмой, и древняя юриспруденция была строгим поэтическим произведением, в котором заключены первые попытки легальной метафизики». «Древняя юриспруденция была очень поэтична, ибо она приписывала истинность фактам несуществующим и отрицала истинность фактов действительных: ибо она рассматривала живых, как мертвых, и мертвых, как живых, в их наследствах». «Римляне называли героев «heri»; откуда происходит слово «hereditas» (наследство)... наследник... представляет, по отношению к наследству, усопшего отца семейства». Вико содержит в зародыше Вольфа[6] («Гомер»), Нибура[7] («История Римских царей»), основы сравнительного языкознания (хотя и в фантастическом виде) и еще множество гениальных вещей. Его собственно юридические сочинения я до сих пор никак не мог найти.
При тех обстоятельствах, в которых я теперь, в течение почти одного года, нахожусь, я могу понемногу лишь подойти к критике твоей книги. Мне, напротив, было бы приятно, не ради себя, а ради моей жены, если бы ты, не ожидая с моей стороны эквивалента, дал бы у Брокгауза отзыв о первой части «Экономии».
Английский средний класс (и аристократия) никогда еще себя хуже не опозорили, чем в великой борьбе, разыгрывающейся по ту сторону Атлантического Океана. Наоборот, английский рабочий класс, больше всего страдающий от гражданской войны, никогда не показал себя героичнее и благороднее. Этому приходится тем более изумляться, когда знаешь, как я, все те средства, которые были пущены в ход здесь и в Манчестере, чтобы вызвать его на демонстрацию. Южане подкупили единственный большой орган, который у него еще остался, газету мерзавца Рейнольдса, равно как и крупнейших его лекторов, но все напрасно.
Книга Варнхагена меня очень интересовала, и я понимаю, как своевременно она явилась. Я тебя очень прошу передать по этому поводу Людмиле мои поздравления. Но несмотря на все Варнхаген от этого в моем мнении не вырос. Я нахожу его плоским, бесцветным, мелким и объясняю себе его отвращение к советнику посольства Кельсу тем, что он испугался своего двойника.
Приложенное письмо «цареубийцы» Симона Бернара пришло мне обратно. Полагаешь ли ты, что я могу пойти на это дело? Думаю, что нет.
Живейший мой привет графине. Скоро она получит от меня отдельное письмо. Надеюсь, что она никогда не придавала значения таким мелочам, как неписание писем, и уверена в неизменной моей преданности и почтении.
Твой К. М.
Д. Рязанов.— Страничка из жизни Маркса
Д. Рязанов
Смешно делать из Маркса кабинетного мыслителя, или ученого анахорета. Вся жизнь его была целиком посвящена делу революции, он знал одной лишь думы власть — мысль об освобождении пролетариата от ига капиталистического рабства. Но все же жизнь его нельзя сравнить с жизнью таких революционеров, практиков, как Иоанн Филипп Беккер или Огюст Бланки. Маркс не был, подобно им, революционным бойцом, и в жизни его мы не найдем событий, которые могли бы послу жить благодарным материалом для романиста или драматурга.
Но, мы хорошо знаем, — и каждый день с того времени, когда открылись архивы старого прусского режима, когда становятся доступными для исследования прежде скрытые материалы, приносит нам новые доказательства — что Маркс до последней капли испил всю горечь, которую буржуазное общество так щедро припасает для своих классовых врагов, что, не будучи никогда ожесточенным фанатиком, он с удивительным стоицизмом переносил самые жестокие удары судьбы — долгие годы изгнания, тяжелую, временами невыносимую нужду, преждевременную смерть своих детей. Мы знаем также, что Маркс — и он это великолепно показал в годы революции — обладал непоколебимым мужеством, бесстрашием капитана, спокойно стоящего на своем посту на борту корабля и уверенно ведущего борьбу с бушующим ураганом, чтобы вывести его из опасности, а если это невозможно, то последним покинуть свой корабль или погибнуть вместе с ним.
Не мало однако было в жизни Маркса и тех преследований, которым правящие классы подвергают своих врагов, преследований, которые не убивают свою жертву, но гоняют ее с места на место, как затравленное животное, не давая ему ни отдыха, ни срока. Сам он никогда не рассказывал об этих «мелких деталях», хотя ему и часто представлялся случай напомнить о них тем, которые так любили нападать на «мирного» теоретика. Маркс не выносил никакой рекламы и еще больше той кричащей саморекламы, которую так охотно пускают в ход революционные матадоры, рядящиеся в красные перья, точно они боятся, что без этой рекламной шумихи история о них так же скоро забудет, как она забыла о многих революционных героях на час. С презрительным молчанием перенося все направленные лично против него нападки, он никогда не распространялся по поводу преследований, мишенью которых он являлся со стороны буржуазных правительств, и по поводу лишений, которые он терпел из-за них. Всякая попытка задрапироваться в плащ политического мученичества казалась ему недостойной, всякая поза казалась ему всегда заслуживающей лишь презрения.
Выдающаяся роль Маркса, как самого деятельного и талантливого редактора «Рейнской Газеты» (1842–43), в которой он последовательно и решительно разоблачал всю несостоятельность абсолютного режима, охраняемого прусскими Плеве того времени и ограждаемого бюрократией, саблей и кадилом — эта роль сосредоточила на нем пристальное внимание всех прусских полицейских ищеек. Они не оставляли Маркса своим вниманием даже тогда, когда он уехал в Париж. Сейчас же после появления «Немецко-французской летописи», в которой Маркс впервые формулировал историческую миссию пролетариата вообще и немецкого в особенности, был издан приказ об его аресте. И хотя сотрудничество Маркса в немецкой газете «Вперед», которая выходила в Париже, было только случайным, прусское правительство бомбардировало министерство Гизо своими доносами и просьбами, пока ему не удалось добиться изгнания Маркса из Франции.
«Прием, оказанный изгнанному Марксу Бельгией, был очень суров, — пишет Меринг. — Когда он приехал в Брюссель, он должен был подписать в департаменте полиции обязательство не печатать в Бельгии ничего по вопросам текущей политики, или точнее, не принимать участия в общественной жизни Бельгии и не входить в нее открыто».
Власть тогда находилась в руках смешанного католико-либерального министерства, которое должно было считаться с сильной радикальной оппозицией. Но обстоятельства изменились, когда, после июньских выборов 1847 года, король был вынужден уже в августе передать управление делами министерству, составленному исключительно из либералов. Во главе нового кабинета стал Шарль Рожье, который недавно кокетничал с фурьеристами и хотел теперь доказать, что и либералы способны создать «сильную» власть и быстро справиться с радикалами.
Маркс, который в 1845 и 1846 году сосредоточил все свои силы на выработке своего нового мировоззрения и со второй половины 1846 года развернул, совместно с Энгельсом, интенсивную организационную деятельность, чтобы объединить коммунистов в международной организации, использовал политическую обстановку, которая казалась тогда благоприятной, и основал в Брюсселе две открытых демократических ассоциации: одну — немецкую, состоявшую из рабочих, другую, — интернациональную, названную «Демократическим обществом», в которой членами были бельгийцы, французы, поляки, швейцарцы и немцы.
«Если ты остановишься здесь на один день, — писал Маркс Гервегу 26-го октября 1847 года, — ты убедишься, что в маленькой Бельгии можно сделать гораздо больше для непосредственной пропаганды, чем в большой Франции. Впрочем, я думаю, что общественная деятельность, как бы минимальна она ни была, производит на человека бесконечно укрепляющее влияние».
Но не смотря на это оптимистическое настроение, Маркс не мог скрыть своих предубеждений против нового министерства Рожье.
«Возможно, что именно теперь, когда государством правит либеральное министерство, нам грозит ряд полицейских каверз, ибо либералы никогда не откажутся от своих излюбленных приемов. Но мы с ними справимся. Здесь не так, как в Париже, где иностранцы не находят никакой защиты пред правительством».
Маркс ошибся только в последнем пункте. Либералы действительно не отказались от своих приемов и он же явился первой их жертвой.
Министерство надеялось удовлетворить демократическую оппозицию кое-какими крохами реформ. Но внезапно приходит известие, что в Париже разразилась революция, и что там провозглашена республика. Тот самый тесть Леопольда I, короля Бельгии, храбрый Луи- Филипп, который несколько месяцев тому назад советовал своему зятю сохранить старое министерство и раздавить демократов, с трудом успел спастись в Англию, переодевшись в дамский салоп.
Не нужно было быть «сверх-лукавым» Кобургом, как говорит Стефан Борн в своих «Воспоминаниях», чтобы верно понять положение. Министры короля, с Шарлем Рожье во главе, не были настолько глупы, что ему нужно было бы еще накачивать их, чтобы грубо и неожиданно обрушиться на демократические элементы бельгийской столицы.
Боязнь, что французская республика снова, как в 1792–94 гг. напишет на своих знаменах принципы революционной пропаганды, сразу объединила всех имевшихся в Бельгии «друзей порядка» — от клерикалов до либералов — вокруг министерства Рожье, спасителя общества и порядка. А тут еще в Брюсселе имелась организация, где все демократические элементы больших городов встречались с «иностранцами». Так вот эта самая организация уже 28 февраля послала французскому временному правительству адрес, подписанный между прочим и Марксом в качестве вице-президента — адрес, в котором выражалось убеждение, что «страны, которые окружают непосредственно Францию, будут первыми, которые последуют за ней по новому пути».
Министерство Рожье поспешило составить новую программу, в которой фигурировал ряд реформ, объявленных за несколько недель пред этим чем-то в роде конечной цели, осуществимой только после основательной разработки и не менее основательной подготовки всей страны. Теперь эти реформы внезапно оказались совершенно практичными и сейчас же осуществимыми. А в заседании палат 1-го марта министр иностранных дел мог прочитать телеграмму Ламартина, в которой временное правительство новой республики принимало на себя торжественное обязательство оставаться безусловно «лояльным».
После «исторического заседания» парламента для Маркса и его друзей стало ясно, что уже не могло быть больше речи о продолжении их деятельности в Брюсселе. Принять необходимые меры было для них тем более необходимо, что Центральный Комитет Союза Коммунистов, находившийся в Лондоне, сейчас же после получения известия о февральской революции, передал свои полномочия брюссельскому Окружному Комитету.
3-го марта состоялось заседание нового Центрального Комитета в Брюсселе. И видя создавшееся положение, когда члены комитета были уже высланы бельгийским правительством или арестованы, как Вильгельм Вольф, или могли с часу на час ожидать высылки или ареста, Комитет решил распуститься и передать «временно центральное руководство всеми делами Союза» Карлу Марксу, которому в то же время поручалось организовать новый Центральный Комитет в Париже.
Маркс уже собирался переехать в Париж, куда приглашал его Флокон, старый редактор «Реформы», теперь член временного правительства, следующим письмом:
«Французская республика.
Свобода. Равенство. Братство.
Временное правительство.
Именем французского народа
Париж 1-го марта 1848 г.
Смелый и честный Маркс.
Почва французской республики является убежищем для всех друзей Свободы. Тирания вас изгнала, Свободная Франция открывает двери Вам и всем, кто сражается за священное братское дело всех народов. Все агенты французского правительства должны истолковывать свою миссию именно в этом смысле.
С братским приветом, Фердинанд Флокон, член временного правительства».
Но Маркс рассчитывал без своего хозяина, Рожье. В тот же день к 5-ти часам он получил приказ покинуть Бельгию в течении 24 часов. Не удовлетворившись этим, полиция в ту же ночь нагрянула на его квартиру и объявила его арестованным.
Что произошло дальше, расскажет сам Маркс. Он это сделал в письме, адресованном редакции газеты «Реформы», которое мы нашли в комплекте этой газеты (№ от 8-го марта 1843 года).
«Господин редактор, в этот момент Бельгийское правительство целиком перешло на сторону политики Священного союза. Его реакционные неистовства падают с неслыханной жестокостью на немецких демократов. Если бы мы не были так возмущены преследованиями, специальным объектом которых мы являемся, мы весело рассмеялись бы над глупостями, которые выделывает министерство Рожье, обвиняя нескольких немцев в желании учредить в Бельгии республику, вопреки желанию бельгийского населения. Но при тех особенных обстоятельствах, о которых мы говорим, гнусное берет верх над смешным.
Прежде всего, господин редактор, необходимо знать, что все брюссельские газеты редактируются французами, которые в своем большинстве спаслись из Франции, чтобы избежать позорного наказания, угрожавшего им на родине. Эти французы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы защищать независимость Бельгии, которую они предали в 1833 году. Король, министры и их приближенные пользуются подобного рода листками, чтобы создать впечатление, что бельгийская революция в республиканском смысле будет полной противоположностью «Francequillonerie»[8] и что вся демократическая агитация, которая наблюдается сейчас в Бельгии, провоцируется только экзальтированными немцами.
Немцы абсолютно не отрицают, что они открыто объединены с бельгийскими демократами, но они это сделали безо всякой экзальтации. В глазах королевского прокурора это однако было возбуждением рабочих против буржуа, это было выражением недоверия немецкому Королю бельгийцев, которого они так любят, это было открытием дверей Бельгии для французского завоевания.
После того как я получил 11-го марта в пять часов вечера приказ покинуть Бельгийское королевство в 24 часа, я в ту же ночь занялся приготовлениями к отъезду, как вдруг комиссар полиции, сопровождаемый десятком муниципальных гвардейцев, проник в мою квартиру, обыскал весь дом и закончил моим арестом под предлогом, что я не имею документов. Не говоря о совершенно правильных документах которые г. Дюшатель мне вручил, высылая меня из Франции, я держал в руке паспорт для выезда, предоставленный мне Бельгией всего только несколько часов тому назад.
Я не стал бы вам говорить о моем аресте и о грубостях, которым я подвергся, если бы они не были связаны с обстоятельством, которое с трудом можно понять далее в Австрии.
Непосредственно после моего ареста моя жена отправилась к г. Жотрану, председателю Бельгийского демократического союза, чтобы попросить его принять необходимые меры. Вернувшись домой, она встретила у своей двери муниципального сержанта, который ей сказал с изысканной вежливостью, что если она хочет говорить с г. Марксом, то она может следовать за ним. Моя жена охотно приняла его предложение. Ее провели в полицейское бюро, и комиссар объявил ей, прежде всего, что Маркса здесь не было; после он грубо спросил ее, кто она, что она собиралась делать у г. Жотрана и имеет ли она с собой документы. Бельгийский демократ Жиго, который провожал мою жену в полицейское бюро вместе с муниципальным сержантом, возмущаясь глупыми и грубыми вопросами этого комиссара, был вынужден к молчанию гвардейцами, которые схватили его и бросили в тюрьму. Под предлогом бродяжничества моя жена была уведена в тюрьму «Hotel de ville» и заперта вместе с проститутками в темной комнате. В 11 часов утра она была переведена среди белого дня под конвоем жандармов в камеру судебного следователя. В течение 2‑х часов она была заключена в карцере, несмотря на настоятельные протесты, которые раздавались со всех сторон. Она оставалась там, терпя суровый холод и, кроме того, возмутительнейшее обращение жандармов.
Наконец она была отведена к следователю, который был очень удивлен, что полиция в своем усердии не арестовала также и маленьких детей. Допрос был только формальный. Вся вина моей жены состояла только в том, что хотя и принадлежа к прусской аристократии, она разделяет демократические убеждения своего мужа.
Я не вхожу в детали этого возмутительного дела. Скажу только, что, когда мы были выпущены на свободу, 24-часовой срок уже кончился, и мы были вынуждены уехать, не забрав самых необходимых вещей.
Карл Маркс.
Вице-президент Брюссельской демократической Ассоциации».
Достаточно сравнить это письмо с рассказом Борна в его «Воспоминаниях», чтобы еще раз убедиться, как сдержан Маркс в описании этого случая. И, однако, рассказ Борна, в живых красках рисующий нам отчаяние г‑жи Маркс, подтверждается во всех существенных пунктах тамошними газетами.
В Бельгийской палате специальный запрос по этому делу был сделан Брикуром. Он произнес очень резкую речь и требовал судебного преследования против всех виновных.
Министр юстиции Госси и, после него Рожье оправдывали высылку Маркса. Ответственность за все грубости против него и его жены министры свалили на муниципальную полицию и обещали произвести расследование по этому делу.
31 марта адвокат Маркса Виктор Федер подал в палату соответствующее заявление, и Брикур доказал, что полиция в своем докладе извратила факты. Напрасный труд: дело было положено под сукно.
Маркс имел на руках более важное дело, чем ведение малой войны против бельгийской юстиции. Как только мартовская революция открыла ему доступ в Германию, он уехал на родину и основал в Кельне «Новую Рейнскую Газету», которая в продолжении всей революции служила знаменем для всей пролетарской демократии.
М. Покровский.— Проф. Р. Виппер о кризисе исторической науки
(Проф. Р. Виппер. «Кризис исторической науки». Казань. Государственное Издательство 1921 г. Сборники Ассоциации для изучения общественных наук при Высших Учебных Заведениях гор. Казани. Том 1, вып. 4)
М. Покровский
Чрезвычайно приятно, когда вы можете ответить на распространяемую про вас клевету каким-нибудь осязательным и неопровержимым фактом. Заграничные русские подголоски антантовской прессы на весь земной шар трубят, что в советской России нет будто бы никакой академический свободы, никаких свободных ассоциаций ученых, никакого свободного научного творчества. И вот вам. В г. Казани совершенно свободная, никем никогда не разрешавшаяся и нигде не зарегистрированная «ассоциация для изучения общественных наук при высших учебных заведениях» (советских, содержимых на общественный счет, и все время жалующихся, что плохо содержат — мало пайков!) без всяких стеснений издает свои труды при посредстве правительственного аппарата, Государственного Издательства.
После этого всякого, осмеливающегося в той или другой Европе кричать, что в РСФСР нет академической свободы, надо просто-напросто тащить в суд, как обыкновенного клеветника, а на суде предъявлять брошюру проф. Виппера: обвинительный приговор за клевету можно считать заранее обеспеченным.
Вы видите, что уже одной своей обложкой произведение маститого московского историка поднимает настроение каждого доброго коммуниста. Ее содержание усугубляет, учетверяет это впечатление.
Основную мысль брошюры не приходится отыскивать. Она дана автором в максимально сжатом и нарочито подчеркнутом виде на стр. 13-ой (в брошюре всего 37 страниц):
«Повторю основные моменты наблюдаемой в современности перемены исторического метода, исторического толкования. Мы еще недавно спрашивали о состояниях, о жизни масс, о направлении интересов. Мы теперь хотим прежде всего знать события, роль личностей, сцепление идей. Когда эту смену воззрений и вкусов захочет определить философ, он скажет: общественное мнение перешло от воззрения материалистического к идеалистическому» (курсив везде проф. Виппера).
Вот это поистине — «меткое слово вовремя!». Когда, лет же побольше двадцати, мы твердим, что буржуазная историография есть идеалистическая историография, что она во всем противоположна материалистическому, то есть научному пониманию истории — многие из людей нам сочувствующих, даже многие из тех, кто сам себя считает марксистом, пожимают плечами.
Эка хватил — идеалистическое понимание истории! Конечно, у них несколько иные взгляды, конечно, они не сводят концы с концами — но говорить по этому случаю об идеализме… и «марксист» идет к буржуазному профессору истории просить у него указаний, как писать биографию Маркса[9]. Но вот выступает крупный, авторитетный, всем известный университетский историк, и говорит «громко и внятно»: да, мы идеалисты.
Нам вы не верили, дорогие товарищи? Им-то самим, надеюсь, поверите?
Правда, проф. Виппер кричит так о своем идеализме может быть потому, что он в этой области неофит: еще лет десять тому назад можно было встретить его статьи в марксистских журналах. Оттого ему кажется, что «кризис исторической науки», — т. е. поворот буржуазной историографии к идеализму — есть явление новое, чуть ли не современное империалистической войне и ею вызванное. На самом деле это явление значительно более старое. Первые идеалистические теории исторического процесса — Виндельбанда и Рикерта — возникли на переломе XIX и XX столетий. Шпенглер отнюдь не предтеча этого направления, он скорее его популяризатор. Его отношение к Рикерту примерно такое, как Каутского к Марксу.
Нового, таким образом, в лекции проф. Виппера (она начинает собою брошюру, воспроизводящую три небольших его доклада) ничего нет. Скорее, она представляет автобиографический экскурс на тему: как я стал рикертианцем. Но биографии проф. Виппера мы не собираемся писать. С отцом же его духовным, Рикертом, пишущий эти строки попытался рассчитаться еще в 1904 году (на страницах тогдашней «Правды» — тогда журнала, а не газеты). И хотя пишущий эти строки не настолько претенциозен, чтобы думать, будто от камней из его скромной пращи немецкому Голиафу был какой-либо вред, все же, после поединка с богатырем, вступать в бой с рядовыми филистимлянами кажется ему излишним.
Поэтому в теоретические глубины мы спускаться не будем — тем более, что и сам проф. Виппер, обращаясь, очевидно, к очень юной аудитории, этих глубин не касается, а подходит к сюжету, можно сказать, по-обывательски — как добрые старые учителя объясняют малышам исторический процесс: вот ты, скажем, встал, умылся, напился чаю, вышел на улицу, пошел в школу… Так и проф. Виппер — берет примеры самые наглядные, понятные всякому, знающему — ну хоть учебники самого проф. Виппера, или даже и их не знающему. И во всяком случае ничего не знающему о философских книжках, вроде «Границ естественно-научного образования понятий».
Так вот, на таком обывательском примере попытаемся объяснить столь же юному читателю, насколько материалистическое объяснение истории лучше объясняет, чем идеалистическое.
Проф. Виппер берет «изумительный факт: количественно небольшая группа овладевает колоссальным государством, становится властью над громадной массой и перестраивает всю культурную и социальную жизнь сверху донизу. Согласно чему? — Своей идейной системе, своей абстракции, своей утопии земного рая, жившей до тех пор лишь в умах немногих экзальтированных романистов. Это ли не господство теории над миром человеческих отношений? Еще острее наше впечатление от того контраста, который получается между поступками и убеждениями властителей современного момента. Они очень любили выставлять себя материалистами, смеяться над всякими идеологиями. Ведь никто иной, как именно они считали политические теории, философские системы и т. п. надстройкой, декорацией, тогда как все дело в фундаменте классовых интересов. А вот теперь они-то и отдаются увлечению своими идеями, они-то и не хотят считаться с реальными интересами, с вековыми привычками, стремясь дать место полету своего воображения, упиваясь блеском и стройностью своих мысленных чертежей. Своим примером они только показывают, как мы все вместе с ними заблуждались прежде, когда считали идею, теорию чем-то производным, кабинетным, оранжерейным, когда сомневались в способности теорий действовать на вооружение, когда думали, что идеи не способны управлять людьми» (стр. 11–12).
По злейшей иронии истории все это говорилось 10 ноября 1920 года — накануне, можно сказать, поворота к новой экономической политике. Не будем останавливаться на некоторых — вероятно, невольных, — передержках: Маркс — не романист, а Беллами был евангелием не русских марксистов, но тех интеллигентов, которые в 1917 году пытались сорвать революцию, сделанную марксистами; эти последние привыкли не «смеяться над всякими идеологиями», но их объяснять, постоянно памятуя совет Спинозы — что ни смеяться, ни плакать не следует; «надстройка» и «декорация» не одно и то же: и если правительство Керенского, действительно, было своего рода декорацией, снести которую не стоило большого труда, то для того, чтобы убрать со сцены надстройку, именуемую царизмом, марксистам пришлось трудиться четверть столетия. Не будем придираться ко всему этому. Лекции читаются, как говорил покойник Ключевский, «первыми словами», и проф. Виппер хорошо сделал, что не пытался выглаживать своего шероховатого, зато живого и яркого текста.
О какой «небольшой группе» говорит проф. Виппер совершенно ясно. Будучи одним из атомов, составляющих эту группу, попытаюсь показать и маститому историку, и его юным слушателям, что «группа» именно потому и превратилась в группу «властителей», что она отнюдь не «давала места полету своего воображения».
В чем заключался бы «полет воображения» зимой 1917–18 годов, когда «группа» стала у власти? В том, чтобы превратить бессмысленную бойню русских и немцев в войну против империализма. В том, чтобы превратить империалистскую войну в революционную. А что мы сделали? Стали на колено перед германском империализмом. Почему? Потому что народные массы в России требовали мира, были против войны какой бы то ни было, империалистской, революционной — все равно. Что дало нам силу перенести унижение? Глубокая вера в то, что материальные, объективные причины скоро поставят на колени и германский империализм. Ноябрь 1918 года ответил на это с точностью предсказанного лунного затмения.
Мы никогда не были пацифистами во что бы то ни стало. На этот счет проф. Виппер мог бы говорить «в единственном числе». Но мы никогда не были и милитаристами — и создали одну из сильнейших в мире армий. Почему? Потому что обстоятельства от нас требовали, чтобы мы, мирные пропагандисты и агитаторы, превратились в солдат. Как хохотали бы мы, сотрудники парижского «Нашего Слова», если бы кто-нибудь на редакционном собрании стал пророчествовать, что через четыре года наш редактор, тов. Троцкий, будет делать смотр войскам на Красной площади. А теперь, кто, кроме нас же самих, мог бы представить себе тов. Троцкого не во главе армии?
Но армию нужно кормить, одевать, обувать, вооружать — отсюда механически, даже если бы мы были заклятыми индивидуалистами, в данной обстановке вытекал ряд социалистических мероприятий — т. е. мероприятий, подчиняющих личную инициативу суровой военной необходимости. Так было в осажденном Париже 1871 года, так было в заблокированной Германии 1915–1918 годов, так было у нас. Не могло не быть. Конечно, у нас эти социалистические мероприятия нашли свою идеологию, чего в Париже и в Германии не было. Но что не идеология создавала порядки, а наоборот, порядки поддерживали идеологию, доказательство было дано на другой же день после того, как проф. Виппер «поклонился всему, что сжигал». Ведь идеология-то оставалась та же — меж тем мы очутилось в вихре такой «Сухаревки», что куда до нее подлинной Сухаревской площади 1918 года. Что же изменилось? Осадного положения больше нет. Нам не отгораживаться нужно ото всего мира, а наоборот — шире растворить двери. И барьеры военного коммунизма падают один за другим — несмотря на то, что в теории мы остаемся теми же коммунистами, какими были.
Вся история марксистской революции в России может быть понята только человеком, который стал сам на марксистскую точку зрения. Иначе мы, действительно, оказываемся перед необъяснимым, перед чудом. Но заменить простое научное объяснение объяснением «от чудесного» в истории совершенно то же, что в медицине перестать объяснять чуму бациллами — и вернуться к объяснению болезней «посланием божьим». Это был бы не кризис — это была бы катастрофа науки.
И замечательная вещь — чем больше открещивается от материализма буржуазная теория, тем все более и более материалистической становится буржуазная практика. Возьмите вы, как кончались наполеоновские войны. Был «Священный Союз» с его «христианскими началами», спорили о том, быть ли Франции с хартией или без хартии, воевали из-за того, будут ли на французском престоле Бонапарты или Бурбоны. Конечно, экономическую подкладку всего этого нетрудно отыскать — легко, например, видеть, что заботы Англии о свободе бывших испанских колоний Южной Америки были заботами о рынках. Но иногда непосредственно экономическое объяснение и действительно оказывается неприложимым. Непосредственно — экономически России совсем не нужна была в 1815 году Польша. Аннексия Польши Александром I имела, главным образом, военное значение — т. е. лишь посредственно экономическое.
Теперь ничего подобного. Все споры вертятся около того — будет или не будет платить Германия, будет или не будет платить Россия. Отойдет силезский уголь к Польше или останется у немцев? Вернет русское правительство национализированные фабрики их иностранным владельцам или нет? О том, что это правительство состоит из коммунистов, никто и не вспоминает: это такой же безразличный факт, как если бы Ленин был буддист или исповедовал религию Конфуция. Зеленый стол дипломатии сменился банковским прилавком. Платишь? Получи!
Будь такие порядки в 1815 году, никакого Ватерлоо бы не понадобилось. Просто, заплатил бы Наполеон кому что следует, и уселся бы преспокойно на французском престоле. Наполеон, Бурбон — да хотя бы сам Робеспьер, не все ли равно? Лишь бы платили…
А профессора поют студентам о возрождающемся идеализме…
Ст. Кривцов.— «Методология общественных наук» гражд. С. Франка
Ст. Кривцов
«Понять устройство общества, теологически предуказанное или предписанное его сущностью, его имманентными функциями, и наметить его конечный идеал есть здесь одна и та же задача.
Специфически общественно-научное определение общественного идеала может быть уподоблено специфически-медицинскому или биологическому ученью о здоровье или нормальном развитии организма… Точно так же и обществовед может уяснить… нормальное, вытекающее из имманентных телеологических задач общественное бытие, соотношение функций, обуславливающее внутреннее равновесие его сил и беспрепятственное развитие их, противопоставляя это нормальное построение многочисленным патологическим уклонениям от него и призывая общественную волю к мероприятиям, противодействующим этим укреплениям»[10].
Измученный путник русской общественности, прочитав приводимые строки г. Франка, может возликовать — вот дано новое заклятие «патологическим» (читай революционным) силам, да еще вытекающее изнутри, то есть извне от него — от господина российского обывателя, кем-то или чем-то предуказанным, т. е. обязательным заклятиям. А мы, грешники, должны поникнуть горестно главами и заняться самопознанием, и каяться в нарушении всех предписаний общественной, т. е. г. Франка и иже с ним, общественной санитарии.
Каемся, не без страха и трепета приступили и мы к плаванию на корабле, изображенном на книге г. Франка, и долженствовавшем повлечь нас к «предписанным нам» местам, столь или не столь отдаленным[11]. Но чем дальше мы плыли на этом корабле, тем нам становилось все менее уверенно за нашего кормчего. Мы хотим реального уничтожения микроба революции, т. е. ряда конкретных мер и предписаний, а нам в утешение дают чистую логику. В самом деле, вся книга г. Франка отличается исключительно логическим построением, прямо-таки своего рода чистая логика. С этого он и начинает огорашивать своего слушателя в университете (заметьте, читатель, что это курс в государственном университете). «Эта методология есть логическая или философская методология» (стр. 6). Поэтому и весь первый отдел — история неудачных построений общественности, до г. Франка носит чисто логический характер. Доходит дело до смешного. Совершенно случайно в XVIII веке стал господствовать рационализм (стр. 38), который с логической точки зрения не выдерживает ни малейшей критики, и вдруг этот случайный пришелец с того света, или идея чего-то имманентного, по терминологии г. Франка, оказал такое мощное влияние на всю общественную жизнь конца этого века. Сколько раз все профессора уничтожали Руссо, но этим, конечно, не могли уничтожить революционного значения его учения, которое так сказалось во время французской революции. С логической точки зрения, да еще чисто формальной, построенной на ряде аксиом («столь очевидно» стр. 40 или «это прямо бросается в глаза» стр. 80), разнести вдрызг всех своих предшественников нетрудно, поэтому мы и не будем указывать методологические ошибки г. Франка здесь, в этой области, хотя эта задача и занимательная. Нет, мы попытаемся нарисовать ту картину общественной методологии и общественного идеала, которая обрисовалась перед нашим духовным взором, очищенным к тому же по рецепту г. Франка (стр. 104) от всех своих личных субъективных вкусов… стремясь расширить мир своего идеального переживания, чтобы воспринять духовную природу изучаемого общественного явления, в результате нашего совместного плавания по морю житейскому.
Мы полагаем, что такие контрабандные плавания на чужих военных кораблях, своего рода идеологические разведки, должны быть весьма поощряемы для нашей молодежи, ибо только тогда она отчеканит свое подлинное революционное знание.
Мы упоминали выше, что, по мнению г. Франка, задача обществоведения — чисто логическая задача, или вернее даже, задача философского размышления. Ибо рассмотрение прошлого привело автора к пессимистическому выводу, что там получился всего только хаос, «и надежду на выход из этого хаотического состояния дает могучая волна философского творчества» (стр. 56). Ведь обратите внимание, благосклонный или недоброжелательный читатель, на этот смысл — волна несет нас к чаемому брегу. Но шутки в сторону. Почему же вообще не попытаться применить общий метод естествознания к явлениям общественной жизни? Этого сделать нельзя по очень простой причине — «науки общественные изучают явления общественной жизни, обусловленные волей и сознанием человека, стремлением людей к определенной цели или идеалам — моменты, не имеющие места в явлениях природы. Поэтому и закономерность общественных явлений (если она и существует) будет иной, чем в явлениях природы» (стр. 6). Правда, дальше читатель будет в недоумении. Прежде всего на стр. 33 указывается, что «наука должна считаться с обществом, как продуктом реальных, независимых от человеческого разума и воли сил — продуктом, в создании которого лишь частично участвует разумная воля». Выше приводится очень резонное тому доказательство, и еще выше очень правильные замечании о первичности общественности над личностью (стр. 61–65). Получается какая-то неувязка, а тут еще к тому же оказывается, что закономерность именно в природе носит целевой телеологический характер — на стр. 15 мы читаем: «Однако именно современная биология, уяснив неудовлетворительность дарвинизма и наметив более глубокие силы эволюции» считает (стр. 39), «что телеологическая связь неустранима из мира, как показывает и новейшее развитие биологии. Организм не может быть понят как машина и предполагает целестремительные силы». «Попытка дарвинизма объяснить механически само происхождение целесообразных существ в настоящее время единогласно признается неудавшейся». Мы в отчаянии: результат выходит обратный — телеологическая закономерность господствует в природе, а в обществе какие-то независимые от воли силы. Будем искать эти силы; быть может они-то и подчинены телеологии. Так оно и есть, и наше отчаяние сменяется «тихою верою».
«В самом деле… не только генетически общественные явления обусловлены телеологическими силами, но самое их существо, их так сказать субстрат, состоит из идей и убеждений. Всякое общественное явление имеет правовой характер, право же есть идея, действующая среди людей. Семья, государство, хозяйственные и классовые отношения, бытовые формы жизни — не мертвые материальные факты, извне данные: их бытие основано на смысле, который придает им человек, они суть объективные выражения, как бы кристаллизация существующих верований и идей» (стр. 35). Вот этой-то не биологической стороной человека и занимаются общественные науки (стр. 36), ибо, если пустить козла в огород, то есть натурализм, то результат получится плачевный, — «должны будут прекратиться та вера или тот смысл, которые образуют существенный момент самой общественной жизни» (стр. 37). Но как тогда уловить сей смысл или веру — если научные методы неприменимы — остается только «самопознание человеческого духа» (стр. 77), тогда мы определим, что обществоведение, по существу, есть наука о духе (там же стр.). Раз так (ведь помним, — здесь только логика, чистая, чистейшая), «ничто не препятствует признанию возможности влияния на человеческие действия и, следовательно, на общественные явления спонтанных духовных причин» (стр. 39). Мы отираем прохвативший было нас холодный пот и зело радуемся — наконец-то найдены эти вне нашей воли стоявшие силы, которые чуть было не испортили всей вашей божественной музыки. Ну, а раз так, то, разумеется, смешно к этим спонтанным силам прилагать какие-то законы сохранения энергии. Конечно, и человек, подобно машине, нуждается в притоке физической энергии в лице питания, ну а дальше, уж извините, он поступает согласно своей свободной воле, и притом без всякого нарушения закона энергии. Это только Добролюбов вывел свободовольные машины в своей «Железной дороге». Но вдруг у путешественника пискнет мысль — а дарвинизм? Ответ приведен выше, а дальше еще страшнее, — приставив свой логический пистолет, Франк ставит нам только такой выбор — либо разумно действующей творец мира — трансцендентный телеологизм, либо имманентный (спонтанные внутренние духовные причины), то есть господин бог с седой бородой, или же внутри меня лично живущий приятный «х», то «мы имеем все данные в согласии с опытом и здравым смыслом признать телеологические, т. е. целестремительные силы, действующие в пределах самого бытия. В отношении общественной жизни это столь очевидно, что лишь исключительно предвзятое отношение может отрицать это» — добавляет г. Франк (стр. 40) в назидание нашему ограниченному разуму подданных его корабля, милостиво опустив свой логический пистолет и спустившись с высот чистой логики в низы повседневности, и прибегая к понятным здравому смыслу и очевидности. Оно и лестно.
Выбор сделан, и мы смело вступаем в старую обитель старичка Платона. Мы не шутим, читатель. Недаром, ведь, и сказано было нам в посрамление на стр. 14, «что в некоторых отношениях мы не доросли до него (богатства греческой научной мысли) и теперь». А главное, все это построение лишено какой бы то ни было предвзятости, «что всякое общественное явления на ряду с одной стороной» (стр. 74). Оказывается, в согласии с нашим опытом и здравым смыслом, что оно, событие или факт, имеет и другую, в силу которой (еще одна сила) оно имеет «смысл», что-то «означает», выражает какую-то «идею», причем этот смысл или эта идея образует «конститутивный признак, вне которого оно немыслимо. Так, напр., явление дружбы двух людей, помимо реальных чувств этих людей или их взаимных действий, содержит в себе еще идею дружбы, выражает какое-то объективное отношение, которое до известной степени независимо от реальных чувств и даже властвует над нами, ибо налагает на своих участников обязанности» (стр. 75). Дальше приводится и пример с семьей. Вы ошеломлены, товарищ, памятуя субъективную социологию господ социалистов-революционеров, которые, тоже начав с выдумывания каких-то идей правды, пришли к определенным действиям господ Черновых, разоблаченных Семеновым. Г. Франк успокаивает наше встревоженное самочувствие (недаром обещаны средства противоядия) и заявляет, что его идеи на эсеровские совсем непохожи, они совсем иного порядка, они живые идеи (у тех мертвые), и не только живые, а еще и объективные. Теперь мы понимаем те облака, которые окружают ту гору, куда влечет нас корабль Франка.
Там «на воздушном океане
без руля и без ветрил
тихо плавают в тумане
хоры стройные светил».
Там обитель этих спонтанных сил, живых идей. Отсюда и определяется общественное отношение, предмет обществоведения есть трансцендентное душевной жизни бытие, которое только усматривается или улавливается в психическом процессе соответствующего опыта или познания: поэтому обществоведение, подобно математике или логике, не есть ни часть ни часть психологии или производная от психологии наука, а есть совершенно самостоятельная область знания, имеющая своим предметом особую область бытия» (стр. 79). Иначе вся реальность общественных отношений есть одновременно идеал реального. И опять ссылка на наш опыт. «Это единство постигаемое, как отвлеченная философская истина, в области общего бытия, в сфере общественного бытия прямо бросается в глаза и может не замечаться лишь в силу предвзятых и ложных понятий» (стр. 80). Но нет ли специфической части в общественном явлении, где бы открывалось это идеальное, и тем дало бы подтверждение теории идеал-реализма, давно защищаемой г. Франком. Оказывается, что в этих облаках есть просвет, и через него мы познаем сущность его дела. А именно «управляющая (обратим внимание на словечко-то) общественным бытием объективная система идей, взятая отвлеченно, как чистая идеально, вообще вневременна: нормы или заповеди общежития, хотя реально возникают и проходят во времени, по смыслу своему так же независимы от времени, как истины математические» (стр. 83). А натурализм как раз и грешит тем, что не обращает внимания, не считается с этою идеальною стороною общественного явления (стр. 85). А так как изучает эти нормы право, то чистое обществоведение и есть правоведение (стр. 85–86), именно потому, что прежде всего ясно, что «право есть общая имманентная форма всех общественных отношений, именно в качестве живой идеи, образующей самое существо общественного бытия» (стр. 91). В общественном явлении всегда сложный переплет идеи и жизни. Познать их одинаковым способом, методом, нельзя, или, «иначе говоря, единство, невозможное в плоскости положительной научной практики, достижимо и необходимо в более глубокой сфере философского обоснования обществоведения. Обобщающей социальной наукой может быть не социология, как единое положительное обществоведение, а лишь социальная философия — философская теория общественного бытия, ибо все наиболее ценное, плодотворное и влиятельное в области общего осмысления социальной жизни не создано положительным обществоведением, а заключено в философских размышлениях об обществе (стр. 101).
Это возможно в открытом г. Франком живом знании, и метод здесь такой: «понять значит здесь просто усмотреть через переживание, вчувствоваться в идею или почувствовать ее», стр. 103. Почему и заключительный аккорд — «обществознание есть самознание человеческого духа, и в основе его лежит живое содержание в форме самоуглубления», (стр. 103.). Но это самоуглубление должно быть лишено совершенно момента субъективности, (стр. 105). Ну, тут уж наш жизненный опыт становится совершенно в тупик. Самоуглубляться мы мастера, но именно всегда имея в виду наше возлюбленное «я», а тут, извольте видеть, и от личности отказаться приходится. Выходит что-то вроде чревовещания: я не я и лошадь не моя, и сам я неведомо что. Понимая, разумеется, наше обывательское настроение, г. Франк и спешит нас уверить, что вот это-то погружение в нирвану или еще какая-то там индейская премудрость и откроет нам внутренние законы правильной общественной жизни. И мы будем призывать общественную волю к устранению «вмешательства внешних эмпирических сил или внутреннего ослабления или расстройства регулирующей жизненной силы». Ведь, как хорошо написано — и чуждые элементы устранить и подтянуть. Все это очень приятно и нимало, разумеется, не похоже на глядение вупок. И, право, восстановить в его попранных правах весьма не вредно, и вспомнить советы, приводимые на стр. 106, необходимости устойчивой валюты, необходимости свободы печати и свободы прав личности для обеспечения представительного строя или примеры сверх; — временности общественного бытия в лице государства, нации, династии в монархическом строе, (стр. 84.) Все такие хорошие вещи, а главное подлинные идеи-силы, а вовсе не какое-то иеговское шарлатанство живого знания.
На этом мы кончаем наше совместное плавание с г. Франком и благодарим его за пользу, принесенную нашему развитию общением с ним. И мы горячо рекомендуем всем молодым марксистам, а к ним ведь и обращает свою речь наш журнал, проштудировать книгу т. Франка и сравнить ее с соответствующими главами хотя бы книги Бухарина. Мы не могли исчерпать всего богатства этой поучительной книжки. Подобно нашему примеру, можно было бы также провести через всю ее разбор понятия сверхвременности и показать тот пункт, где г. Франк легким пируэтом покидает нашу грешную землю, чтобы потом, как и в нашем примере, вернуться на нее в новом качестве глашатая живых идей.
На этом и можно было бы кончить, но мы хотим ради научной добросовестности указать на два промаха г. Франка: первое — покойного Илью Ильича Мечникова, творца ортобиоза, он превратил в его брата Льва — крупного географа и анархиста (стр. 90), а творца утопического социализма и провозвестника теории классовой борьбы, Сен-Симона, в консервативного и реакционного графа в компании с Рональдом и де Местром (стр. 50). Очень хорошо представлено столкновение в обществоведении сингуляризма и универсализма и правильность последнего (стр. 49 и сл.). Прекрасно изложен отдел о генетической первичности общества или индивида; этим отделом следует воспользоваться, так как он в сжатой формулировке дает правильный ответ на эти важные вопросы.
Специально нам, марксистам, посвящено несколько мест, (стр. 21, 52, 72, 88, 90 и 92), но ничего нового они не дают.
Заканчивая, мы считаем, что г. Франку не удалось выполнить поставленной им задачи, создать обществоведение такое же чистое и отвлеченное, как чистая математика или логика. Наш примерный анализ, думается, достаточно это показал, а это приводит нас к гипотезе (будем сверх осторожны), что такое умозрительное построение и немыслимо. Маркс в введении к «критике» (к сожалению, еще не имеющемуся в русском переводе) уже показал на необходимость искания общих элементов обществоведения, и усвоение им от Франклина определения человека уже дает ключ в этом направлении, но это построение, конечно, не должно высасываться из пальца, как любит выражаться т. Бухарин в «Теории исторического материализма». А к такому высосанному построению общественности и общественного идеала и призывает нас г. Франк. Мы полагаем, что основная ценность его книги как раз и заключается в том, что такое обществоведение прямехоньким путем приводит к господину богу с седою бородою, и должно помочь многим заняться самопознанием — вещь в такой плоскости весьма и весьма не вредная. Но мы полагаем, что это доказательство от противного не должно идти за пролетарский счет. Таким словесам лукавствия место не в университете (интересно, во время сдачи зачетов г. Франк допускал в Саратовском университете дискуссии?), а в вольных академиях духовного знания, где он, как слышно, и подвизается теперь.
В. Ваганян.— Ученый мракобес[12]
В. Ваганян
Не только в России, но и во всем мире интеллигенция усиленно занята разработкой проблем истории. Интерес к философии истории особенно возрос теперь: стремление уразуметь общие законы истории, пересмотреть их при новом освещении, в связи с гигантскими катастрофами, имевшими уже место и ожидаемыми — это основная тенденция мыслящих кругов буржуазии.
Стоит только просмотреть западно-европейскую философскую и социологическую литературу, чтобы убедиться в этом.
Что касается до нашей российской интеллигенции — то единственное занятие, в чем она особенно успевала — это пересмотр своих воззрений. Ни у одной интеллигенции нет такой солидной традиции «ревизионизма» ( в широком смысле слова), ни одна интеллигенция не страдала так долговременно лихорадкой «пересмотров» — как наша. Последние тридцать лет нашей истории имеют много очень значительных поворотных пунктов и потрясений и каждое из этих потрясений неизменно приводило шилу интеллигенцию к «пересмотру» и продвижению все далее вправо (само собой разумеется я беру интеллигенцию буржуазную и отчасти мелкобуржуазную). От марксизма к идеализму, к мистицизму, к «вехам», к «Великой России», к барабанному патриотизму, к саботажу, к реакции — путь весьма поучительный Этот путь не случаен: он обусловлен теми весьма своеобразными общественными и классовыми взаимоотношениями, которые установились в нашей благословенной стране в момент возникновения у нас капитализма и в процессе его развития. Страна с самой дикой смесью крепостнически-помещичьих отношений с нарождающимися ростовщически-капиталистическими, Россия в весьма короткий срок развилась в страну промышленного капитализма с сравнительно большим пролетариатом быстро организовавшимся в класс. Это совершенно исключительное сочетание сохранилось до революции 1905 г. и оно же обусловило в значительной мере, если не преимущественно, идейное лицо российской интеллигенции капиталистической эпохи. Оно формировалось при постоянной боязни быстро усиливающегося рабочего класса, — отсюда неизменное и почти непрерывное ее стремление вправо. Идеологически это выразилось в развитии от марксизма — откуда начали свой танец идеологи буржуазии, — к самому отчаянному мистицизму, чаще всего граничащему с мракобесием и поповщиной. Когда гремели раскаты грома революции, когда в неизбежном стремлении ее вперед она сокрушала весь старый мир, когда в безумном героическом порыве революция победоносно расширяла свои пределы, вся эта интеллигенция была идейно обезврежена самим фактом революции — в огне и буре революции они видели лишь себя под ударами, мир суживался до пределов личности, — мир и законы управляющие им, для них не существовали, он был оглушен и ослеплен, он был духовно обезоружен.
Но вот сегодня наступило затишье, революция развивается крайне медленно и трудно, с перебоями и маневрами, с отступлениями и отклонениями — и российский интеллигент ожил. Он уже тянется за модным философским мировоззрением, он готовится к ревизии.
Старые испытанные «ревизионисты» уже выступают с указаниями и первыми попытками пересмотров. Вспомните сборник статей «Закат Европы», где выступили «плечом к плечу» не столь солидные, но достаточно нашумевшие в дни оные (то было давно, давно!) Н. Бердяев и С. Франк; за ними Изгоев и Виппер и другие.
Входит в моду, наконец, Л. Карсавин. У него две категории поклонников: богомольные старухи, которые вероятно не без охоты слушают его ученые проповеди и читают его душеспасительные брошюры, и усердные интеллигенты, которым стало скучно без «пересмотров» и жаждут учинить расправу над каким либо своим «предрассудком» и бичевать себя за какую-либо свою ошибку.
И те и другие настойчиво за последнее время выдвигают его как философа и как теоретика истории.
Как философ, Карсавин нас. по правде сказать, очень мало интересует. Мы постараемся познакомиться с его исторической теорией, которая является ничем иным, как осколком его теологии, но которая облечена в «научные» формы и поэтому может ввести кое-кого в заблуждение.
Всякая историческая теория должна прежде всего дать нам возможность открыть тот механизм, который управляет ходом развития общества и с этой целью он должен безусловно ответить на целый ряд спорных вопросов: есть ли вообще закономерность в общественном развитии? Подчиняется ли оно каким необходимостям, и если да, то каким? Есть ли причинная связь (зависимость) между явлениями, какова роль личности в истории, свободна или нет человеческая воля? Таковы спорные вопросы теории истории, в разных видах и в разной связи обсуждаемые в науке издавна.
Этот круг вопросов и рассматривает Л. Карсавин.
«Предметом истории, — говорит он, — является человечество в его социальном (т. е. общественном, политическом, материально- и духовно культурном) развитии», «развитие же представляет собой непрерывный процесс изменений», непрерывный и единый. Из единства субъекта развития вытекает и единство его социальной деятельности. Но единая социальная деятельность обнаруживается, проявляется дуалистично: как деятельность «материальная» и «психическая». Карсавин думает, что единство материальной деятельности с психической «можно усмотреть только в психическом моменте (курсив мой. — В. В.), так как всякая социальная деятельность прежде всего душевна, руководствуемая не материей, а потребностями, желаниями и т. д., т. е. фактами порядка психического» (стр. 12).
Итак «социальная деятельность есть социально-психическая деятельность», а история есть ничто иное, как «психически-социальное развитие человечества».
Остановимся немного на этом, разберемся в этой куче самого невысокого качества путаницы. Попытаемся ориентироваться в вопросах, так богобоязненно безбожно запутанных «весьма — даровитым ученым».
Что значит «социальное развитие человечества непрерывно»? Это значит, что история представляет собою эволюционный процесс, то есть что в ней нет места. никаким скачкам и диалектическим «перерывам».
Но ведь утверждать, этого еще мало, нужно тогда доказать, что в прошлом человечества таких прерывов не имеется. А этого при всем желании Л. Карсавин сделать не может. При усиленном напряжении быть может еще можно было бы признать некоторую непрерывность объекта «научного» изучения Л. Карсавина — средневековой схоластики, но при каком угодно напряжении воображения истории человечества никак не превратить в историю чернокнижников и схоластиков.
Жизнь и история творилась за стенами монастырей и церквей и эта жизнь не отличалась особой непрерывностью.
Карсавин пытается рассматривать исторические явления с точки зрения развития. Но что значит рассматривать вопрос с точки зрения развития? Это значит, как говорит Ф. Энгельс, рассматривать его с точки зрения его возникновения и исчезновения. Но если «возникновение» и «исчезновение» не скачки, не перерывы, то само собой вытекает то представление, которое Г. В. Плеханов считает типичным для всех сторонников «непрерывного» развития: «когда они говорят о возникновении какого нибудь явления, или общественного учреждения, они представляют дело так, как будто это явление или учреждение было когда-то очень маленьким, совсем незаметным, а потом постепенно подрастало»; то же об уничтожении. Такое понимание явлений буквально ничего не объясняет. Вы спросите, как и откуда появился капитализм — такой метафизик вам ответит: капитализм был всегда, только он был так мал, что вы его не замечали, а потом вырос и охватил весь мир. Сводить все развитие к росту — это значит ничего не объяснять и лишь ограничиться пошлыми религиозно-схоластическими посылками на некую неизвестную силу.
Если такая точка зрения до Гегеля имела некоторый резон, то после великого немецкого философа — она яркий признак невежества, либо мошенничества, сознательного или бессознательного — все равно.
И в природе и в обществе развитие заключает в себе моменты скачков, как и моменты эволюции. Весь путь человечества представляет собой весьма капризный ряд узлов и перерывов (скачков) вперемежку с эпохами «непрерывного» развития. Задача истории и заключается в первую очередь уразуметь и попять те законы, которые управляют этими сочетаниями эволюции и скачков.
Есть ли в этом чередовании какая-нибудь закономерность? Несомненно есть: «Изменения бытия, — говорит Гегель, — состоят не только в том, что одно количество переходит в другое количество, по также и в том, что количество переходит в качество и наоборот; каждый из переходов этого последнего рода составляет, перерыв постепенности»[13], (непрерывности — как угодно выражаться А. Карсавину). Это сказано метко и прямо для господина Карсавина.
Но карсавинское понимание непрерывного может быть истолковано и иначе — как непрерывность во времени, как беспрерывность. Вот что он говорит: «Развитие же.., представляет собой непрерывный процесс изменений, в котором для нас нечто обладает полною актуальностью как настоящее, нечто утратило ее перейдя в прошлое, нечто еще не наступило». В таком случае это иначе квалифицировать, чем шарлатанство, нельзя. Представление о «скачках», о перерывах в постепенности отнюдь не есть представление о перерывах во времени. В истории еще ни разу не случалось, и никогда не случится, чтобы человечество оказалось без настоящего, прошедшего и будущего, т. е. вне времени. Больше того, скачки в обществе — не геологические катастрофы, после которых в новом обществе не оставалось бы ничего от старого. И до Великой французской революции и после нее во Франции жили люди, у которых была масса общих черт, и однако же Великая французская революция — несомненно скачок, и Франция после Революции качественно иная, чем Франция до нее. Вслед за Великим «перерывом» когда имущественные отношения Франции радикально были изменены — из феодально-дворянских в капиталистические — предстояло длительное, «непрерывное» развитие на новых капиталистических основах, пока не накопятся в его недрах новые противоречия, из столкновения которых родится новый строй, прервав эволюционный процесс скачком. Такое сочетание эволюции и скачков и есть единственно возможное научное понимание социального развития.
Социальное развитие — единый процесс: «различные формы социальной деятельности — экономическая, политическая, философская, религиозная и т. д., будучи и оставаясь в некотором отношении различными, должны в то же самое время, быть одной деятельностью». «Социально-деятельное человечество — вполне реальное единство, проявляющееся в деятельности всякого исторического индивидуума в том числе индивидуумов коллективных. как народ, семья и т. п.»
Несомненно Карсавин смотрит мир, как на единство. Но какое? И мы смотрим на мир, как на единство, и для нас, материалистов, мир есть единое целое, но «действительное единство мира состоит, в его материальности. — как говорит Энгельс, — а это последнее доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным к трудным развитием философии естествознания». О таком ли единстве говорит Карсавин? Послушайте его: «чтобы могли существовать развитие и наука о нем, субъект развития (т. е. социально деятельное человечество. — В. В.) должен быть всевременным и всепространственным единством» (курсив его. — В. В.). В другом месте он, говоря о христианской религиозно-философской мысли и ее понимании исторического развития, говорит, что «оно — христианство, понимает единство человечества, которое все должно быть причастным идеалу, во всевременном и всепространственном бытии».
Эти две цитаты не оставляют никакого сомнения в том, что Карсавин видит единство мира... в боге. Для него история есть ни что иное, как маленький осколок богоявления, частный случай общего процесса «теофании» — как он выражается в брошюре «Saligia». Этот бог и есть «всепространственное и всевременное единство» ибо, как он говорит в названной брошюре, «нет в боге изменения, нет прошлого и будущего, а одно настоящее (всевременность! — В. В.), как нет в нем и пространственной разъединенности» (всепространственность! — В. В.).
Недаром Карсавин, в начале своего введения настойчиво утверждает, что «идея развития несомненно связана с определенной метафизикой» и что невозможна теория истории без метафизики.
Такое глубокое разочарование в силе разума, в силе науки для современной буржуазии в весьма симптоматичный и показательный факт. Он проистекает из глубоко вкоренившегося недоверия, — подсознательного, неосознанного, — в прочность того уклада, который освящался наукой буржуазии, который создаватся при весьма интенсивной поддержке и помощи науки.
Европейская война, российская и ряд других революций, вулканически неспокойное состояние всего буржуазного мира — от всего этого наука не избавила мелкого буржуа, интеллигента, попа, капиталиста. А ведь это — их насущная потребность! Мудрено ли, что теперь буржуазия взоры свои вновь отвернула от науки, вознесла руки «к голубым небесам»?.
Наука по самому существу своему антирелигиозна, она все XIX столетий {...}[14] занималась изгнанием бога из своих пределов и каждый ее успех, каждый новый закон, открытый ею, лишь усиливали материализм и подкрепляли взгляд на мир как на единство в материальности. Карсавин это прекрасно понимает, он хорошо знает какого непримиримого врага он имеет в лице науки, и он беспощадно ругает ее, бросает ей вызов (Saligia), топчет ее достижения («О свободе» — Мысль № 1)...
После того как Карсавин ввел в свою концепцию теории истории бога со всеми его бесконечными свойствами и качествами (у его бога нет только одного качества — реальности, ибо доказать его действительное существование, это значит доказать, что он является причиной хотя бы какого-либо явления. Карсавпнский бог, как и все остальные, до него существовавшие, не причастны ни к одному известному нам явлению нашего весьма несовершенного, но реально существующего мира, наоборот наука только тогда начала головокружительные свои успехи, когда изгнала всякого бога из пределов своих), после этого с ним говорить и спорить становится совершенно безнадежным делом, ибо там, где все делается по «предуказаниям и предначертаниям» там человеческому разуму делать нечего. Карсавин этого и не отрицает: «конечно не постичь нам нашим жалким умишком превышающего всяческий ум. И лучше всего было бы молчать или песнословить от преизбыточествующего сердца» (Saligia). Замечательное занятие!
Что же остается делать идеологу буржуазии в дни революции, которая безжалостно разбивает цепи эксплуатации, которая отняла у нее инициативу и право распоряжаться народным богатством, которая лишила ее самого сильного оружия — государственной власти. «Молится от преизбыточествующего сердца»... Пусть молится, а мы вернемся к его теории истории. Мы уже теперь будем весьма коротки, ибо главная наша задача по существу разрешена — нам кажется мы доказали с несомненностью, что его теория истории — это богословие, изложенное более или менее туманно, более или менее прилично. Остановимся несколько на тех выводах, которые делает Карсавин из единства социальной деятельности. Если и материальное (экономика) и духовное (философия, религия) являются формами, аспектами и проявлениями одной деятельности, то совершенно естественно ставить вопрос о том что же представляет собою сама социальная деятельность и какая из этих двух сторон ее причиняет и руководит другой. Карсавин отвечает: «единство так называемой материальной деятельности с психической можно усмотреть только в психическом моменте, так как всякая социальная деятельность прежде всего душевна, руководствуемая не матерней, а потребностями, желаниями и т. д., т. е. фактами порядка психического». «Итак, — выводит победоносно наш глубокомысленный профессор, — социальная деятельность есть социально-психическая деятельность, и истории по праву принадлежит оспариваемое у нее теперь некоторыми место в ряду «наук о духе»...
Рано запели заупокойное над историей, рано ее зачислили в помощницы богословия. Сказать, что история есть «психически-социальное развитие человечества» — это еще не значит сделать ее таковой. На самом деле, на чем основано утверждение Карсавина, будто «социальная деятельность есть социально-психическая деятельность»?
На том, что всякой социальной деятельностью руководят «потребности, желания, т. е. факты психического порядка». Что потребности и желания — «факты психического порядка» — спорить не будем, но разве сами потребности и желания так-таки и нисходят с небес в готовом виде? И разве сами эти потребности не возникли в человеке чем-то причиненные? Какие потребности вызывают «социальную» деятельность? Голод, холод — у первобытных людей; с течением времени к числу этих весьма примитивных потребностей прибавляется целый ряд других («жажда истины», как указывает Карсавин), но и в самых высоко культурных обществах основная потребность, вызывающая социальную жизнь — потребность в средствах сохранения жизни. А потребность в средствах сохранения жизни, — хлеб, одежда, топливо и т. д. из-за которого г. Карсавин, будучи на службе у хозяина капиталиста, сознательно или бессознательно приспосабливал науку к интересам хозяйского кошелька, а в дни «большевистского варварства» — в тоске по хозяевам и работая над их возвращением — силится отравить сознание народных масс юродивыми религиозными проповедями, эти потребности вызываются уже совершенно определенно «материей». Но не только голод «а и жажда истины» в конце-концов, суть потребность, достаточно презренного происхождения.
Однако господин Карсавин тут незаметно подменил одно явление другим: речь шла о законах единой социальной деятельности, а он перевел разговор на частный вопрос о влиянии психического момента на социальную деятельность; ставя его в центре социальной деятельности он лишь закрывает перед собой возможность понимать историческое развитие.
Всегда ли человечество жило в городах с сорокоэтажными домами, подземными и висячими железными дорогами, аэропланами, радиотелеграфами?
Нет не всегда.
Было время, когда люди жили в деревнях крепостными, а группы разбойников, называющихся рыцарями и дворянами, господствовали и грабили крестьян. В более ранние эпохи были рабы и рабовладельцы. Но мы знаем и такое время, когда люди жили еще первобытными стадами, весь инвентарь которых ограничивался палкой с разноформенными каменными наконечниками.
Эти формы сменяли одна другую, из менее сложной социальная деятельность становилась все сложнее и сложнее. Какими же законами управлялось это «усложнение» общественной жизни? Какими внутренними движущими силами определялось развитие «непрерывно развивающегося социально — действующего человечества» из состояния первобытного в состояние культурное? Как от первобытного охотника человек дошел до философствующего (весьма плохо и реакционно, но все таки философствующего) Карсавина, который ни разу вероятно не пытался охотиться на волков по образцу своих первобытных сородичей? Вот вопрос, над которым должен работать историк.
Но мы видели уже, что карсавинское понимание истории прямехонько приводит его под весьма объемистую сень поповской ризы. Из того же понимания он выводит свой «исторический метод». Он заключается в том, что Карсавин «сближает» исторический процесс с «душевным развитием человека». И это становится возможным потому, что исторический процесс им определен как «психический и непрерывный». Душевная жизнь непрерывно видоизменяющийся поток, который «безусловно свободен в смысле отсутствия какой бы то ни было внешней необходимости». «Ни о какой причинной связи внутри этого душевного процесса говорить нельзя, так как причинное взаимоотношение предполагает разъединенность, а в едином непрерывном процессе.... есть только вечные переливы».
Конечно, если этот «поток нашей душевной жизни» есть ни что иное, как «теофания или богоявление», то говорить о какой-либо необходимости не приходится: там где поп с кадилом, там науке нечего делать; там, где елейные «переливы», там причинной зависимости не может быть места.
Но это и единственное у Карсавина оружие, посредством которого он хочет преодолеть причинное объяснение: «только путем восхождения на высшую точку зрения, усматривающую единство, причиняющего с объектом причинения и позволяющую видеть в причинно-связуемых процессах разные формы основного высшего процесса развития, мы все более преодолеваем объяснение причинное». Итак, для того, чтобы преодолеть причинное объяснение явлений социальной жизни, надо стать на точку зрения богословия. Нельзя признавать причинную зависимость между явлениями, как в социальной жизни, так и в природе, и не прийти к материализму; с другой стороны прав Карсавин, когда из этого весьма опасного для идеализма противоречия указывает «выход», приплетая бога с его бесчисленными свойствами, ибо там, где процесс социального развития есть процессе «развертывания абсолютного», т. е. говоря проще там, где история есть проявление в человеческих действиях божьего каприза (предуказаний, предначертаний и т. д.), там причинностями и не пахнет, а следовательно имеется полная гарантия от тлетворного влияния и побед материализма (стр. 18).
Но вот один пример того, как Карсавин-историк страдает от уз наложенных на него Карсавиным-богословом. Естественно возникает вопрос: хорошо, всеединство, всепространственность и всякую иную божественную пошлость временно принимаем за истину, но отложим их в сторону, а вы объясните нам такой совершенно конкретный факт истории, что религия скажем феодальной эпохи не только отлична от религии капиталистической, но и имеет «глубокое сродство» с другими сторонами «социальной деятельности» средневекового человека.
«Но, дело тут не в том, что один ряд причиняет другой... а в том. что оба они (ряда) в некотором отношении составляют единство или укоренены в единстве». Как вам нравится этот ответ Карсавина? Вы спрашиваете у него: отчего два явления одной эпохи имеют одни и те же специфические, свойственные одной этой эпохе черты; он вам отвечает: оттого, что их обоих создал бог или — что одно и то же потому что они оба имеют корни (укоренены) в одном и том же единстве. .
Замечательно остроумная теория — без всякой головной боли разрешает все сложнейшие вопросы истории, над которыми думает так длительно наука. Но если, не угомонившись, вы продолжаете ваш вопрос: а почему укорененность в единстве — сиречь в боге — объясняет факт приведенный вами, — он отвечает: слова «почему» и «для чего» для бога не существуют (Saligia, стр. 11)..
От всего этого на сотни верст несет самым глухим средневековьем.
И тут больше, ярче чем где бы то ни было сказывается тупик, то безнадежно-безвыходное положение, в котором очутилась буржуазия и ее наука. Ведь, на самом деле, если идеалист, скажем кантианец, признает причинную зависимость, то ему никак нельзя разделаться с назойливыми вопросами так, как это делает Карсавин — ссылкою на промысел божий. Ему уже тогда придется иметь дело с наукой, которая за последние десятилетий больше чем когда, бы то ни было накопила материал, доказывающий прямую и непосредственную причинную зависимость духа от презренной материи.
Но этот материалистический вывод науки приемлем лишь для класса, который знает, что все общественное развитие, все законы и необходимость, коими управляется мир, работают в его пользу. Такова была точка зрения на мир буржуазии в XVIII веке, на заре своего развития, такова точка зрения пролетариата сегодня. Но не таков взгляд буржуазии сегодня, когда она, если не знает, то чувствует, ощущает свою гибель. Всякое массово-общественное явление ей кажется мистического происхождения, необъяснимым и не подверженным обыкновенным законам причинности, ниспосланным некоей неизвестной силой, а потому неотвратимой и предуказанной. Отсюда и такой пышный расцвет мистицизма, отсюда такое чрезмерное богомольное настроение у его идеолога.
Посмотрите с каким безнадежно тупым отчаянием Карсавин говорит о возможности объяснения причин только что закончившейся всемирной войны: «Если будущие историки будут держаться оспариваемых нами взглядов, их несомненно приведет в отчаяние безнадежность вопроса о причинах только что пережитой нами "Великой Европейской войны"». Кого-кого, а идеологов рабочего класса не только не приведет в отчаяние этот факт, но он уже дал ,в их руки лишний козырь, лишнее доказательство правильности их метода исторического исследования, который дал им не только возможность объяснить прошлое, но и предвидеть задолго до мировой войны — неизбежность ее возникновения.
Из мистического учения Карсавина естественно вытекает и телеологичность истории: если история представляет собою постепенное развертывание абсолютного или бога, то понятна данность будущего, целокупность исторического развития.
Раз имеется бог — имеется и целесообразность его деяний и данность будущего. Карсавин в другой статье (Мысль № 1) убеждает, что «будущее» некоторым образом уже дано, что даже возможно «с полностью и подлинностью видеть и слышать то, что должен человек будет делать, говорить, думать в любой момент будущего». Этот модифицированный спиритуализм, представляющий собой наипоследовательнейшее додумывание до конца мысли о целостности исторического развития, лучше всего опровергает телеологизм.
Из того же его богословского взгляда на мир вытекает его учение о методах исторического изучения. «Понимание развития для социально-психического возможно лишь путем сопереживания или вживания в них, вчувствования». Если читатель не забыл, Карсавин считает крайне схожими процессами развитие человеческой души и социальное развитие человечества, — в обоих процессах одинаково развертывается абсолютное, — отсюда и общий метод понимания этих двух процессов. Историк должен не только описывать процесс развития, но и объяснить его, понимая его необходимость: «Это достигается не путем причинного объяснения, а особого рода (!) вживанием историка в процесс, сопереживанием процесса, подобным сопереживанием чужой душевной жизни». Это означает — отказ от всякой науки, от всякой попытки понять историческое развитие, это типичный образец поповского мракобесия, проповедоваемого ученым.
Когда изучаешь процесс возникновения рабоства, ты не должен ставить вопрос почему оно возникло? А должен прибегнуть к спиритуалистическим сеансам (вы думаете я шучу? Прочтите его статью «О свободе» — Мысль № 1 и вы согласитесь со мной).
Недалек тот день, когда вся буржуазная интеллигенция начнет вращать тарелки, вызывать духов, ясно видеть и гадать на кофейной гуще, называя это то историей, то философией, то историософией — вольному воля.
Пролетариат продолжит свою борьбу с эксплуатацией человека человеком, предоставив «песнопения» буржуазии и ее идеологам.
Верит он сам или не верит тому, что он говорит — не важно, но что он говорит, несомненно вполне соответствует интересам того класса, который вчера еще был господствующим классом в нашей стране.
Еще накануне революции Г. В. Плеханов утверждал, что «с точки зрения общественного порядка (буржуазного), существование "исторического взгляда" у идеологов высших классов весьма нецелесообразно. Общественный порядок будет гораздо лучше обеспечен, если идеологи эти откажутся от него и заключат нелицемерный мир с "положительной религией" с целью держать "массы в послушании"». Теперь, после таких «неслыханных и невиданных» непослушаний масс, буржуазия приходит к тому, что предвидел Плеханов, однако революционную жизнь религиозной болтовне хотя бы и не лицемерной — не обуздать. Сегодня рассуждения вроде того, что и «добро и зло, наслаждения и страдания даны богом» (Saligia) уже никого не смутят и вызовут лишь снисходительную улыбку у любого рабочего; призывы поповские терпеливо сносить цепи рабства лишь еще более разовьют революционный энтузиазм, еще более укрепят волю к победе над капитализмом.
Пришла пора умереть религии: наука сорвала с нее таинственный покров, рабочий класс сразил тот общественный порядок, который естественно оживлял ее в своих непосредственных материальных интересах.
P. S. Статья уже была набрана, когда мы получили последний «труд» господина Карсавина «Noctes Petrolitanae» (Пбг. 1922 г.) Крикливость, претенциозность, манерность, «высоко даровитого», богослова[15], в этой книжке развернулись вовсю. «Метафизика любви» проповедуемая им, предназначена исключительно для «просвещенных (только просвещенных и действительно просвещенных) читателей» (курсивы мои. — В. В.) Этим и оправдываем мы наше мнение о бесполезности разговоров по существу с Карсавиным на эту тему: ведь тот «просвещенный читатель» — читай буржуазный интеллигент — который соберется духом, преодолеет смертельную скуку и прочтет эту... «философию» (воздержимся от напрашивающихся сами собой резких эпитетов) этот буржуазный интеллигент верит Карсавину понимает его не потому, что он его хочет понимать, или он ему доверяет, а потому, что потрясения последних лет, крушения его верований, идеалов собственности и надежд, крушения, причины которых он не понимает, не видит, и которые обрушиваются на него, как наказания откуда то и кем то ниспосланные, — этот интеллигент в процессе жесточайших поражений сегодня настроен мистически.
Он верит во что-то вне земли находящееся, в некоего бога властвующего над всем, управляющего всем совершающимся в мире, он ищет «перста божьего» во всем том, что привело его к поражению; и когда Л. Карсавин приходит к нему и начинает доказывать, что все явления в мире суть «богоявления — теофания», что наука — чепуха, а человеческий разум — одна бесполезная глупость, что он не должен верить ни науке, ни разуму, а должен верить только богу — этот интеллигент покорно слушает (или завтра будет слушать) проповеди новых богословов и апостолов, днем спекулирует и лжет, а вечером читает их маниловские медоточивые писания вместо гашиша или опиума.
Этого интеллигента могила исправит.
Но наш читатель — не этот интеллигент.
Вот почему мы не пытаемся спорить с ним и с его новыми евангелиями. Тысяча нумерованных экземпляров «Noctes Petropolitanae» к рабочим не попадут, а если и попадут, то рабочий их не прочтет. Вот почему мы не будем реферировать эту книжку, на основании которой я мог бы бесчисленными цитатами доказать, что слово «мракобес» по адресу Карсавина совершенно справедливое слово, не преувеличено. Стать в истории попом, а в поповском ремесле — схоластиком, — нужно же быть действительным мракобесом!
В. Невский.— Политический гороскоп ученого академика
В. Невский
В прошлом году вышла объемистая книга В. М. Бехтерева, заслуженного профессора, академика, Президента Психо-Неврологического Института («Коллективная рефлексология»), который (не институт, а почтенный академик) на четырехстах с лишком страницах в популярной форме ублажает читателя всякого рода рассказами, почерпнутыми из различных отраслей знания.
Исходя из той давно уже доказанной серьезными учеными мысли, «что мир управляется одними и теми же основными законами, общими для всех вообще явлений — как неорганических, так и органических и надорганических или социальных», проф. Бехтерев заявляет, что существует или, по крайней мере, должна существовать особая наука — коллективная рефлексология. Задачи этой науки состоят «в изучении механизма образования коллектива, с одной стороны, и с другой — в изучении способов и проявления коллективных рефлексов, образующих в общей совокупности коллективную деятельность, по сравнению с индивидуальными рефлексами пли индивидуальной деятельностью» (стр. 33).
Различие между этой новой наукой и социологией заключается в том, что «социология имеет дело с социальными фактами и явлениями и их взаимодействием, объясняя и то, и другое с рефлексологической или какой-либо иной точки зрения. Коллективная рефлексология имеет дело с механизмом обобщения или социализации индивидуальных рефлексологических явлений, объясняя, как этим путем образуются коллективные рефлексы и подготовляется то или иное общественное явление, и вместе с тем выясняет, как проявляется поведение общественных групп».
Коллективная рефлексология однако и не психология, как по предмету своего изучения, так и по методу, ибо она, в противовес психологии, держится строго объективного метода, общего и для всего естествознания (см., напр., стр. 12).
Задавшись целью, как выражается проф. Бехтерев в другом месте (стр. 32), при помощи своей коллективной рефлексологии объяснить «способ или механизм возникновения коллективов», что же дает почтенный академик нового в области изучения общественных явлений? Объясняет ли он, действительно, «способ или механизм возникновения коллективов», дает ли его наука твердую почву и руководящую нить в руки исследователя?
Ведь гордое заявление, что в руках профессора строго объективный метод, что на ошибочном пути стояли доселе почти все социологи, к каким бы школам они не принадлежали (напр. на стр. 34 пр. Бехтерев сочувственно цитирует проф. Кареева, отвергающего «экономический материализм» Маркса), ведь это гордое заявление обязывает дать что-то большое и новое.
Действительно, вторая часть книги посвящена изложению законов, которым, по мнению проф. Бехтерева, подчиняются общественные явления.
Этих законов двадцать три. Это: 1) Закон сохранения энергии, 2) закон пропорционального соотношения скорости движения с движущей силой, 3) закон тяготения, 4) — отталкивания, 5) — противодействия, равного действию, 6) — подобия, 7) — периодичности или ритма, 8) — инерции, 9) — непрерывного действия или изменчивости, 10) — рассеивания энергии или энтропии, 11) — относительности, 12) — эволюции, 13) — дифференцирования, 11) — воспроизведения, 15) — избирательного обобщения или синтеза, 16) — исторической последовательности, 17) — экономии, 18) — приспособления, 19) — отбора, 20) — взаимодействия, 21) — компенсации или замещения, 22) — зависимых отношений и 23) — индивидуальности. Не говоря уже о том, что ничего нового в этих законах нет, что и до проф. Бехтерева социологи находили такие законы, нужно сказать, что трудно как доискаться точной формулировки этих законов Бехтерева, так и того, что же объясняют эти законы.
В самом деле, если, напр., раскрыть «Основания Социологии» Гумпловича, то на стр. сотой и следующих русского перевода этой книги мы найдем штук десяток законов, подобных тем, которые открыл проф. Бехтерев. Здесь мы найдем и закон периодичности (стр. 102), и закон эволюции (стр. 101), и закон взаимодействия (стр. 104) и другие «законы», мало что объясняющие и едва ли имеющие право называться законами. Если обратиться к другому социологу, тоже любителю социологических законов, де-Греефу, то и у него мы найдем аналогичные бехтеревским «законы» ограниченности, однородности, связности, сотрудничества, равновесия и т. д., и т. п. О законах дифференциации, интеграции, дезинтеграции говорит Г. Спенсер; А. А. Богданов открыл, как известно, бесчисленное количество законов, изложенных этим «философом» в «Тектологии», в числе этих законов мы встречаем у Богданова и отбор, который фигурирует у только что перечисленных социологов.
Словом, выходит так, что законов, которым подчиняются общественные явления, хоть отбавляй, беда только в том, что объяснить ничего кроме общих фраз этими законами нельзя.
В самом деле, что требуется от закона, когда мы приписываем тому, что называем законом, характер настоящего закона? Думается не ошибемся, если скажем, что если то, что мы называем законом, устанавливает постоянную связь явлений в их сходстве и последовательности, при том так, что на основании этой связи мы можем предвидеть и будущие явления, хотя бы их общий ход, то это и есть действительно закон.
Не только, стало быть, постояннная связь явлений, выраженная числом, но притом такая связь, которая дает возможность предвидения, тогда мы стоим на твердой почве закона природы.
Спрашивается теперь, что дают в том отношении выдуманные проф. Бехтеревым законы? Ничего кроме туманных, а иногда и реакционных рассуждений.
Возьмем, например, закон «зависимых отношений». В чем его суть по проф. Бехтереву? «Нет ни одного общественного движения, которое в своей исторической жизни не являлось бы следствием предшествующих событий. Дело в том, что развитие общественной жизни всегда идет в определенной последовательности, как следствие вытекает из причины» (стр. 395). В этом и заключается закон зависимых отношений. Право, не стоило писать книжку в четыреста страниц, чтобы открыть великую истину, что на земле и в том числе в исторической жизни людей ничто без причины не совершается. Но, быть может, стоило открывать этот «закон» для того, чтобы иметь возможность объяснить запутанные и сложнейшие явления общественной жизни? Посмотрим же, как при помощи закона зависимых отношений объясняет проф. Бехтерев некоторые явления общественной жизни. Вот, напр., как по мнению проф. Бехтерева коллективная рефлексология объясняет октябрьскую революцию. Рассказав о падении монархии и образовании новой власти, проф. Бехтерев продолжает (стр. 405): «Но уже в первые же дни революции при сформировании временного правительства возник спор между представителями буржуазии и демократии, — спор, едва не окончившийся разрывом обеих групп.
Это показывает, что в дело единения всех групп населения в отношении состава временного правительства проникла червоточина.
Вследствие этого уже вскоре после начала февральской революции обнаружилось расхождение народных масс: буржуазии — с одной стороны и демократии с другой, которые не нашли для себя примирения и на московском Государственном Совещании.
Надо при этом иметь в виду, что народ, остававшийся в рабстве и в темноте в течение веков и лишенный самодеятельности в общественной жизни, никогда не знавший, что такое политика страны, с одной стороны, не мог возвыситься до государственных задач, а с другой стороны, за долгий период царского гнета создалась революционная интеллигенция, ведшая борьбу против патриотизма и националистических тенденций буржуазии. Дальнейшее, так наз., углубление революции собственно и явилось результатом борьбы одной силы с другой, причем само собой понятно, что взбаломученное море народных масс, обнищавших, истомленных и неразвитых, у которых всякий патриотизм в свое время был вытравлен полным отстранением от дел государственно-общественной жизни, устремилось за демагогами интернационалистического склада и потому должно было одержать верх...» (курсив наш. — В. Н.).
Установив при помощи «закона зависимых отношений» демагогию интернационалистического склада, проф. Бехтерев приходит затем к заключению, что революция, пришедшая к большевизму, превратилась «из общенациональной в партийную революцию пролетарских масс».
Впрочем все тот же пресловутый «закон зависимых отношений» дает надежду на избавление от торжествующего въезда Циммервальда в Россию, как выражается ученый профессор.
«Со временем, однако, и большевизм начинает разочаровывать массы, частью вследствие неосуществления обещанного мира, в особенности же в виду недостатка продовольствия, тяжелой промышленной экономической разрухи и неизбежно наступающего в стране голода» (стр. 406).
Таким образом проф. Бехтереву удалось создать прекрасную науку — коллективную рефлексологию, при помощи законов коей можно утешить всех противников советской власти надеждой на скорое и неизбежное ее падение.
Эта прекрасная надежда, согласно Бехтеревскому закону зависимых отношений, находит себе прочное основание и в вечных законах природы. Дело, видите ли, в том, что, как мы знаем, суть закона зависимых отношений состоит в том, что лошади кушают овес... то бишь в том, что на свете ничто не происходит без причины. А если это так (а это так, утверждает проф. Бехтерев и вот вам закон зависимых отношений), то ясно, что, напр., «состояние мировой торговли стоит в прямом отношении с метеорологическими условиями разных стран» (стр. 410), а так как эти последние находятся в зависимости от солнечных пятен, то и торговля зависит от пятен на солнце. Да что там торговля!
Даже революции и другие великие общественные явления находятся в зависимости от солнечных пятен. Много солнечных пятен — революция, война; меньше пятен на солнце — тишь на земле, и народы процветают в мире и благоденствии. В самом деле: годы максимального развития солнечных пятен, — 1870–71 франко-прусская война, коммуна; 1881–83 — Тунис-Аннам-Тонкин; 1894–96 Мадагаскар; 1905 — Марокко, революция в России; 1917 — мировая революция; годы минимумов солнечной деятельности 1867, 1878, 1889, 1900 и 1910 — это годы всемирных выставок в Париже и Генте. Чего же еще нужно? Как хорошо!
И проф. Бехтерев поистине с пафосом средневековых мудрецов и чернокнижников восклицает: «Если все это не случайности, если пульс человечества действительно бьется в унисон с биениями космического сердца нашей планетной системы, то можно попытаться на этом основании составить нечто в роде политического гороскопа грядущих лет» (стр. 410).
Нам думается, что сам проф. Бехтерев твердо верует, что это не случайности. Мы думаем даже больше, а именно, что в ученом кабинете почтенного академика, как у великого Фауста, уже имеется такой гороскоп.
Что это так, видно из следующей фразы нашего ученого.
«На вопрос, распространится ли бушующая у нас политическая буря еще дальше в ширь и вглубь, как уповают делатели перманентной революции, — или же пойдет на убыль, как ожидают другие, — астроном (чего там скромничать, при чем тут астроном, почтенный профессор, сознайтесь, что вы уже составили гороскоп? — В. Н.). Сможет ответить: "скорее второе, нежели первое. Максимум солнечной деятельности уже миновал, тепловое и электрическое сердце нашей планетной системы должно вскоре успокоиться"».
Вот простофили эти Деникины, Колчаки, Корниловы и прочие генералы! Ну что бы им не попросить своевременно проф. Бехтерева погадать на своем гороскопе. Мы серьезно советуем не только Ллойд-Джорджу и Пункаре, но и Милюкову вместе с Черновым и Мартовым погадать на Бехтеревском гороскопе. Авось и выйдет на счастье что-нибудь.
Теперь, когда мы познакомились с «объективным» Бехтеревским методом изучения общественных явлений при помощи политического гороскопа, нам станет очевидной и ценность прочих «законов» открытых проф. Бехтеревым. Их ведь двадцать три! Не менее ценен, например, «закон противодействия равному действию». Уже этот закон, наверное, обещает по Бехтеревскому гороскопу обязательное наступление антибольшевистской реакции.
В самом деле послушаем, как и чем объясняет проф. образование самостоятельных государств, как Польша, Латвия, Украина и пр.
«Еще в первое время революции, наступление 18-го июля дало резкий толчок развитию патриотического настроения, ибо и сама революция первоначально пошла под флагом патриотизма, но это была последняя патриотическая вспышка. Последовавшие затеям военные неудачи в корень подорвали всякую веру в успешное продолжение войны и дали благоприятную почву для интернационалистических учений. За этим началось безразличное отношение к войне, а с захватом власти большевиками оно достигло такой степени, что отторжение от России не только Польши, но и Литвы, Курляндии, а затем и всего Прибалтийского края, Украины, Финляндии и Кавказских областей проходило в русском обществе без всякой особой реакции, как будто бы дело шло о расчленении не живого общественного тела, а бездыханного трупа» (стр. 262–3). Положительно мы советуем всем государственным деятелям типа Милюкова купить если не политический гороскоп пр. Бехтерева, то «Коллективную рефлексологию». Многих ошибок можно избежать, изучая ее.
Стоит ли распространяться о том, что проф. Бехтерев открывает новые истины не только в области социологии, но и Политической экономии.
Так, на стр, 19 проф. Бехтерев приходит к заключению, что в торговом обороте большую роль играет соблазн и внушение, так что фактором подъема товарных цен является фактор «всецело психологического свойства». Вот чудаки эти коммунисты, которые доселе не обратились за помощью в своих финансовых затруднениях к политическому гороскопу проф. Бехтерева.
Вообще чудесная эта книга «коллективная рефлексология». Чего только в ней нет. Есть далее рассказы о том, как почтенный проф. занимался передачей мыслей на расстоянии.
Да, много занятного имеется в политическом гороскопе проф. Бехтерева, нет только одного... науки.
Вл. Сарабьянов.— Диалектика и формальная логика[16]
(По поводу книги т. Бухарина «Ист. М»)
Вл. Сарабьянов
Хотя я и рискую попасть в немилость к т. Бухарину, однако мое марксистское сердце и горячая кровь диалектика заставляют меня снова ринуться в атаку на теоретика, пользующегося громадным авторитетом среди нашей молодежи, а потому чрезвычайно опасного в своих ошибках.
Вторая «Азбука коммунизма», она же «Теория исторического материализма», или «Марксистская социология», грозит превратиться в учебник, который будут не только зачитывать до дыр, но, боюсь, и заучивать.
Кое-что уже крепко запало в головы свердловцев:
«Идеологии — это сгустки общественной психологии».
И именно потому, что исторический материализм не изложен систематически, что «единственная попытка — книжка Гортера — страдает крайним упрощенством и совсем не затрагивает ряда сложных проблем», что «лучшие работы, соприкасающиеся с теорией исторического материализма, рассеяны по журналам, или изложены конспективно и трудны для понимания («Основные вопросы марксизма» Плеханова), или устарели по форме и потому непонятны для теперешнего читателя (напр., «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»), или касаются только одной стороны вопроса (чисто философской), или представляют собой отдельные статьи в сборниках, которых нельзя достать»[17] — именно потому, что т. Бухарин преподносит свою «социологию» в качестве «популярного учебника», претендующего на систематичность изложения теории исторического материализма, — именно поэтому нельзя молчать о новом труде т. Бухарина.
Если бы он не претендовал на роль учебника и не находился уже в процессе «становления» таковым, — можно было бы принять эту книгу с большой благодарностью, ибо книга несомненно яркая, ценная интересными парадоксами и схемами, на тему, о которых стоит поспорить, а в результате сделать шаг вперед. Т. Бухарин, на мой взгляд, тем именно и ценен в качестве теоретика, что в нем ключом бьет кровь Неистового Роланда, что он ради теоретической схемы готов костьми лечь и что его буйный нрав ведет его сотоварищей вперед, хотя бы сам т. Бухарин делал шаг назад.
Главнейший недостаток т. Бухарина в его «Ист. М‑ме» заключается в том, что совершенно в духе г. Гортера он не продумал марксизма, как мировоззрения, как метода, что его мышление не диалектично, а материалистично в духе Бюхнера, перенесенного на почву общественности.
Т. Бухарин не диалектик, а самый доподлинный приверженец формальной логики, почему у него всякая истина обязательно и приводит к абсурду, ибо она логически проводится в бесконечность.
Как верный рыцарь ортодоксального марксизма, он клянется формулами марксизма, но тут же о них забывает.
Возьмем «Предисловие»:
«Автор выбрал тему об историческом материализме потому, что эта «основа основ» (! — Вл. С.) марксистской теории не имеет систематического изложения».
Мне, признаться сказать, было жутко читать эту фразу. Я привык думать, что наше поколение (к нему принадлежит и т. Бухарин) достаточно усвоило марксистское мировоззрение в боях с идеалистической эклектикой народников, с Богдановыми, Базаровыми, Луначарскими и прочими эмпирио-критиками, монистами, символистами…, в боях с Шулятиковыми, Фриче, чтобы перестать сбиваться на гортеровщину. Оказывается, и это поколение склонно сбиваться.
В 1908 г. вышла в русском переводе плохая книга — хотя и хороший справочник — Фр. Лютгенау «Естественная и социальная религия», в которой он писал, что «Маркс и Энгельс доказали ошибочность идеализма и основали диалектически-материалистическое мировоззрение, по которому мы теперь в экономических условиях видим фундамент как правовых, так и нравственных и религиозных представлений». Плеханов писал в ответ («Соврем. Мир» 1908 г. № 5):
«Разве же мировоззрение людей, — т. е. взгляд их на всю систему мира, — исчерпывается их взглядом на отношение "экономических условий" к правовым учреждениям и нравственным и религиозным представлениям? Другими словами: разве исторический материализм есть целое мировоззрение? Конечно, нет! Он — только одна часть мировоззрения. Какого же мировоззрения? Ну, понятно — какого: материалистического».
Но при чем здесь т. Бухарин? — спросит читатель. О, очень причем! В данном случае вся цитата бьет не по одному Лютгенау, но и по т. Бухарину. С каких это пор исторический материализм превратился в «основу основ» марксистской теории?
Не с того ли момента, как часть марксистов, решив не засорять своих мозгов всякого рода теориями познания, выкинула из учебных планов вопросы широкого мировоззрения? Или т. Бухарин кроме «основы основ» знает еще и «основу основы основ»? Но в таком случае нужно было бы это оговорить, чтобы молодой читатель, не читавший Маркса, Энгельса, Плеханова, не принял исторический материализм действительно за основу основ марксизма.
Или скажут, что придираться к словам не следовало бы? Но разрешите, товарищи, к т. Бухарину сугубо придираться, ибо он несомненно светило не второй величины.
«Ошибки людей сильного ума именно тем и бывают страшны, что они делаются мыслями множества других людей».
В этих словах Чернышевского — мое оправдание.
Сам т. Бухарин на мои утверждения может, конечно, сказать, что я плохо читал его книгу и просмотрел главу III, озаглавленную «Диалектический материализм». Но в том то и беда, что о людях судят не по словам их, а по делам.
Т. Бухарин «приложился к мощам», выполнил религиозный обряд, написав 35 стр. о диалектическом материализме, но духом последнего не проникся, на деле его не применил, а в результате… исторический материализм, как «основа основ».
Но и глава III о «диалектическом материализме» не может выдержать строгой критики, ибо в ней автор обнаруживает плохое знакомство с историей философии, как раз тот грех, в котором обвинял Плеханов наших доморощенных философов «живого опыта», и с которым так зло и метко боролся т. Ленин в своем труде «Эмпириокритицизм…»
Т. Бухарин на 35 страницах перелистал всех крупнейших философов, из которых и в процессе преодоления которых вырос марксизм, как теория материалистической диалектики. Но изложил не каждого правильно. На стр. 58 он пишет:
«По Канту объективный мир существует ("вещи в себе"), но он непознаваем и обладает нематериальной природой». Нет, т. Бухарин, Кант признавал, хотя и на свой лад, материальность вещей в себе, и когда Фихте попробовал привлечь Канта в лоно идеализма, Кант решительно отказался от подобной чести. И он не мог не отказаться, ибо признавал «вещь в себе» материальной, хотя, как правильно говорит Плеханов, «далеко не был чужд склонности признавать эти вещи чем-то нематериальным, т. е. недоступным нашим чувствам».
Не все мыслители последовательны, и в «учебнике»-то во всяком случае следовало бы сообщить читателю, что за штука непоследовательность, выделить эклектизм, дабы с ним не путали монизма, выявить Канта, как «ein Dreiviertelskopf» или же, если для учебника это сложно,… промолчать.
В той же III главе т. Бухарин пишет:
«Не трудно видеть, что наиболее последовательный вид идеализма есть солипсизм».
Не слишком ли сильно сказано?
Т. Бухарин мотивирует:
«В самом деле, из чего исходит, на что опирается идеализм? Почему он считает, что духовное начало есть первичное и основное? В конечном счете потому, что он полагает, будто непосредственно «мне» даны только мои ощущения».
Но, ведь, сам же т. Бухарин рассказывает о «субъективном» и «объективном» идеализме. Теперь напрашивается вопрос, является ли солипсизм «наиболее последовательным видом» всякого идеализма, или же только субъективного. У т. Бухарина идет разговор о солипсизме, как наиболее последовательном виде вообще идеализма (57 стр.), но в таком случае он снова обнаруживает незнакомство с историей философии.
Именно потому, что солипсизм в конечном счете должен признать существование «я» именно потому, что по солипсизму «непосредственно "мне" даны только мои ощущения», — именно поэтому объективный идеализм несравненно последовательнее субъективного с его крайней точкой — солипсизмом.
Объективный идеализм в лице Гегеля определенно говорит, что существует только разум в его различных «становлениях».
Это — последовательно.
Солипсизм же последователен только в одном отношении: в отрицании мира самого по себе, кроме «я».
Об этой непоследовательности солипсизма много хороших страниц написал Плеханов, и прав т. Ленин, когда он настойчиво рекомендует плехановские работы по философии в качестве обязательных учебников.
Жаль только, что новое поколение еще не начало всерьез изучать Плеханова, а старое — в некоторой части — уже позабыло его.
Энгельс говорил, что исторический материализм есть ничто иное, как диалектический материализм в приложении к истории общества.
Что это значит? И что отсюда следует?
Первым долгом, конечно, отсюда вытекает необходимость перенести, применить диалектику и материализм при изучении общества.
Но что означает материализм?
Да только то, что весь мир есть материя, обладающая различными свойствами, в том числе и духовными, что духа, изолированного от материи, не имеется, а материя без духовных свойств (без «души») существует.
Вот и вся мудрость материализма, которая, будучи доказана практически, а потому и теоретически, низвергает религии, застывшие догмы этики, эстетики, права и пр. и пр.
Материя и дух.
Как перенести эти категории на общество в его динамике и статике (условной)?
Подумал ли т. Бухарин над этим кардинальнейшим вопросом? Я склонен думать, что он не думал, ибо был по рукам и ногам связан предрассудками тех марксистов, которое любовно величают себя «экономическими материалистами», какового названия так усиленно чурался Плеханов хотя бы в полемике с Михайловским. Раскрываю 52 стр. бухаринской «социологии» и читаю:
«Духовная жизнь общества есть, выражаясь по-ученому, функция производительных сил. Какая функция, как в подробностях зависит духовная жизнь общества от производительных сил — об этом речь пойдет в будущем. Теперь мы должны лишь отметить, что при таком взгляде естественно общество будет представляться прежде всего не как "психический организм" не как совокупность всяческих мнений, в особенности из области "высокого и прекрасного", "возвышенного и чистого", а прежде всего как трудовая организация (Маркс выражался иногда: "производственный организм"). Это есть материалистическая точка зрения в области социологии. Материалистическая точка зрения, как мы знаем, вовсе не отрицает того, что "идеи" действуют. Маркс прямо писал про высшую ступень сознания, про научную теорию: "Всякая теория становится силой, если ею овладевают массы". Но материалисты не могут удовлетвориться простой ссылкой на то, что "люди так думали". Они спрашивают: почему люди в одном месте и в одно время "думали" так, а в другом "этак"? Почему вообще в "цивилизованном" обществе люди чрезвычайно много думают и надумали целые горы книг и прочего, а у дикарей этого нет? Объяснение мы находим в материальных условиях жизни общества».
Я не поленился переписать полстраницы из «социологии» т. Бухарина, потому что здесь мы находим «сгусток» бухаринской «материалистической» психики.
Но, ведь, и Бокль был материалистом, и те, кто до сего дня величают себя экономическими материалистами, тоже бесспорно материалисты, но… очень упрощенные. Так же упростил и т. Бухарин Маркс-Энгельсовский материализм, к тому же изрядно напутавши.
Духовная жизнь общества? Что она: функция ли одного независимого переменного, как выражаются математики, или нескольких? Если взять у т. Бухарина начало выписанной цитаты, то, как будто, таким независимым переменным является только категория производительных сил. Если обратиться к концу цитаты, то духовная жизнь общества оказывается функцией нескольких переменных т. е. «материальных условий жизни общества».
Если, наконец, предположить, что, по т. Бухарину, производительные силы и являются материальными условиями жизни общества, то мы от путаницы избавляемся, но за то попадаем в столь немарксистскую социологию, что и сам т. Бухарин от нее открестится и двумя и тремя перстами.
Противоречие налицо, и мне хотелось бы выяснить, как образовался подобный неудобоваримый сгусток идей в голове т. Бухарина.
Для этого я первым долгом раскрыл предисловие Маркса к «Критике некоторых положений политической экономии» и сравнил, как оно процитировано т. Бухариным.
Сравнивая (см. стр. 238 и 285 «Ист. М‑ма»), я нашел в чем дело.
Он начал с того, чем Маркс закончил. В этом и обнаружилось, что т. Бухарин не продумал и вообще не думал, что значит «материя» и «дух» в применении к обществу. Если Маркс говорит в предисловии о материальных производительных силах, то это отнюдь не значит, что в этом и заключается материализм целиком. Правда, созвучие слов увлекает, но все же нам, марксистам, не пригоже строить свое мировоззрение на зыбкой почве звуков.
Несколько выше цитируемого т. Бухариным у Маркса имеются превосходные строки, показывающие, что следует понимать под общественными «материей» и «духом». Мы читаем:
«Первый труд, который я предпринял для разрешения осаждавших меня сомнений, был критический пересмотр Гегелевской философии права; вступление к этому труду появилось в Deutsch franzosische Jahrbucher, издававшихся в 1844 г. в Париже. Мои исследования привели меня к заключению, что правовые отношения, наравне с формами государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, но скорее коренятся в материальных условиях существования, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII ст., называл «гражданским обществом»».
Тут и слова нет и быть не может о материальных производительных силах, ибо не в этом материализм.
Маркс отчетливо говорит о «гражданском обществе», о бытии, и противопоставляет ему сознание, отражающее это бытие («не могут быть поняты… из самих себя»). Для Маркса и базис и надстройка гражданского общества в лице общественных отношений суть материя, бытие, отражение же этих отношений (к природе и к людям) в человеческих головах есть дух, сознание. Именно поэтому формула Маркса гласит: «Не сознание людей определяет формы их бытия, но, напротив, общественное бытие определяет формы их сознания».
Материальные же производительные силы тут пока ни при чем.
Но, ведь, мы не только созерцаем, но и действуем.
Нас не может удовлетворить столь общая формулировка. Мы стремимся свой метод сделать универсальным оружием. Маркс все это понимал, а потому не ограничился определением понятий «общественное тело» и «общественная душа», но решил изучить строение этого тела.
Мы и читаем вслед за цитированными мною словами Маркса: «анатомию же этого общества нужно искать в политической экономии».
Задумался ли т. Бухарин над этим, все расшифровывающим, словом: «анатомия»?
Боюсь что нет.
Иначе, он сначала перенес бы «материю» с «духом» на общество, а затем принялся бы за изучение анатомии материи, т. е. «гражданского общества», определенные же формы общественного сознания не причислил бы к надстройкам.
Если т. Бухарин писал на стр. 259 о «"надстройках" и идеологии в том числе» (цитирую в другом падеже) имея в виду такие слова Маркса: «На различных формах общественности, на общественных условиях существования возвышается целая надстройка различных своеобразных чувств и иллюзий, взглядов и понятий»[18], — то, ведь, ясно, что Маркс различает надстройки от надстроек. В одном случае (предисловие к «Критике») он берет общество, как материальное целое, и изучая анатомию этой материи, определяет, что в ней базис (производственные отношения и соответствующие им материальные производительные силы) и что — надстройка (прочие общественные отношения), в другом же случае он берет общество, как материю, имеющую свойство мыслить, сознавать, познавать etc., и все эти «своеобразные чувства и иллюзии, взгляды и понятия» определяет, как надстройку (сознание) над отношениями людей к природе и друг к другу (бытие).
Это совсем не та эклектическая похлебка, которую нам преподносит т. Бухарин в виде базиса с надстройками, и «идеологией в том числе».
Когда мы читаем у т. Бухарина: «Материальное производство и его средства («материальные производительные силы») — вот что составляет основу существования человеческого общества», мы подписываемся под этим полностью. Но когда нас станут уверять, что в этом именно квинтэссенция нашего материализма, мы решительно отмежуемся от подобной точки зрения, как узкой, противоречащей марксизму, и снова разграничим вопросы «материи» и «духа», с одной стороны, и вопросы их «анатомии», с другой. Так обстоит дело у т. Бухарина с материализмом.
Что же касается диалектики, то и в этой плоскости он оказался лишь верующим: он и к диалектике лишь приложился, как к мощам, а между тем и ее нужно перенести на общество, применить к нему. Применить же ее можно лишь путем перенесения в плоскость общественных и бытия и сознания категорий: Субъект и Объект.
Мир движется и изменяется именно потому, что Субъект приходит в соприкосновение с Объектом, причем последний является в то же время и Субъектом в отношении первого.
Непрерывное столкновение этих сил приводит к изменению всех Субъектов и всех Объектов.
Если мы берем общество в целом, то ему, как Субъекту, противостоят в качестве Объектов и весь материальный мир минус общество, а также и другие общества.
Здесь налицо столкновение противоречащих друг другу сил, Субъекта и Объекта, в результате какового изменяются и те и другие, в какой степени — это пока не важно.
Т. Бухарин не осознал этого кардинальнейшего положения материалистической диалектики, хотя и написал немало страниц о последней.
На стр. 60 читаем: «мы видели еще при рассмотрении вопроса о детерминизме, что воля человека вовсе не свободна, что она определяется внешними условиями существования человека».
Нет, т. Бухарин, совсем не так! Пределы свободы человеческой воли определяются не только внешними условиями существования человека, но и самим человеком, и его собственной волей.
Плеханов, цитируя Фейербаха: «Думает не отвлеченное существо, а именно это действительное существо, это целое», — продолжает[19]: «это тело есть часть космоса. Если внешние предметы действуют на него именно так, а не иначе, то, — как с объективной, и с субъективной стороны, — это обусловливается природой целого».
Это — настоящая материалистическая диалектика, формула же т. Бухарина просто игнорирует субъект, как часть «природы целого» и превращает диалектический материализм в механический, открывая двери врагам материализма, давая им право обрушиваться на «фатализм» марксистов.
Я бы не стал «придираться» к указанному месту в бухаринском «Ист. М‑ме», так как подобные фразы мы, марксисты, употребляем на каждом шагу в целях упрощения изложения, и беды в этом не было бы никакой, если бы предварительно этот вопрос был выражен и популяризован марксистски, если бы читатель видел в словах «воля определяется внешними условиями» именно упрощенность изложения и был предупрежден, что под ними нужно понимать.
Но цитированная фраза как раз имеет место в ударной части книги т. Бухарина, где он противопоставляет идеалистическому взгляду на общество материалистическую точку зрения.
Тут же, страницей позже (61 стр.) т. Бухарин делает еще одну грубую ошибку в объяснении роста духовной культуры, проникнутую духом спекулятивной философии. Он противопоставляет духовную культуру дикарей таковой же в эпоху капитализма и спрашивает, почему сумма «идей» у современных народов так сильно выросла по сравнению с суммой «идей» дикарей: «Почему же этот дух смог вырасти? Что было условием его роста»?
И отвечает:
«Развитие материального производства, повышение власти человека над природой, повышение производительности человеческого труда. Только тогда не все время должно уходить на горемычную материальную работу, часть его освобождается у людей, что дает им возможность думать, размышлять, работать умственно, создавать «духовную культуру»».
Казалось бы, для нас, знакомых с Энгельсом, в этой фразе т. Бухарина не должно быть ничего ни нового, ни особенного, ни еретического.
Однако, если Энгельс и многие другие марксисты ссылались на возможность использовать свободное от материального производства время для «делания духовной культуры» только между прочим, т. Бухарин, это положение я бы выразился, обуниверсалил со свойственной ему легкостью и стремлением все универсалить.
Для нас является азбукой, что духовная культура создается в процессе овладевания человеком природы, в процессе борьбы человека с человеком, в действиях.
Мы знаем, что мозг человека потому и стал мозгом более высокого порядка, чем обезьяний, что человек, пользуясь орудиями труда и делая их, раздвигал поле своей деятельности и ставил свой мозг в условия все более сложной тренировки.
Мы знаем, что — возьмем в пример хотя бы искусство — духовная культура греков была культурой не только бездеятельных слоев населения, но и весьма деятельных (Фидий — ремесленник), что великие памятники культуры средних веков в виде всех этих храмов, художественных иконостасов и пр. были результатом действий трудового элемента общества, в процессе именно «горемычной материальной работы» год за годом, десятилетие за десятилетием и даже поколение за поколением (от отца мастера незаконченная работа переходила к сыну мастеру) создававшего материальные элементы духовной культуры.
Мы, наконец, знаем, что все эти машины с их винтиками и колесиками в значительной части «изобретались» в трудовом процессе «горемычными» рабочими.
Мы знаем еще и то, что наука особенно быстро стала развиваться с середины XIX в., когда была безапелляционно признана бесплодность словесных рассуждений, игры в силлогизмы, и естествознание решительно шагнуло в область опытного анализа, исследования, проверки.
Но что такое — работа с препаратами, колбочками, как ни самый доподлинный труд, процесс материального взаимодействия человека и природы, процесс, отнимающий время и порою изнуряющий материально!
Знание приобретается не в процессе размышления с приставленным ко лбу перстом, а в процессе действий.
Бергсон в «Творческой эволюции» писал:
«Животное, принужденное отыскивать себе пищу, развивало в себе активность и, вследствие этого, все более широкое и точное сознание».
Энгельс говорил о необходимости иметь свободное время для развития духовной культуры, имея в виду относительно поздний ее период, т. же Бухарин обернул это положение на духовную культуру в целом.
Вся беда его заключается именно в том, что он блестящий силлогист, но плохой диалектик, причем формальную логику он прикрывает плащом диалектической фразеологии. В результате: диалектика — святыня, силлогизм — оружие практики; к первой т. Бухарин благоговейно прикладывается, вторым — действует, опровергает, ниспровергает и т. п.
И этот силлогистический склад ума приводит т. Бухарина в область бесплодных арифметических выкладок, типичнейшей из которых несомненно является его теория о «равновесиях» общества.
Кому она нужна? Оружием чего, в защиту чего она будет служить?
Голая арифметика из отдела «пропорции».
А между тем диалектика касается вопроса развития или вымирания общества, изменения и превращения «материи» и «духа», «бытия» и «сознания», и об этом пишет сам т. Бухарин, рассказывая в своем учебнике о «количестве» и «качестве».
Но в чем рабочее значение знаменитой гегелевской формулы о переходе качества в количество и обратно?
Судя по книге т. Бухарина, можно смело констатировать факт, «приложения к мощам», а в дальнейшем — забвения.
А если бы т. Бухарин перенес «количественно-качественный» взгляд на историю общества, он не стал бы открывать Америку равновесий, а сказал бы, что если качество надстроек соответствует качеству базиса, то налицо равновесие общества, что такового нет, если под надстройками данного качества уже покоится фундамент иного качества, что развитие так же как и вымирание зависит именно от такового соответствия качеств и количеств.
Дальше он отметил бы, что количественное изменение качества надстроек изменяет (не превращает!) базис в пределах данного качества, что надстройки, в свою очередь, под влиянием базиса не только изменяются в пределах своего качества, но и превращаются в иное качество.
Эта — диалектическая, а не арифметическая — точка зрения вывела бы т. Бухарина из тупика функциональной зависимости.
Он не стал бы писать такие эклектические фразы (стр 263):
«…неправильно рассуждать и с точки зрения важности «факторов»: экономика, мол, важный «фактор», а, скажем, политика или наука фактор «неважный»… Вопрос нелеп: «оба важнее»».
Т. Бухарин безнадежно в плену у формальной логики.
И действительно, что важнее: курок или ствол?
А не припоминаются ли т. Бухарину труды эсеровских «философов» в роде Делевского, которые отрицали причинность, заменяя ее пресловутой функциональной зависимостью, в таком приблизительно духе: «Иван выстрелил в Петра. Петр умер. Почему он умер? В силу совокупного действия ряда причин и условий (твердо помню: «причин и условий». (Книги Делевского под руками не имею. — В. С.); Иван нажал курок, сжатый газ вытеснил пулю, тело человеческое обладает свойством пропускать через себя более твердые и т. п. тела, наличие у Петра сложного организма, не терпящего значительных нарушений связи его частей и т. д., и т. п. Вот почему умер Петр».
Что важнее? Оба важнее. А причинность где?
Или причинность — метафизика, схоластика; а не заняться ли нам простым описанием ради авенариусовской экономии мышления?
На стр. 265 до этого т. Бухарин и договаривается:
«Этих примеров достаточно, чтобы видеть основной смысл разграничения между областью материального производства и областью идеологического и всякого «надстроечного» труда: ибо соотношение между ними заключается в том, что идеологический труд, будучи производной величиной, в то же время является регулирующим началом. По отношению ко всей совокупности общественной жизни разница коренится в разнице функций».
Но, т. Бухарин, диалектика не разрешает вам безнаказанно пользоваться таблицей умножения, ибо диалектика хотя тоже логика, но логика движения, ибо если вы будете в движении, на практике помножать какое либо качество X на 2, 3, 4, 5, то вы можете быть уверенными, что в результате получите после 2х, Зх, 4х, уже не 5х, а новое качество (1) у, ибо, одним словом, в жизни дважды два не всегда четыре.
А раз так, то и вопрос о разнице функций поставлен не марксистски, не диалектично, так как нужно говорить не о разнице функций, а об их различии (это уже не арифметика, не формальная логика), различия же бывают и количественные и качественные.
Правда, страницей раньше т. Бухарин пишет, что «все дело заключается в различном характере функций».
Из текста стр. 264 можно вывести заключение, что т. Бухарин обмолвился словом «разница», по существу же говоря, имеет в виду «различие функций»: Каждая надстройка занимается своим делом. Но в таком случае изложение т. Бухарина приводит нас к немарксистскому выводу, что надстройки любовно уживаются друг с другом и с базисом, что противоречий между ними нет. В известной доле это так, но мир развивается диалектически, на место соответствия приходит несоответствие, на место связи разрыв. Встает вопрос: в случае несоответствия, разрыва, кто кого одолеет, базис или надстройка? Следовательно, должен быть поставлен вопрос о различии в количественном и качественном отношениях, чего т. Бухарин не сделал.
Это — уже качественная оценка, а не только количественная. Но я уже говорил, что отдельные фразы т. Бухарина часто не стоят ни в какой связи между собою, что у него нет мировоззрения, а есть разговоры о последнем. Особенно это дает себя знать в разговорах о диалектике и в бухаринском методе объяснения общественных явлений.
Насколько диалектика чужда т. Бухарину, видно из следующих замечательных его слов: «…при всех взаимодействиях, переплетающихся явлениях и т. д., остается неизменным одно: в каждый данный (! — В. С.) момент внутреннее строение общества определяется соотношением этого общества с внешней природой, т. е. состоянием общественных материальных производительных сил; изменение же формы определяется движением производительных сил».
Так убивает т. Бухарин теорию взаимодействия, водворяя на ее место «божественную установленную гармонию». И действительно, если внутреннее строение общества определяется техникой в каждый данный момент, то откуда может взяться несоответствие экономики технике?
С теорией взаимодействия можно бороться и бороться победоносно только вооружившись диалектикой с ее «качество-количеством». А в таком случае нужно забыть эклектический вздор о разницах функций, перестать игнорировать вопрос причинности и… «что важнее?»
Когда нас спрашивают, что важнее — базис или надстройки, мы не имеем никаких оснований утверждать, что вопрос этот вздорен, мы не имеем права отводить его ссылкой в духе т. Бухарина (стр. 53):
«…нигде никогда не бывает, чтобы дети были старше родителей. "Дух" появился позднее, поэтому ему приходится быть ребенком, а вовсе не родителем, в которого его производят не в меру ретивые почитатели всего "духовного"».
Упрощенный читатель опрощающему т. Бухарину может, ведь, возразить, что бывает «велика Федора да дура», «мал золотник, да дорог».
А я снова укажу т. Бухарину, что к «качеству-количеству» нужно было не прикладываться, а ими вооружиться.
Ведь вопрос о «возрасте» материи и духа, базиса и надстроек имеет чисто генетическое значение, но не разрешает другого вопроса надстройка уже родилась и стала действовать на базис; в каких пределах?
На стр. 266 т. Бухарин отвечает: «в общих рамках, данных соотношением между обществом и природой».
Почти верно, т. Бухарин! Идите дальше, но предварительно распроститесь с формальной логикой и протяните руку диалектике не в качестве салонного джентльмена, а бойца, каковым вы в действительности и являетесь.
Тогда вы ответите, что базис важнее надстройки и не только потому, что первый — папаша, а вторая — дочурка, но еще и потому, что надстройка изменяется качественно только под воздействием базиса, а базис превращается в новое качество независимо от надстройки; что надстройка действует на базис, изменяя только количество базисного качества, тогда как базис и изменяет надстройку количественно и превращает ее в новое качество.
При такой постановке вопроса мы высвобождаем себя из пут только количественных оценок, мы перестаем быть эволюционистами в духе «мало-по-малу» «постепенно», «незаметно», а становимся диалектиками, т. е. сторонниками синтезированного метода эволюционно-революционного. А в таком случае законы формальной логики для нас становятся обязательными только в узких рамках постепенной эволюции данного качества и теряют силу, когда эта постепенность оборвалась («скачок»).
Весь учебник т. Бухарина проникнут духом силлогизма.
Отсюда ряд грубейших ошибок. Отсюда и исторический материализм, как марксистская социология. И действительно, если все в мире развивается только в пределах данного раз навсегда качества, то почему бы и не появиться социологии, изучающей это качество в целом?
Почему бы не ставить на разрешение таких вопросов:
От чего зависит развитие общества или его гибель? В каком отношении друг к другу находятся хозяйство, право, наука, религия, нравственность и т. д.? Чем объясняется развитие перечисленных рядов общественных явлений? (см. Бухарина стр. 12).
Но вот, если качество через количественные изменения превращается в новое качество, то ответов будет столько, сколько общество пережило качеств, а потому и социология превращается в ряд социологий.
Но тогда и исторического материализма, как науки, быть не может, а появляются исторические материализмы? — спросит читатель.
Не так страшно, товарищи, и даже совсем не страшно.
Исторический материализм не занимается разрешением таких схоластических вопросов, как выискивание определенного соотношения между хозяйством, правом, наукой, и т. д., общего всем обществам всех времен и любых пространств.
Исторический материализм является тем же диалектическим материализмом в приложении к обществу, а потому его интересуют вопросы общие для всех времен и пространств только в пределах взаимоотношения Материи и Духа, Субъекта и Объекта и в пределах характера движения, т. е. Эволюции и Революции, Качества и Количества.
А все остальное — не обще, а частно: одни законы для классового общества (одно качество), другие — для коммунистического (другое качество); одни — для феодального, другие — для капиталистического и т. д.
Может быть т. Бухарина ввели в заблуждение социологические работы Маркса? Однако, эти работы, поскольку они напоминают социологические произведения, касаются общих законов только определенного общества, а не общества «вообще».
Даже «Коммунистический Манифест» является, если угодно, социологическим произведением, но говорит он о социологии классового общества. Да и т. Бухарин, не сознавая того, сбивается на таковую, посвящая 43 страницы, заключительную главу VIII, «классам и классовой борьбе». Вообще, вопрос о социологии, как особой науке, не маленький вопрос и уже во всяком случае дискуссионный.
А между тем т. Бухарин в своем «учебнике» отделывается от него двумя страничками и легковесной мотивировкой, даже не рассказав своим «ученикам» историю «социологии», как науки, и историю пресловутой «истории» (тоже наука?), с которой он оперирует всерьез, но будем надеяться не надолго.
Так нельзя писать учебники, а редакциям следовало бы критически относиться к трудам даже таких заслуженных теоретиков, как т. Бухарин, поскольку редакция имеет дело с учебником.
Слово не птица, вылетит не поймаешь.
Слова т. Бухарина вылетели и, боюсь, очень скоро влетят в мозги читателей и совьют там прочные гнездышки.
В данный момент больше, чем когда-либо, нужно усилить пропаганду материализма и диалектики, так как командные высоты пока заняты идеалистами эклектиками и упростителями даже в наших пролетарских высших школах. За полит. эк. Богданова товарищи потянулись к эмпириомонизмам и к «живым опытам», Кунов-степановщина (та же богдановщина) в плоскости религиозных вопросов заняла президентский пост, «естественники даже из марксистов все еще бредут под знаменем «природа скачков не делает», шулятиковщина свила гнездо в «марксистской» критике музыки (см. пресловутого Углова), вслед за единой организационной наукой Богданова на авансцену выплыл ее двойник — социология т. Бухарина. Нужно снять этот вредный налет.
С. Гоникман.— Диалектика т. Бухарина
С. Гоникман
Вряд ли, можно назвать еще одну книгу, которую мы ждали бы с таким нетерпением, как «Теорию исторического материализма» Бухарина. Она должна была не только удовлетворить живейшую потребность пролетарских масс в популярном изложении нашего исторического метода, но и впервые дать его систематическое изложение. Теперь мы эту книгу имеем и можем судить, насколько оправдались наши ожидания.
Я не ставлю своей задачей дать оценку всей книги, моя задача скромней: проанализировать диалектику т. Бухарина. Этот вопрос является основным и решающим для всей книги. Исторический материализм — это метод, а не замкнутая система, а диалектика это душа этого метода.
Если эта книга вооружит читателя диалектическим методом, она составит такую же эпоху, как «Азбука коммунизма». Вместе же с диалектикой рушится и ценность всей книги.
Этого, я полагаю, достаточно для объяснения метода и предмета нашего критического анализа, а теперь перейдем к делу. Мы займемся 3‑ей главой книги т. Бухарина.
1. Диалектика и «диалектика»
Процитировав, как и полагается, Гераклита и Гегеля, т. Бухарин разъясняет их:
«В самом деле, представим себе на минуточку, что в мире не было бы столкновения никаких сил, что не было бы никакой их борьбы, что различные силы не направлялись бы одна против другой… Покой господствует там, где все составные частички, где силы находятся в таком отношении друг к другу, что не происходит никакого столкновения, где нет никакого взаимодействия, где ничего "не задевает", где, словом, нет никакого противоречия, никакой противоположности борющихся, сталкивающихся сил, где нет никогда никакого нарушения равновесия» (стр. 75, подчеркнуто в оригинале).
Первая мысль, высказанная здесь, — что любое явление, любой предмет находится во взаимодействии со средой. Дальше же идет уже выяснение «противоречия». В чем же оно заключается по Бухарину? В противоположности различных сил. Эти силы могут находиться в состоянии равновесия, и тогда нет развития; развитие заключается в нарушении этого равновесия. Итак, противоречие надо понимать, как механическое столкновение разных сил. Противоречие заключается не в развитии самого явления, оно не в нем содержится и развивается, но противоречие заключается в отношениях между явлением и средой. Причем эти противоречия заключаются в механическом столкновении между силами.
«В мире существуют различно действующие, направленные друг против друга силы. Только в исключительных случаях они уравновешивают друг друга на некоторый момент» (стр. 74).
Каждое явление находится в какой-либо среде, находится во взаимодействии с ней. Возьмем, к примеру, общество. Природа является первым условием существования общества, она же определяет возможность его развития. Но вот мы спрашиваем т. Бухарина, достаточно ли знания взаимодействия общества с природой, или противоречия, как он это называет, для понимания развития данного общества, или в самом обществе заключаются противоречия, двигающие его вперед и развивающиеся с его движением? Или, иными словами: диалектическое противоречие — заключается ли оно в отношении общества к среде, или же оно заключается в самом обществе.
«А отсюда и следует, что "борьба", "противоречия", т. е. антагонизмы различно направленных сил и обусловливают движение» (стр. 77, подчеркнуто в оригинале).
Итак, диалектическое противоречие заключается не в противоречивом развитии, имманентном данному обществу и выражающемся, конечно, в его отношении к природе, но в столкновении сил общества и природы.
Форма процесса получается следующая: «во‑первых, — состояние равновесия; во‑вторых — нарушения этого равновесия, в‑третьих — восстановление этого равновесия на новой основе» (стр. 77).
Тут «страх нам сердце детское сжимает».
Мы еще не спорим о познавательной ценности изображенного метода, но мы спрашиваем себя: «Что же это? Диалектика Маркса и Энгельса, или нечто новое?» Т. Бухарин не «отгораживается» от них, полагая, очевидно, что он развивает их точку зрения. Однако мы недоверчивы и обращаемся к первоисточникам, чтоб узнать, действительно ли этот механический метод является марксистской диалектикой.
«Таким образом, мы имеем здесь противоречие "присущее самим вещам и явлениям и, так сказать, осязаемое телесно"… жизнь прежде всего состоит именно в том, что известное существо в каждый данный момент одно и то же и в то же время — другое. Таким образом, и жизнь есть также содержащееся в самих вещах и явлениях, постоянно возникающее и разрешающееся противоречие» (Энгельс «Анти-Дюринг»).
Это несколько непохоже на диалектику т. Бухарина.
Но, может быть, сходство между «двумя диалектиками» заключается в том, что противоречие, «присущее самим вещам и явлениям и, так сказать, осязаемое телесно» заключается в борьбе сил. Находящихся в этих вещах и явлениях, механической борьбе?
«По Гегелю, диалектика есть принцип всякой жизни. Нередко встречаются люди, которые, высказав известное отвлеченное положение, охотно признают, что, может быть, они ошибаются и, что, может быть, правилен прямо противоположный взгляд. Это — благовоспитанные люди, до конца ногтей проникнутые "терпимостью": живи и жить давай другим, говорят они своему рассудку. Диалектика не имеет ничего общего со скептической терпимостью светских людей, но и она умеет соглашать прямо противоположные отвлеченные положения. Человек смертен, говорим мы, рассматривая смерть как нечто коренящееся во внешних обстоятельствах и совершенно чуждое природе живого человека. Выходит, что у человека есть два свойства: во-первых, быть живым, а во-вторых — быть также и смертным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что жизнь сама носит в себе зародыш смерти, и что вообще всякое явление противоречиво в том смысле, что оно само из себя (подчеркнуто нами. — С. Г.) развивает те элементы, которые, рано или поздно, положат конец его существованию, превратят его в его собственную противоположность.» (Плеханов, «К вопросу… » стр. 59–60, изд. В.Ц.И.К. 1919 г.).
Каждое явление находится во взаимодействии со средой. Изменение явления есть изменение его отношения к среде. Но, чтоб понять, как и почему изменяется отношение явления к среде, надо познать, как развивается данное явление в условиях среды, что движет его развитием. Ибо не изменение среды обусловливает развитие явления, но, наоборот, развитие явления меняет для него среду. Поэтому, только поняв, по каким законам происходит развитие явления, можно узнать, как изменится его отношение к среде.
Предположим, что мы имеем явление «А» и среду «Б». Среда «Б» — природа, неизменна. Как может произойти изменение отношений «А» к «Б»? Только через изменение «А». Отношение «А» к «Б» есть функция «А». «Б» только дает условия изменения «А», но «А», изменяется по законам ему присущим. Иначе непонятна сама возможность изменения отношения «А» к «Б», явления к среде. А развиваются явления диалектически; это значит, что противоречие заключается в развитии «А». И только противоречивое развитие «А» объясняет нам возможность изменения отношения его к «Б» и возможность развития вообще.
Итак, первое заключение, к которому мы должны прийти, заключается в том утешительном для нас выводе, что механический метод т. Бухарина ничего общего с диалектикой Маркса и Энгельса не имеет. Все, так сказать, авторские права сохраняются за т. Бухариным нераздельно. Но, я должен извиниться, я несколько поторопился. Оказывается, переворот в диалектике, совершенный т. Бухариным, уже был произведен много лет тому назад.
«Первое и самое важное положение о логических основных свойствах бытия состоит в исключении противоречий. Противоречие — это категория, которая может относится только к мысленной комбинации, но не к действительности. В реальных вещах нет противоречий или, другими словами, противоречие, предположение, как нечто реальное, само уже является вершиной абсурда. Антагонизм сил, которые, действуя в противоположных направлениях, измеряются друг другом, является даже основной формой всех действий в бытии мира и населяющих его существ (подчеркнуто нами. — С. Г.). Однако, эта противоположность направления сил элементов и индивидуумов ничуть не совпадает с идеей абсурдного противоречия. Мы можем здесь довольствоваться тем, что рассеяли туман, поднимающийся обыкновенно из воображаемых мистерий логики, посредством ясной картины действительной абсурдности реального противоречия, и доказали бесполезность того фимиама, который местами воскуривали и расточали ловко отделанному идолу диалектики противоречия»… (Энгельс «Анти-Дюринг»). Так говорил, только не Заратустра, а Дюринг. Разница заключается только в том, что он противопоставлял свое механическое миропонимание «мистике» диалектики, а т. Бухарин подсовывает нам его, как якобы диалектику. На этом мы первую часть нашей задачи закончим: диалектика Маркса и Энгельса и «диалектика» т. Бухарина это — две разные вещи. Теперь перейдем к разбору «диалектики» по существу.
2. «Диалектика» по существу
Диалектика это — закон развития. Посмотрим, как объясняет развитие т. Бухарин. Формула т. Бухарина такова: первоначальное состояние равновесия (тезис), нарушение равновесия (антитезис), восстановление равновесия на новой основе (синтезис). Хитрая механика!
Однако давайте установим, что же такое равновесие? «Более или менее точное понятие равновесия таково: о какой-нибудь системе говорят, что она находится в состоянии равновесия, если эта система сама по себе, т. е. без извне приложенной к ней энергии, не может изменить данного состояния» (стр. 76. «Теория ист. мат-ма».) Очень хорошо. Совсем как в механике. Теперь мы берем пример: явление «А» находится в среде «Б». Система находится в состоянии равновесия. Каким образом равновесие может быть нарушено? Должна быть приложена еще какая-то третья сила. Что это за третья сила, т. Бухарин? Если мы имеем животный вид и природу в состоянии равновесия, что может вывести эту систему из равновесия? Третья сила. Мы вступаем в область мистицизма, или чертовщины, как говорит т. Бухарин. Другого выхода нет. Понятие механических сил и механического равновесия не может объяснить развития. Попробуем взять для уяснения всей беспомощности этого метода в вопросах развития знаменитое ячменное зерно.
«Возьмем ячменное зерно. Биллионы таких зерен ежедневно молотят, варят, пекут и затем потребляют. Но если подобное ячменное верно находит нормальные для себя условия, если оно падает на благоприятную почву, то с ним, под влиянием тепла и влаги, происходит своеобразное изменение: оно пускает ростки; зерно, как таковое, перестает существовать, уничтожается, его место занимает вышедшее из него растение, — это отрицание зерна. Но каков нормальный ход жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и производит, в конце концов, снова ячменные зерна, а когда последние созревают, то стебель умирает, — в свою очередь отрицается. Как результат этого отрицания мы снова имеем первоначальное ячменное зерно, но не в прежнем, а в десяти‑и в двадцати‑и тридцатикратном количестве (Энгельс «Анти-Дюринг»).
Это значит, что под влиянием среды ячменное зерно развивается противоречиво по законам ему свойственным. Среда является необходимым условием возможности развития, но развитие происходит по законам, свойственным зерну. А теперь попробуем понять развитие ячменного зерна по т. Бухарину.
Зерно брошено в землю — первоначальное состояние равновесия. Что это должно обозначать? Равенство сил, каким зерно действует на природу, а природа на зерно. Что это за силы, т. Бухарин? В чем они выражаются и как узнается их равенство? Нужно ли понимать т. Бухарина так, что при неизменной среде останется неизменным и зерно (а так именно и нужно его понимать, как мы это увидим впоследствии)? Но ведь так в действительности не бывает. Зерно развивается и, развиваясь, само изменяет среду. В чем, значит, взаимодействие между зерном и средой? Среда это есть условие развития зерна. Помогает ли нам понятие равновесия понять форму и самую возможность развития? Нисколько. Наоборот, мы должны ожидать какой-то мистической 3‑й силы, которая вывела бы эту систему из состояния равновесия. Пойдем дальше: зерно превратилось в растение, — «нарушение равновесия», говорит т. Бухарин; «противоречивое развитие», говорит Энгельс. Энгельса мы понимаем: зерно, развиваясь отрицает себя в растении. Какого равновесия, спрашиваем мы т. Бухарина? Между зерном и средой? Но, ведь, между стеблем и средой происходит такой же обмен веществ, как и между зерном и средой.
Принципиально тут ничего не изменилось: зерно развивалось, питаясь из окружающей среды, то же проделывает и стебель. В этом отношении и зерно и стебель представляют относительно среды одинаковые категории. Если разницу между зерном и стеблем т. Бухарин видит в том, что зерно не развивалось (равновесие), а стебель есть результат развития, то это, ведь, ему надо объяснить. Ему надо объяснить, как из зерна, которое не развивалось, развился стебель. Слова: равновесие и нарушение равновесия, как бы мудрено они не употреблялись, процесса развития не объясняют. То же самое происходит и в третьей стадии развития ячменного зерна. «Восстановление равновесия на новой основе» так же мало, объясняет нам возможность, направление и форму процесса развития, как и предыдущие, заимствованные из механики, понятия.
Но обратимся к примерам самого т. Бухарина. Мы наперед извиняемся за длинные выписки, но они неизбежны, ибо вопрос серьезен.
«1. Устойчивое равновесие. Устойчивое равновесие бывает в том случае, когда взаимодействие между средой и системой выражается в неизменном положении вещей или в таком нарушении прежнего положения, которое вновь восстанавливается в прежней же форме. Например: предположим, что какой-нибудь вид животных живет в степи. Среда сама не изменяется. Для прокорма этого вида животных количество пищи не увеличивается и не уменьшается; количество хищных зверей остается таким же; всякие болезни, разносимые микробами, остаются в прежних пропорциях. Что тогда получится? В общем и целом количество наших животных останется тем же: одни из них будут умирать или погибать от хищников, другие рождаться, но данный вид в таких условиях среды будет сохраняться таким же, как он был. Здесь перед нами случай застоя. Почему? Потому, что тут сохраняется неизменным отношение между системой (данный вид животных) и средой. Это случай устойчивого равновесия. Устойчивое равновесие не всегда есть полная неподвижность. Движение может быть, но здесь за нарушением равновесия следует его восстановление на прежней же основе. В таком случае противоречие между средой и системой постоянно воспроизводится в том же самом количественном отношении» (стр. 79, подчеркнуто в оригинале).
А теперь будем рассуждать.
Раньше всего мы укажем на основную методологическую ошибку т. Бухарина, к которой мы впоследствии еще вернемся. Мы имеем перед собой случай застоя.
К чему сводится в таком случае задача исследователя? Нужно открыть условия, причины равновесия, чтобы из них уже вывести условия развития.
Как это делает т. Бухарин?
«Здесь перед нами случай застоя. Почему? Потому что тут сохраняется неизменным отношение между системой и средой».
Анализ причин т. Бухарин заменяет описанием. Он просто повторяет, что застой, это — когда отношение неизменно, в то время как его задачей является объяснить, почему возможно такое неизменное отношение. Но в другом месте мы натыкаемся все-таки на причинное объяснение, а не описание: «но данный вид в таких условиях среды будет сохраняться таким же, как он был».
Тут мы должны поздравить т. Бухарина. Он совершил переворот не только в диалектике, но, и, сам того, может быть, не желая, в биологии. От него мы впервые узнаем, что вид может измениться только тогда, если меняется окружающая среда. Следовательно, развитие происходит, примерно, таким образом. Существует вид «А» и среда «Б». Пока «Б» не изменяется, остается неизменным и «А». Но вот меняется «Б» (под влиянием какой 3‑й силы, т. Бухарин?), а за ним меняется и «А». Какая небесная симфония, т. Бухарин! Значит, не вид в процессе развития приспосабливается к природе, а природа к виду. Ведь, «данный вид в таких условиях среды будет сохраняться таким же, как он был». Ново! Однако посмотрим, насколько действительность соответствует этой «диалектике».
Что будет происходить с видом, если среда останется той же? Он будет непрерывно развиваться. В процессе борьбы между членами данного вида будут выживать наилучше организованные и т. д. Одним словом, эта такая азбука, о которой распространяться не приходится.
Но у т. Бухарина есть возражение. Правда, в только что цитированном предложении т. Бухарин категорически утверждает, что вид останется тем же, т. е. не только количественно, но и качественно. Но, забыв через 6 строчек это утверждение, он в конце цитированного отрывка подчеркивает, «что противоречие между средой и системой постоянно воспроизводится в том же самом количественном соотношении». В переводе на более понятный язык это значит, что количественно данный вид останется неизменным. Согласимся, пусть количественно вид не изменяется, — грубо количественно: число индивидов данного вида.
Ибо если дело схематизировать, то получится такая картина: вид представляется силой «А». Но если члены вида изменяются качественно, оставаясь в том же количестве, то, как сила, они будут уже не «А», а «А~1~»! Но согласимся с т. Бухариным: количественно вид не изменился.
Значит ли это, однако, что пред нами нет развития?
Т. Бухарин утверждает, что да. Иначе он не может, ибо он понимает развитие механически, т. е. как количественный рост. На самом же деле, развитие заключается не в количественном росте, а в качественных изменениях, или в том и другом вместе. У т. Бухарина есть только развитие в пространстве, а не в пространстве и времени.
Ежели, скажем, питекантропов (родоначальник человека и человекообразных обезьян) было А+Б+В, из них развилось А людей и В гиббонов, а Б погибло, то по т. Бухарину мы имеем случай регресса, «восстановления равновесия с отрицательным знаком», ибо (А+Б+В) больше, нежели (А+В). По-нашему мы имеем развитие, ибо, хотя пространственно (А+Б+В) меньше, чем (А+В), но (А+В) представляют более высокую ступень приспособленности к природе, нежели (А+Б+В).
На анализе цитированного отрывка мы с достаточной ясностью убедились, что:
Т. Бухарин в своем собственном примере не свел концы с концами.
Т. Бухарин понимает развитие, как количественный рост, как развитие в пространстве.
Метод т. Бухарина механический, а не диалектический, и оказывается негодным при встрече с вопросами действительного развития.
Где основная ошибка?
«Но данный вид в таких условиях среды будет сохраняться таким же, каким он был».
Мы имеем явление «А» и среду «Б». Для того, чтоб изменилось «А», по т. Бухарину, должна измениться среда. Это значит, что из 2‑х величин изменяется «Б» — среда, а «А» изменяется только как следствие изменения «Б», т. е. как его функция. На минуту согласимся и пойдем дальше. Где же причина изменения «Б»? «О какой-нибудь системе говорят, что она находится в состоянии равновесия, если эта система сама по себе, т. е. без извне приложенной к ней энергии, не может изменить данного состояния» (подчеркнуто нами). Значит, для того чтобы объяснить изменение «Б», т. е. природы, т. Бухарин должен прибегнуть к третьей силе, которая не есть ни «А» и ни «Б». Такой третьей силы нет, и т. Бухарин бессилен объяснить развитие даже с его точки зрения. Для того, чтоб сдвинуться с мертвой точки, ему придется рассматривать «Б», как движимую внутренними противоречиями, а отношение «Б» к «А», как выражение внутреннего развития «Б» по отношению к изменяющемуся только как функция его «А».
Но это уже будет диалектикой, а не механической теорией равновесия.
На самом же деле изменяется «А» по отношению к неизменному «Б». Отношение «А» к «Б» изменяется как функция «А», что мы уже развивали подробней.
«Действуя посредством этого движения (процесса труда. — С. Г.) на внешнюю природу и изменяя ее, он (человек. — С. Г.) в то же время изменяет свою собственную природу» («Капитал» т. I, отдел III, гл. 5).
Что дает нам метод т. Бухарина?
Понимание того, что развитие общества есть развитие его власти над природой, след., развитие его техники. Это ясно, и такое определение прогресса никаких споров вызвать не может.
Если техника застойна, то власть человека над природой не изменяется — момент равновесия. Если техника прогрессирует и т. д. Но почему и как изменяется техника, что движет ее развитием, — этого т. Бухарин на основе теории механического равновесия объяснить не может. Тут нужна диалектика.
Теория механического равновесия, это — метод описания, но не причинного объяснения общественного, да и всякого развития.
Таков тот вывод, к которому мы принуждены прийти в результате исследования. Может быть, мы неправильно поняли т. Бухарина или ошибаемся, — мы будем ждать разъяснений т. Бухарина или его неофитов.
А. Лозовский.— Анархизм и марксизм в массовом движении
А. Лозовский
Москва, 15/III 1922 г.
Анархизм всегда теоретически и практически противопоставлял себя марксизму. Он исходил из той предпосылки, что массовое движение по самому своему существу является движением анархическим и что задача заключается в том, чтобы это массовое движение развертывать, обострять, не оформляя его и не давая ему законченных организационных рамок. Личность и активное меньшинство играют роль возбудителя событий, фермента массового движения, но движение само определяет свои цели независимо от теоретиков и руководителей. Противопоставление рабочего интеллигенту особенно резко в учении анархистов, причем делалось оно всегда как раз со стороны наиболее квалифицированных и наиболее оторванных от рабочей массы интеллигентов. «Мы верим в массовое движение, мы верим в разум трудящихся, они сами все сделают», — вот в общем и целом философия анархизма. И может показаться, что при такой вере в массы, при таком поклонении перед разумом стихии анархисты должны были бы быть наилучшими выразителями идей этих масс, и массовое движение должно было бы оправдать теорию и практику анархизма. На самом деле получилось как раз наоборот. Чем шире развертывалось массовое движение, чем больше рабочий класс вовлекался в борьбу, тем влияние анархистов становилось меньше и меньше. В этом отношении крайне характерна роль анархистов в сравнении с марксистами-коммунистами в революционных событиях последних лет вообще и в профдвижении в особенности.
Война внесла в ряды анархистов еще большее опустошение, чем в ряды социалистов. Принципиальные противники парламентаризма оказались во многих странах трубадурами «справедливой войны» и форейторами при своих правительствах. Первыми в этом водовороте событий начинают оправляться революционные марксисты. Среди них рождается протест, они создают первые интернационалистические ячейки, они создают конференции в Циммервальде и Кинтале, давая теоретическое выражение тому глубокому кризису, в который рабочее движение вступило, начиная с августа 1914 года. Революционный марксизм сразу определил причины кризиса, корни массового перехода социалистических партий на сторону буржуазии и наметил методы борьбы против войны и против реформизма.
Война лишний раз доказала правильность марксистского анализа классовых сил, и марксизм вышел из этого колоссального кризиса в значительной степени очищенным от того шлака, который накопился на нем на протяжении предыдущих лет органического развития буржуазного общества. Он вышел обогащенным из войны, и особенно много почерпнул он в Российской Революции и в тех грандиозных событиях, которые развернулись на фоне этой Революции.
Марксизм всегда исходил из положения, установленного Гегелем, что истина конкретна, и поэтому он нашел твердый базис в этом вихре событий. Он нащупал больные места современного общества и определил, в каком направлении нужно действовать для того, чтобы увеличить классовые трещины в капиталистическом строе. Революционный марксизм оформился в период войны и революции, как коммунизм, нашедший свое международное выражение в лице коммунистического Интернационала.
Отличительная черта марксизма заключается в том, что он всегда изучает реальное положение дела, что он основывает свою тактику и свою линию поведения на непосредственных явлениях жизни, что он тщательно изучает наличные силы, и только после этого изучения намечает для себя линию поведения. Поэтому он завоевал такое влияние, поэтому он стал основным фактором в борьбе классов в настоящее время. Поэтому Коммунистический Интернационал и коммунистические партии являются главнейшими врагами современного строя, ибо современные руководящие слои буржуазии прекрасно умеют определять, где находится самый опасный их враг.
Не то с анархизмом. Отличительная черта анархической идеологии — это ее отвлеченность. Анархическая тактика одинакова для всех времен и для всех народов. Она не строится на конкретном изучении действительности, а на отвлеченных, раз навсегда установленных нормах. И несмотря на постоянные ссылки на массу, на преклонение перед массой, на торжественные заявления о том, что разум стихии выведет трудящихся на правильный путь, — несмотря на все эти торжественные декларации, анархизм витает вне гущи самой жизни. В период войны он ничего не сумел создать. После войны, вместе с началом революции он не овладел ни массовым движением, ни создал определенной теории. Высшей ступенью развития анархизма в период революции была махновщина, но махновщина выродилась, как известно, в бандитизм, да оно иначе и не могло быть, ибо идеология анархизма с ее отвлеченным теоретическим культивированием массы и фактическим преклонением перед личностью, перед инициативным меньшинством, является апологией индивидуализма. В период гигантских событий анархисты все время оставались в виде кружка рационалистов и всегда, когда они пытались вмешиваться в гущу жизненного движения, они выплывали во главе мелко-буржуазной стихии, которая подчиняла их себе и несла их на гребне чисто кулацкой волны. Так, анархизм при прикосновении к революционной массе не оформлял этого движения, не руководил им, не давал ему определенных лозунгов и направления, а носился без руля и без ветрил, теряя остатки своей теории и программы.
Революция — прекрасное испытание для теории. На чем лучше, чем на революции, можно было испытать крепость марксизма и анархизма. Если до революции шел теоретический спор о будущих формах и методах борьбы за низвержение капитализма, то революция потребовала практического проведения в жизнь своей теории, она заставила каждую группу, каждую партию не только провозглашать лозунги, но их осуществить, не только говорить о будущем, но действовать в настоящем. Революция — это стихия, охватывающая десятки миллионов людей. Она имеет свои законы, и та политическая группа, которая законов этих не понимает, которая хочет создать свои законы развития для революционных событий, беспощадно отметается в сторону, и революция шагает через ее голову. Мы это видели на судьбе анархизма в русской революции.
Еще более разительна беспочвенность и полная оторванность анархизма, когда мы переходим к профдвижению. Раньше мы имели дело с неорганизованной массой, которая двигается согласно особым, трудно поддающимся учету законам. Но профдвижение — это есть уже организованная масса. Перед нами часть трудящихся, собранных вместе на основе элементарного чувства солидарности, элементарных потребностей самообороны. Профсоюзы есть органы самозащиты для рабочего класса, и только после долгих лет борьбы они из органов самозащиты становятся органами нападения на весь капиталистический строй.
Анархизм пустил корни в профдвижение некоторых стран, причем с самого начала необходимо отметить, что количество этих стран довольно ограничено. Дело идет преимущественно о латинских странах: Франции, Италии, Португалии, Аргентине и т. д. Чем объяснить тот факт, что анархизм расцветает преимущественно в латинских странах и что он представляет собою ничтожную величину в англо-саксонских и германских странах? Объяснение можно найти в структуре этих стран, с преобладанием крестьянского мелкого хозяйства и ремесла над крупной промышленностью. Влияние анархизма в профдвижении — это есть отражение своеобразной экономической структуры этих стран. Но анархизм, коснувшись профсоюзов, преобразовался: он не остался в том чистом виде, в каком он раньше пребывал, ибо рабочая организация, какова бы она ни была, самим фактом своего существования нарушает ряд священных принципов анархической идеологии. Там, где есть организация, есть меньшинство и большинство, есть дисциплина, есть подчинение и т. д. Свободная анархическая личность со всем этим не считается. В латинских странах из синтеза отвлеченного анархизма и профдвижения получилась теория, известная под именем революционного синдикализма, имеющего в себе несомненно черты революционного массового движения и отвлеченного анархического рационализма. Революционный синдикализм создал своеобразную теорию освобождения рабочего класса. За основу он берет известную формулу Карла Маркса: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих», причем он это толкует таким образом, что профсоюзы подготовят социальную революцию, проведут ее и используют результаты социального переворота. Никакие другие организации не могут и не должны заниматься вопросом рабочего движения. Если есть коммунисты, которые хотят бороться против буржуазии, то пусть они организовывают интеллигентов и крестьян, но рабочий класс есть монополия революционного синдикализма. Отсюда теория абсолютной независимости профдвижения и противопоставление профсоюзов коммунистическим партиям и коммунистическому Интернационалу.
Здесь мы видим те же черты, которые свойственны анархизму. На профдвижении сказалась вся слабость анархической идеологии. Выдвигая совершенно правильную мысль о том, что основная задача профсоюзов есть низвержение буржуазии, они отсюда делают вывод, что борьба за повседневные интересы рабочих является вопросом второстепенным, неважным, они хотят интегрального социализма, т. е. немедленной революции. Они не хотят борьбы за повседневные интересы рабочих масс, считая это второстепенным делом. И чем больше они проводили и проводят эту точку зрения, тем больше массы от них уходят, ибо широкие массы мало знают прекрасные анархические теории: они борются потому, что не могут не бороться, и задача руководителей заключается не в том, чтобы кричать об интегральном социализме, а в том, чтобы на почве непосредственных нужд рабочего класса его организовать, ввести рабочую массу в повседневную борьбу и на почве этой борьбы укреплять и сплачивать армию для штурма капитализма.
Если взять мировое профдвижение в целом, то в левом крыле профдвижения анархизм представляет собою ничтожную величину. Революционный синдикализм имеет опору в некоторых странах, но он не однороден. В нем борются несколько течений, из которых одно ближе всего к коммунизму, ибо оно исходит из реального соотношения сил и стремится сделать выводы из опыта войны и революции.
Анализ революционного движения в целом, анализ всех массовых движений последних лет и борьбы передовых рабочих за завоевание союзов показывает соотношение сил между анархизмом и революционным марксизмом. С одной стороны — отвлеченные, рационалистические построения, преклонение перед стихией при бессилии направить эту стихию к достижению определенных целей, а с другой стороны — диалектическое понимание событий, конкретное и тщательное изучение действительности, учет всех борющихся сил, приспособление своей тактики к реальному положению вещей и неуклонное, упорное и постоянное движение к раз поставленной цели — к коммунизму.
Последние месяцы идейной борьбы внутри левого крыла международного профдвижения с особой наглядностью выявили удельный вес революционного марксизма и анархизма в профдвижении. Коммунист при оценке событий всегда исходит из класса. Он маневрирует революционными массовыми величинами, он определяет линию поведения, оперируя историческими категориями. Анархисты исходят при построении тактики с точки зрения личности, и в лучшем случае — с точки зрения активного меньшинства. Поэтому каждый раз, когда надо оценить новое положение, определить линию поведения в этом бурном потоке событий, анархисты обращаются к своему арсеналу постоянных и вечных истин и там черпают материал для выработки своей тактики. Коммунист вырабатывает свою тактику, исходя не из вечных формул, а из реальной жизни, из классового столкновения сил, он изучает массовое движение и намечает ту линию, по которой рабочая масса не может не идти. Это столкновение двух мировоззрений, двух методов подхода к массам и событиям мы видели на столкновениях по вопросу о едином фронте, на отношении к революции вообще и к русской революции в особенности.
Если события нарушают построения анархических теоретиков, или идут вразрез с той программой, которую выставляют, скажем, революционные синдикалисты, они заявляют: «тем хуже». Они считают настолько непоколебимыми свои построения, что не считают нужным обращать внимание на прозу жизни. Поэтому они играют второстепенную роль в мировом рабочем движении, и поэтому там, где начинается революция, где массы приходят в движение, анархизм сходит на десятое место, и если проявляет себя, то в виде индивидуальных экспроприаций, набегов и проч.
Марксисты тем сильны, что они постоянно учатся. Они никогда не скажут «тем хуже для фактов», если их построения опровергаются жизнью. Они готовы всегда выработать новую тактику и новую линию, если их построения оказываются не применимыми на практике. Этим объясняется растущее влияние революционного марксизма в мировом рабочем движении, и этим можно объяснить, что мировая буржуазия видит в Коммунистическом Интернационале и в коммунистических партиях своего самого серьезного врага. Русская революция и развертывающаяся борьба за мировое профдвижение показали, что анархизм является отражением мелко-буржуазной собственнической стихии, направленной против пролетариата, безжизненной и мертвой теорией, которая тащит назад рабочий класс от стоящих перед ним революционных задач.
Л. Крицман.— Товар и продукт
Л. Крицман
Всемирно-историческое значение великой российской революции не ограничивается тем, что она — прелюдия и первая глава великой всемирной революции пролетариата. Наша революция не только начальное звено, но и прообраз всей мировой революции в целом.
Ломка старого политического строя и создание советского строя, революционное разложение промышленности и советское народно-хозяйственное строительство, все это — акты всемирно-исторического значения.
И всемирно-историческое значение имеет та борьба между товаром и продуктом, которая разыгралась на нашей почве и которая намечает контуры такой же борьбы в мировом масштабе.
Борьба товара и продукта шла до сих пор по двум линиям.
На одном фронте — крестьянском — капитал в течение веков разлагал натуральное самодовлеющее крестьянское хозяйство, вовлекая его в сложную сеть рыночных отношений. Одним из методов была дешевизна предлагавшихся в любом количестве продуктов капиталистической промышленности, заставлявшая крестьянина забрасывать многие из отраслей его многосложного хозяйства и специализироваться на земледелии, иногда на весьма специальной отрасли технического земледелия. Другим методом — и нередко более важным — было воздействие на крестьянина через помещика, государство и ростовщика (кулака, скупщика), вынуждавших крестьянина к продаже продуктов его хозяйства на рынке ради уплаты податей, аренды и процентов. На крестьянском фронте продукт шаг за шагом отступал перед товаром.
На другом сравнительно недавнем фронте — в крупной капиталистической промышленности — по мере успехов комбинирования предприятий шло затвердение рыночных связей между прежними предприятиями, превращавшимися в части комбинированных предприятий, и в результате этого затвердения — превращение товара в продукт.
Уголь шахт, ставших собственностью железной дороги или металлургического треста, поступал на паровоз или в домну уже не в качестве приобретенного на рынке товара, а в качестве продукта одной из частей комбинированного угольно-железнодорожного или угольно-металлургического предприятия. Здесь, следовательно, происходило отступление товара перед продуктом.
А финансовый капитал, развертывая свою многообразную деятельность, приводившую к фактическому, хотя и неоформленному образованию колоссальных комбинированных предприятий, внутренне перерождал рыночные связи, подготовляя дальнейшие решительные успехи продукта.
Однако, в общем и целом перед великой мировой войной, несмотря на ускорение темпа второго процесса (вытеснения товара продуктом в самой цитадели капитализма, которое происходило впрочем преимущественно в скрытых формах финансового капитализма), первый процесс количественно явно перевешивал, и товар расширял свои владения за счет побед на крестьянском фронте во всех странах, в том числе среди громадных массивов крестьянства России, Индии и отчасти Китая.
Военный кризис мирового капитализма мощно вмешался в оба описанные выше процесса.
Процесс отвердения рыночных отношений принял лихорадочный по сравнению с прежним темп: обязательные поставки и разверстки, принудительное синдицирование, твердые цены, карточки. Финансовый капитализм на глазах у всех с поразительной быстротой перерождался в государственный капитализм под давлением военной необходимости. До того скрытое внутреннее перерождение товара и рыночных отношений обнажалось в явных победах продукта над товаром.
Но и на крестьянском фронте произошел решительный перелом, и продукт, вынужденный несмотря на упрямое сопротивление крестьян отступать в течение веков перед товаром, перешел вдруг в решительное наступление. С одной стороны оскудение товарного рынка, последствие усиленного потребления армии, перераспределения производительных сил в результате мобилизации промышленности, вытеснения военными перевозками всяких иных и разрыва международных связей, — оставляло частично (и во все большей части) неудовлетворенными потребности крестьянства и вызывало к новой жизни былую многосторонность крестьянского хозяйства, дававшую возможность обойтись «своими средствиями»; в том же направлении влиял и рост цен на сельскохозяйственные продукты, превышавший рост цен на продукты промышленности, вследствие чего для получения известного количества приобретаемых крестьянином товаров достаточно было реализовать меньшее, чем требовалось прежде, количество сельскохозяйственных продуктов; с другой стороны — непрерывное падение курса бумажных денег приводило к фактическому смягчению тяжести налогов, аренды и процентов, так как требовало для их уплаты реализации меньшего количества сельскохозяйственных продуктов, чем прежде.
Итак, военный кризис мирового капитализма открыл эру решительных побед продукта над товаром на всех фронтах. Однако, значение побед продукта на обоих основных фронтах — капиталистическом и крестьянском — было глубоко различно. Победы продукта на капиталистическом фронте, на котором по существу дела произошло лишь ускорение (хотя и весьма резкое) победоносного продвижения продукта, означают выковывание более организованных и потому более совершенных форм общественного хозяйства. Это — процесс создания единой организации народного хозяйства в каждой стране, победа будущего.
Напротив того, победы продукта на крестьянском фронте, предоставляющие не изменение темпа прежнего хода вещей, а перелом в нем, означают развал, распадение рыночных связей, хотя и не прочных, но единственных, связывавших крестьянское хозяйство с другими, следовательно, выпадение крестьянских хозяйств из народного хозяйства. Это — победа прошлого над настоящим и… над будущим.
Победы продукта на обоих фронтах означают, однако, не только внутреннюю перестройку и перераспределение производительных сил крупного и мелкого хозяйства, но и разрыв связи между ними.
Разрыв связи между деревней и городом становится одной из самых тяжелых и чреватых последствиями проблем нашей эпохи.
Этот разрыв происходит не только внутри каждой капиталистической страны, но и между странами, поскольку существовало разделение труда между странами индустриальными и странами аграрными.
Но связь города и деревни это не только связь крупного хозяйства и мелкого, но и связь железа и хлеба, соли и кожи, хлопка и ниток. Разрыв этих связей, губительный для обеих сторон, оказывается на сложно-организованном и тонко-дифференцированном городе гораздо раньше, чем на примитивной деревне.
Победа продукта на крестьянском фронте подрывает, таким образом, его победу на фронте капиталистическом.
В капиталистической Европе противоречие между обоими процессами — успехами продукта в его борьбе с товаром на обоих фронтах борьба — не достигло большого напряжения. Изменилось (с окончанием войны) прежде всего течение самих процессов. В послевоенный период повсюду наблюдается обратное, более или менее быстрое, более или менее полное превращение государственного капитализма в капитализм финансовый: затвердевшие было рыночные связи приобретают снова свой довоенный вид.
Как известно, капиталистическое производство есть производство прибавочной ценности. Капиталисту в сущности безразлично, что он производит, порошок от клопов или тонкие духи или еще что-нибудь иное: какова бы ни была греховная оболочка товара, капиталист видит в нем лишь одну только безгрешную золотую его душу, ту, о которой еще в древнем Риме говорили, что она non olet (не пахнет). Только эта золотая сущность для него и существует, вещная же оболочка сама по себе — ничто. Материализацией золотой души вещей капиталисты занимаются о усердием, которому могли бы позавидовать спириты.
Но великая империалистическая война, поставившая каждую капиталистическую страну под угрозу военного, а, следовательно, и хозяйственного разгрома, сбросила национальные классы капиталистов с их золотых небес на грешную землю.
Если в мирное время трест или банковский консорциум столь же охотно сократит производство угля или железа, как и расширит его в зависимости от большей прибыльности первой или второй операции; если сокращение производства при условии соответственного возможного для монополиста повышения цен может означать победу в борьбе за прибыль, то в условиях военной борьбы за существование и за возможность будущего производства прибыли понижение производства угля или железа означает военный разгром и гибель надежд на будущую прибыль.
Капитал вынужден очнуться от золотого гипноза и из спирита превратиться в реалиста, рассматривать производство не как производство прибыли, а как производство продуктов, как производство потребительных ценностей. Этот реальный подход к вещам капитал в состоянии усвоить, правда, только в совершенно извращенной хозяйственной обстановке, когда основными потребительными ценностями являются пушки, пулеметы, взрывчатые вещества и т. п. и только на то время, пока длится эта извращенная хозяйственная обстановка.
Государственный капитализм — создание войны, ибо война представляет единственную ситуацию, когда падение производства продуктов, хотя бы и сопровождающееся увеличением производства прибыли, грозит существованию (национального) класса капиталистов. Во всех других наблюдавшихся в истории случаях падение производства продуктов означает сокращение потребления и, следовательно, ухудшение условий существования пролетариата и мелких буржуа, но не угрожает существованию класса капиталистов, а в тех случаях, когда оно сопровождается увеличением производства прибыли, означает даже рост мощи капитала.
Государственный капитализм не является, следовательно, вне военной обстановки, необходимостью для крупного капитала. Вместе с тем он представляет собой грандиозную социальную опасность для капитала, так как обнажает общественный характер капиталистического производства и, срывая обманчивый покров фетишистических денежных и кредитных отношений, слишком резко противопоставляет кучке магнатов капитала грандиозный механизм общественного производства и входящий в этот механизм пролетариат. Поскольку же при государственном капитализме небольшая кучка магнатов капитала становится явным господином и всего класса капиталистов, постольку и главная масса капиталистов в погоне за призрачной самостоятельностью выступает против государственного капитализма. Сами же магнаты капитала отнюдь не выказывают охоты поддерживать фирму «государственного капитализма», куда пришлось бы принять пайщиками и капиталистическую мелочь.
При таких условиях государственный капитализм, — несомненно, более высокая форма организации народного хозяйства, так как она создаст возможность более полного использования, а значит, и лучшего развития производительных сил общества, чем капитализм финансовый (и превосходящая последний, примерно так же, как и трест превосходит синдикат), — оказывается более высокой формой лишь для общества в целом, для класса же капиталистов (объективно для его верхушки, субъективно для всего класса) только в условиях империалистической войны, а вне ее наоборот менее высокой, чем капитализм финансовый, и притом как с экономической, так и с социальной стороны.
Поэтому с окончанием войны во всех капиталистических странах государственный капитализм подвергается обратному превращению в капитализм финансовый, который, правда, не ограничивается своими довоенными достижениями и делает новые гигантские успехи в деле фактического овладения всем народным хозяйством путем создания скрытых капиталистических олигархий и монархий. Лучший иллюстрацией может служит деятельность Штиннеса в Германии после войны.
На капиталистическом фронте после войны происходит, следовательно (в капиталистических странах), явное отступление продукта перед товаром, сопровождающееся, правда, в значительной мере скрытым перерождением рыночных связей, подготовляющих будущие победы продукта, как в случае новой империалистической войны, так и в случае пролетарской революции.
Гораздо неопределеннее положение дела на крестьянском фронте, главным образом, вследствие продолжающегося падения курса бумажных денег в значительной части капиталистических стран, недоверчивости и консерватизма крестьян и нерешительности буржуазных правительств, не чувствующих себя достаточно прочными для решительного усиления налогового бремени, которое могло бы толкнуть крестьян в объятия революции.
Военный кризис мирового капитализма нигде за пределами России, если не считать кратковременного эпизода в Венгрии, и совсем мимолетного в Баварии, не перешел еще в фазу диктатуры пролетариата.
А этот переход должен особенно сильно отразиться на борьбе товара и продукта, как это показал опыт Советской Венгрии и еще яснее опыт Советской России.
Пролетарская революция в России привела в своей первой фазе к невиданному за всю эпоху капитализма вытеснению товара продуктом. В сфере крупной промышленности (и транспорта) денежные и товарные отношения были вытеснены почти полностью и сменились натуральными, однако, без того, чтобы анархия хозяйственной жизни была в действительности устранена.
Вопрос о цене — отпал, так как цены были фиксированы (твердые цены), а по мере увеличения расстояния между твердыми и вольными (подпольными) рыночными ценами перестал и вовсе интересовать; место этого вопроса занял другой — о потребности, ради удовлетворения которой заявлялось требование на данный продукт. Таким образом, товары превратились в продукты, а товарное хозяйство — в натуральное. Однако, социалистическая организация государственного хозяйства, распространявшегося преимущественно на крупную промышленность и транспорт, только складывалась, и в переходный период хозяйство товарно-анархическое сменилось (в области государственного хозяйства) хозяйством натурально-анархическим, анархическим вследствие фактической независимости многочисленных государственных органов в их повседневной деятельности. Эта независимость, практически непреодоленная вопреки принципиальному признанию необходимости общей связи (планомерности), приводила к анархии, несмотря на то, что капиталистический принцип прибыли и даже товарный принцип эквивалентной оплаты были отброшены и на их место поставлена оценка потребности и возможности ее удовлетворения.
Как бы то ни было, цитадель товара была взята и прочно на годы занята продуктом.
Но и товарные отношения вне крупной промышленности и транспорта являлись прибежищем капитала (торгового), а после национализации банков, промышленных предприятий, транспорта, земли и жилищ, даже единственным прибежищем капитала, в котором настигнуть его было труднее всего.
Невиданная по размаху и напряженности революционная борьба пролетариата с силами буржуазного общества, оказывавшего в течение трех лет бешеное и зверское сопротивление, (ведь, речь шла о защите священного права собственности, — не могла, разумеется, остановиться перед торговлей как явно капиталистической, так и всякой иной, — при которой внешне самостоятельные мелкие торговцы могут в действительности быть (и часто бывают) лишь агентами крупного капитала.
Инерция классовой борьбы, превратившейся в гражданскую войну, привела к тому, что всякая торговля была поставлена вне закона, и в значительной мере были натурализованы и отношения между городом и деревней.
Сначала была декретирована обязательная сдача всех излишков сельскохозяйственного производства (что с неизбежностью вело к запрещению торговли); сдавшие излишки приобретали право на получение от государства продуктов индустрии в размере, определяемом государством в зависимости от состояния ресурсов. Позже сдача излишков была заменена разверсткой, т. е. обязательством сдать определенное количество сельскохозяйственных продуктов; выполнившие разверстку приобретали упомянутое выше право на получение продуктов промышленности.
Несмотря на запрещение торговли, все же несколько больше половины продуктов из города в деревню и из деревни в город передвигала (нелегальная) торговля, не говоря уже о внутридеревенском обороте продуктов.
Наряду с вытеснением товара продуктом, явившемся следствием запрещения торговли, на крестьянском фронте происходило отступление товара перед продуктом и вследствие уже обрисованного выше возврата к былой многосторонности самодовлеющего крестьянского хозяйства.
С одной стороны, гражданская война, требовавшая от истрепанного империалистской войной народного хозяйства России относительно не меньших издержек, чем издержки империалистской войны, не позволявшая демобилизовать в необходимом размере промышленность, в конец расстроившая транспорт, так как фронт стал вездесущим, вследствие чего оказались разорванными помимо международных и внутренние связи, — создала положение, при котором удовлетворение потребностей крестьянства в продуктах промышленности возможно было в еще меньшей степени, чем во время войны империалистической.
С другой стороны, аграрная революция уничтожила арендную плату, а пролетарская революция — уплату процентов; что касается налогов, то первое время они исчезли совершенно, а по их введении остались много ниже дореволюционных.
В результате и на крестьянском фронте происходило исключительное по своей стремительности отступление товара перед продуктом.
Размер победы продукта над товаром можно оценить хотя бы по тому, что при сокращении продукции сельского хозяйства, примерно, вдвое, промышленности, примерно, в семь раз, а транспорта, примерно, в четыре раза — ценность средств обращения к концу упомянутого периода сократилась в пятьдесят и даже шестьдесят раз (с 2 370 млн. рублей в 1914 г. до 40–50 млн. рублей в течение первой половины 1921 года).
Много сходного с этой историей борьбы товара и продукта в течение первых трех-четырех лет российской революции представляет и история этой борьбы в Советской Венгрии, с тем, однако, различием, что, с одной стороны, капиталистический фронт простирался там в значительной мере и на область сельского хозяйства, так что при натурализации прежних товарных отношений крупного хозяйства этим процессом было захвачено и крупно-капиталистическое (национализованное) земледелие, а, с другой стороны, разрыв связей города и крестьянства был более быстрым и полным, вследствие непринятия деревней бумажных денег венгерской советской власти и вследствие контрабандных связей крестьянства с заграничным рынком, возможной благодаря незначительным размерам территории Советской Венгрии.
Три года ожесточенной гражданской войны, навязанной советской России отечественным и иностранным капиталом, безуспешно пытавшимся вновь надеть на русский пролетариат и крестьянство ярмо эксплуатации, лишили российский пролетариат возможности восстановить в необходимом размере промышленность и транспорт Советской России, а, следовательно, сделали для него невозможным приступить к лучшему удовлетворению потребностей крестьянства в продуктах промышленности, опасность повторных нападений и необходимость содержать красную армию, достаточно сильную для охраны колоссальной границы Советской федерации, действовали и действуют в том же направлении.
При таких условиях разрыв связи между деревней и городом непрерывно прогрессировал, и деревня все более возвращалась к замкнутому самодовлеющему хозяйству.
Для крестьянства это означает прежде всего кризис оборудования, для города — кризис сырьевой и продовольственный (а отчасти и топливный — дровяной).
Разрыв связи города и деревни привел в последней к радикальному перераспределению производительных сил. Перераспределение производительных сил города было вызвано сначала мобилизацией промышленности, прерванной кратковременной демобилизацией конца 1917 — начала 1918 г., быстро сменившейся ремобилизацией, длившейся вплоть до 1921 года. Гражданская война и внутренний механизм зависимости отдельных отраслей промышленности друг от друга, а также от топливных ресурсов и транспортных условий, привели к гамме разнообразных уровней производства, начиная от нуля в меднорудной и кончая более высокой, чем до войны, в торфодобывающей. Длительная блокада сильно понизила продукцию экспортных отраслей хозяйства. Наоборот, изменение потребностей в результате исчезновения прежних господствующих классов и изменения потребностей трудящихся не имело еще возможности привести к соответственному перераспределению производительных сил города.
Перераспределение производительных сил деревни определяется почти исключительно разрывом связи между нею и городом. Сельское хозяйство стало терять товарный характер там, где оно его имело. Сильно пострадали (иные почти исчезли) различные отрасли технического земледелия: сахарная свекла, масличные растения, волокнистые растения, табак, цикорий и др., все испытали более или менее значительное сокращение. Значительно менее сократились зерновые хлеба и картофель. Резкому сокращению подверглось и промышленное животноводство, шерстяное (в особенности тонкорунное), мясное (особенно свиноводство), молочное. При этом по всем отраслям сельского хозяйства особенно значительно сокращение в тех районах, где соответственная отрасль носила товарный характер; напротив, там, где крестьяне вели чисто потребительское хозяйство и вынуждены были прикупать те или иные продукты сельского хозяйства, там сокращение продукции прекращается или даже сменилось повышением.
Разрыв связи между городом и деревней на почве неудовлетворения городом потребностей деревни вызывает стремление деревни заместить крупную городскую промышленность чем-либо иным. Такой местной заменой является кустарная и ремесленная, отчасти мелкофабричная промышленность, значение которой относительно по сравнению со значением крупной промышленности поднялось, хотя, разумеется, сравняться с последним не может.
Таким образом, поскольку крестьянин не впадает в старую самодовлеющую замкнутость, устанавливается связь между ним и кустарем или ремесленником, своего рода «короткое замыкание», оставляющее без живительного тока крупную городскую промышленность, хотя само по себе и недостаточное для удовлетворения потребностей крестьянства.
Разрыв связи между городом и деревней означает в то же время, подобно разрыву связи между двумя электродами, нарастание напряжения между ними, т. е. нарастание потребности в связи. Так как организованный подъем промышленности и транспорта оказался сорванным гражданской войной и блокадой, а вместе с тем острый период гражданской войны, когда капитал выбивали из всех позиций, в том числе и из торговли, остался позади, то ясно, что прежде всего напряжение должно было разрядиться в сфере связи города и деревни, частично натурализованной, а частично осуществлявшейся в форме нелегальной (вольной) торговли.
На крестьянском фронте товар отпраздновал в начале 1921 года свою первую победу над продуктом после многолетних непрерывных поражений: свобода торговли, провозглашенная сначала в рамках местного оборота, а затем и вне его, возвестила перелом на крестьянском фронте. Восстановление свободы торговли вне государственного хозяйства привело не только к перераспределению в пользу крестьянства продукции промышленности, но и к мобилизации недосягаемых для государственного учета запасов и к подъему недосягаемой для государственного регулирования мелкой промышленности и мелочной деятельности крупной промышленности. Словом, привело к оживлению связи города и деревни.
Реванш товара на крестьянском фронте привел через полгода к перелому и на фронте государственного хозяйства. Несложившаяся еще социалистическая организация государственного хозяйства, не вышедшая из переходного натурально-анархического периода, не обладала достаточной силой сопротивления, чтобы остановить происходившее со стихийной силой перерождение своих связей с крестьянством из натуральных — в товарные на своих границах, и инерция этого процесса привела к тому, что он распространился и внутрь государственного хозяйства: государственные предприятия и их объединения стали переходить на «коммерческие начала». В настоящее время товар торжествует победу над продуктом и на этом фронте, хотя здесь его победа отнюдь не полная.
Государственное хозяйство Советской России, удерживая многие формы, сходные с формами государственного капитализма, в то же время частично реорганизуется в формах, сходных с формами финансового капитализма. Частные же хозяйства переходят к обычным формам капиталистического и простого товарного хозяйства с той, конечно, разницей, что в России приходится иметь дело не с финансовым капиталом и капиталистическим государством, а с пролетарским государством и его хозяйственной организацией.
Победа товара на крестьянском фронте представляет, несомненно, длительный и положительный факт для Советской России, так как вызывается потребностями и деревни, и города и обещает восстановление связей между ними и вовлечение выпавших из народного хозяйства крестьянских хозяйств. Победа товара в крупном по самой своей технике обобществленном хозяйстве, конечно, не будет длительной, поскольку народное хозяйство Советской России начнет восстанавливать свои производительные силы. Но новое наступление продукта на этом фронте не будет таким всеобщим, как в героическую эпоху 1918–1920 гг. Противники поделят хозяйство Советской России на две сферы влияния: продукт утвердится в большей и важнейшей части государственного хозяйства, которая превратится в своего рода «государственно-социалистический» трест, контролирующий ряд других государственных, смешанных и частных предприятий путем «участия» в них или через организацию кредита, товаров остальной части государственного хозяйства и повсюду вне его и откроет новый поход на продукт в его затаенных убежищах среди разных уголков деревенской России. Таково вероятное ближайшее будущее.
Разыгравшаяся в Советской России трагическая борьба между товаром и продуктом полна значительности не только для России. Эта борьба будет воспроизведена в мировом масштабе и таит в себе в случае неудачного ее хода грозные опасности для человечества. Русская промышленность не нуждается в аграрном дополнении вне России. Западно-европейская промышленность (германская или английская) не может существовать без аграрного дополнения. «Короткое замыкание» по отношению к крупной промышленности Европы осуществляется (отчасти осуществлено) не столько путем развития в колониях, Китае и Южно-Американских Республиках мелкой и, следовательно, технически и экономически, вообще говоря, более слабой промышленности, сколько много более опасным для Европы путем развития туземной крупной промышленности и вытеснения европейского капитала японским и, в особенности, американским.
Западно-европейский пролетариат гораздо быстрее и прочнее осуществит переход к социалистической организации хозяйства, западно-европейское пролетарское государственное хозяйство будет много организованнее государственного хозяйства Советской России, но разрыв связи его с деревней, лежащей в значительной части за океаном и доступной (нередко более доступной) и для других, будет для него много опаснее, а восстановление этой связи много труднее.
Перспективы пролетарской революции в Европе были бы очень тяжелы и мрачны, если бы перед ней не лежала открытой возможность использовать не только уроки разыгравшейся в Советской России борьбы товара и продукта, но и самое Советскую Россию, аграрные возможности которой на многие десятилетия далеко превосходят ее индустриальные возможности. Пути спасения Европы от хозяйственного краха ведут все определеннее в Россию. Мы готовы предоставить европейскому капиталу часть наших естественных богатств разумеется, не даром. Но полной такая кооперация может быть только с другой, советской страной. Только пролетарская революция в одной из индустриальных стран окончательно закрепит победу пролетариата в России, точно также, как только пролетарская советская власть в России может обеспечить прочное торжество пролетарской революции, в индустриальных государствах Европы и окончательный выход из того тупика, в который завел Европу разлагающийся капитализм.
Проблема связи города и деревни в России перестает быть русской проблемой не только с формальной стороны, т. е. со стороны вырабатываемых ею методов и установленных ею типов связи между государственным хозяйством пролетариата (государственно-социалистическим трестом), и крестьянством непосредственно или через частные и «смешанные» торгово-промышленные предприятия, но и с материальной, т. е. количественной, стороны. От успешного разрешения этой проблемы, от того объема, в каком удастся вовлечь русское крестьянство в народное хозяйство России, зависит судьба не только России, но и Европы.
Успешное же разрешение требует: во‑первых, целесообразной организации связи города и деревни — в виду преобладания мелкого хозяйства в деревне, эта организация должна быть в основе своей организацией торговли, ибо основная связь с развивающимся мелким хозяйством возможна лишь, как связь рыночная; во‑вторых, целесообразной организации государственного (крупного) хозяйства, т. е. организации его, как «государственно-социалистического» треста с натурализованными отношениями внутри него и рыночными на периферии, целью которого является производство максимума потребительных ценностей, поскольку они потребляются внутри его, и максимума ценностей меновых, поскольку речь идет о его товарном фонде; в‑третьих, достаточной массы товаров, которая могла бы пустить в ход останавливающийся механизм товарообмена между городом и деревней в России.
Первые две задачи всей тяжестью ложатся на плечи русского пролетариата, который один держит в своих руках средства производства наемными рабами, при которых все еще остаются пролетарии всего остального мира. Эти задачи неимоверно тяжелы, потому что российский пролетариат живет и борется в очень отсталой стране, хотя, правда, с весьма концентрированной, а теперь и необычайно централизованной промышленностью. Они невероятно отягчаются непрерывным напряжением, в котором держит пролетарскую Россию мировой капитал своими осуществляемыми или замышляемыми блокадами, интервенциями и поддержкой гражданской войны, которую русские помещики, капиталисты и кулаки вели при поддержке и частью на службе наемников мирового капитала.
Третья задача не может быть разрешена с достаточной быстротой без помощи извне. От европейского пролетариата зависит, сумеет ли он посредством давления на капитал и капиталистические правительства добиться восстановления торговых связей России и Европы и кредита для России и тем самым ослабить, с одной стороны, напряжение, в котором европейский капитал держит пролетарскую Россию, а с другой — путем притока в Россию материальных средств создать возможность восстановления производительных сил русского сельского хозяйства в таком объеме, чтобы оно смогло стать аграрной базой не только русской, но и европейской промышленности. Ибо европейскую промышленность может спасти сейчас только такой рынок сбыта, который был бы одновременно и рынком сырья. Единственный доступный для европейской промышленности рынок, удовлетворяющий таким условиям, это — Россия.
От европейского пролетариата зависит, сумеет ли он к моменту своей неизбежной революции, которая обнажит и временно обострит разрыв связи европейского города с европейской и особенно внеевропейской деревней заблаговременно обеспечить достаточный подъем сельского хозяйства в Советской России, которое тогда — на некоторое время — одно только будет для него доступным, и тем облегчить в противном случае очень мучительные муки рождения Советской Европы. Этого требуют не только будущие (ближайшего будущего) интересы европейского пролетариата, но и интересы его настоящего: восстановление торговых связей с Россией и кредит ей (который, разумеется, будет реализован в кредитующей стране) означают ослабление кризиса и безработицы. А так как и капитал судорожно ищет средств ослабить кризис и, по возможности, выйти из него то его сопротивление подобному натиску пролетариата не будет слишком упорным.
Российский пролетариат, который после пятилетней трагической борьбы крепко держит в своих руках и политическую власть и основные средства производства, творя новые политические и хозяйственные формы и работал среди тягчайших условий первого этапа мировой пролетарской революции при непрерывных открытых наскоках и тайных кознях всемирного капитала, над восстановлением и подъемом производительных сил Советской России, на ⅘ крестьянской, борется тем самым не только за укрепление плодов своей собственной победы, но и за подготовку победы европейской и мировой революции пролетариата, которая, покончив с разлагающимся капитализмом, одна только может спасти человечество от грозящего ему хозяйственного краха и культурного одичания.
П. Месяцев.— Аграрный вопрос и аграрная политика
(В. Д. Бруцкус. — «Аграрный вопрос и аграрная политика».)
(Петроград, Издат. «Право» 1922 г.)
П. Месяцев
Проф. Б. Д. Бруцкус в связи с происходившим на днях Всероссийским Агрономическим Съездом и диспутом «Грядущее Сельск. Хозяйства», — приковывает к себе внимание не только специалистов-экономистов, но и широких общественных кругов. Цельность и определенность его аграрных взглядов, которые за время Революции поменялись чрезвычайно мало, невольно привлекает на его сторону часть народнической интеллигенции, не отличавшейся никогда ясностью своего миросозерцания (пример Н. П. Органовского на агрономическом съезде).
Будучи сторонником крупного землевладения и крепкого крестьянского хозяйства и высказываясь за предоставление неограниченной свободы не только рыночного оборота продуктов сельского хоз., но также и земельного оборота (продажа и залог земли), он тем не менее, как настоящий реальный политик, учитывает также и условия современного момента. В силу этого, высказываясь за отмену продналога и замену его денежным обложением, он учитывает, что в настоящее время отмена продналога невозможна и предлагает перейти к денежному обложению лишь тогда, когда изменившиеся экономические условия будут для этого благоприятны. То же самое относится и к земельному обороту: признавая правильным современное земельное законодательство, стремящееся создать прочность и устойчивость трудового землепользования, проф. Бруцкус считает его лишь первым шагом и настаивает на необходимости в дальнейшем провести полную свободу распоряжения землей путем разрешения аренды, залога, купли и продажи.
Заслуживает внимания и его аргументация, стремящаяся опереться на К. Маркса. Купля и продажа земли, по его мнению, необходима в интересах рабочих, давая им возможность выгодно ликвидировать свои земельные участки, а, следовательно, содействует пролетаризации в деревне с одновременным созданием крупного и крепкого сельского хозяйства. Этой же цели содействует и залог земли.
Борьба с дроблением земли, стремление создать крупное сельское хозяйство и обеспечить отход из деревни излишних рабочих рук на фабрики и промыслы — вот цель предлагаемой им земельной политики. Но и здесь он делает оговорку, что эта мера требует в качестве предпосылок устойчивости народного хозяйства и стабилизации денежной системы.
Кооперации проф. Бруцкус не придает серьезного значения и в своих выступлениях об ней почти совсем не упоминает, даже мелкий кооперативный кредит им совершенно замалчивается. Поэтому крупное землед. хозяйство рисуется ему, как единоличное землевладение, а земельный кредит — как кредит капиталистический.
Как искренний «сменовеховец», он на агрономическом съезде заявил, что политику творила не только коммунистическая партия, но весь народ в целом, который в целом и должен нести ответственность — но, идя в «Каноссу», он стремится повернуть руль современной политики Советской власти в направлении осуществления своих собственнических идеалов, пытаясь при этом даже доказать, что купля, продажа и залог земли отнюдь не противоречат национализации земли.
На фоне изложенного выше книга проф. Бруцкуса «Аграрный вопрос и аграрная политика» приобретает огромный интерес. Для коммунистической партии его взгляды любопытны еще и в том отношении, что по ним мы можем проверять правильность своей аграрной позиции.
Проф. Бруцкус любит часто ссылаться на Маркса, но, как видно из дальнейшего изложения, он понимает его чрезвычайно односторонне и берет из него лишь то, что гармонирует с его собственническим мировоззрением.
В предисловии к своей книге он указывает, что «партия, осуществившая октябрьскую революцию, прокламировала тот аграрный переворот, о котором мечтало русское крестьянство, о котором мечтала народническая интеллигенция. Колоссальная катастрофа голода, которая обрушилась на страну, теперь, кажется, всех убедила, что переделить землю не значит еще преодолеть аграрный кризис». Как видно из его выступления на агрономическом съезде, причиной голода в Поволожье он считает по преимуществу неправильную политику Советской власти.
О том, как коммунистическая партия в прошлом расценивала и рисовала себе аграрную революцию, имеется много указаний у т. Ленина. Достаточно напомнить хотя бы следующие цитаты из его статей: «Центральным фактом в области аграрных порядков России, — писал он еще в 1902 году, — мы признаем классовую борьбу. Мы строим всю свою аграрную политику (а, следовательно, и аграрную программу) на неуклонном признании этого факта со всеми последствиями, вытекающими из него. Наша главная ближайшая цель — расчистить дорогу для свободного развития классовой борьбы в деревне».
Объявляя классовую борьбу своей руководящей нитью во всех «аграрных вопросах», мы тем самым решительно и бесповоротно отделяем себя от столь многочисленных в России сторонников половинчатых и расплывчатых теорий: «народнической», «этико-социологической», «критической» и др.
Чтобы расчистить дорогу для свободного развития классовой борьбы в России вообще, и в русской деревне в частности, необходимо устранить все остатки крепостного порядка, которые теперь прикрывают зачатки капиталистических антагонизмов внутри сельского населения, не дают им развиться. И мы делаем последнюю попытку помочь крестьянству снести одним решительным ударом все эти остатки, — «последнюю потому, что и сам развивающийся русский капитализм стихийно творит ту же работу, ведет к той же цели, но ведет свойственным ему путем насилия и гнета, разорения и голодной смерти» (Заря № 4).
Даже в разгар аграрного движения наша партия по прежнему смотрела на свою программу, лишь как на начало. «Аграрную программу нашей партии (пишет т. Ленин) все равно придется довольно скоро опять пересматривать заново: и в том случае, если упрочится дубасовско-шиповская "конституция", и в том случае, если победит крестьянское и рабочее восстание. Значит особенно гоняться за тем, чтобы строить дом на вечные времена не доводится». «Это движение (революционно-демократическое крестьянское), как всякое глубокое народное движение вызвало уже и продолжает вызывать громадный революционный энтузиазм и революционную энергию крестьянства. В своей борьбе против помещичьей собственности на землю, против помещичьего землевладения, крестьяне с необходимостью доходят и дошли уже, в лице передовых своих представителей, до требования отмены всей частной собственности на землю вообще.
Что идея общенародной собственности на землю чрезвычайно широко бродит теперь в крестьянстве — это не подлежит ни малейшему сомнению. И несомненно также, что, несмотря на всю темноту крестьянства, несмотря на все реакционно-утопические элементы его пожеланий, эта идея в общем и целом носит революционно-демократический характер. Социал-демократы должны очищать эту идею от реакционных и мещанских социалистических извращений ее — об этом нет спора. Но социал-демократы поступили бы глубоко ошибочно, если бы выкинули за борт все это требование, не сумев выделить его революционно-демократической стороны.»
«Позиция социал-демократов в аграрном вопросе может быть в настоящее время, когда дело идет о доведении демократического переворота до конца, лишь следующая: против помещичьей собственности за крестьянскую собственность при существовании частной собственности на землю вообще. Против частной собственности на землю за национализацию земли при определенных политических условиях» (Ленин. Пересмотр аграрной программы 1906 г.). (Курсив мой. — П. М.).
Мы сомневаемся, чтобы этого не знал проф. Бруцкус, но он, очевидно, умышленно упращивает взгляды противников, чтобы создать более выгодную позицию для нападения.
Аграрную политику он мыслит как «систему государственных мероприятий, имеющих целью регулировать экономические отношения сельского хозяйства. Аграрная политика складывается под влиянием государственных потребностей и интересов стоящих у власти классов. Но, с развитием в новейшее время экономической науки, более просвещенные правительства стремятся использовать научно-обработанные материалы и добытые наукой выводы, чтобы их аграрная политика, интересам каких бы классов она на первом плане ни служила, одновременно содействовала наивысшему развитию производительных сил в сельском хозяйстве и благоприятствовала росту экономического благосостояния наиболее широких кругов сельского населения».
Определение чрезвычайно интересное, подход в достаточной мере широкий.
Однако, в дальнейшем изложении постановка аграрного вопроса им значительно суживается и трактуется лишь, как проблема земельно-хозяйственного устройства. Положительным является признание, что «аграрный кризис разрешается, конечно, не единственно в пределах сельского хозяйства; решающее значение имеет и общее развитие народного хозяйства».
Книга проф. Бруцкуса разбивается на 5 глав. После конспективной и местами односторонней характеристики основных течений аграрной политики в России и за границей (этому посвящена первая глава), он во 2‑й главе переходит к оценке аграрной эволюции в России и аграрной политики русского правительства, начиная с характеристики сельского хозяйства в эпоху крепостничества, применительно к отдельным районам и разрядам крестьян, подробно останавливается на условиях и порядке освобождения крестьян от крепостной зависимости, называя эту эпоху, как «эпоху великих реформ», затем переходит к оценке в сельскохозяйственном отношении периода со дня освобождения крестьян до революции 1917 г.
Основной причиной низкого уровня сельского хозяйства и тяжелого положения крестьянства проф. Бруцкус считает отнюдь не крепостническую закабаленность крестьянина помещиками и даже не малоземелье, а по преимуществу «аграрное перенаселение», которое он до сих пор считает «источником нашей катастрофы» (см. его доклад на Агрономическом Съезде). «Согласно господствовавшему до революции взгляду, — говорит он: — русский аграрный кризис есть результат неправильного распределения земельной собственности». «Крестьяне, — пишет он в другом месте, — причиной своего неудовлетворительного экономического положения считали недостаточность наделов. Подчиняясь этим настроениям народных масс, и русская интеллигенция, в лице господствовавших народнических течений, усматривала причину аграрного кризиса в недостаточности наделов, в "малоземелье". Это "малоземелье" признавалось необходимым устранить дополнительным наделением крестьян.
Однако, ближайший анализ понятия "малоземелье" приводит к убеждению, что оно бедно содержанием, и как способ объяснения такого сложного явления, как аграрный кризис, является несостоятельным»
«А. А. Кауфман, вникая в происхождение русского аграрного кризиса, пришел к выводу, что его причиной является в значительном большинстве случаев "относительное малоземелье", под которым он разумел плохое использование наличного земельного фонда (курсив мой. — П. М.), и сравнительно редко "абсолютное малоземелье", под которым он разумел объективную невозможность прокормиться от данного надела».
Проф. Бруцкус, конечно, не мог не знать, что по земельному обеспечению 30 тысяч помещиков (с владением свыше 500 дес.) имели земли столько, сколько, 10½ милл. крестьянских дворов, при этом свыше ⅓ крестьянских дворов имело на хозяйство от 3 до 10 дес. Помимо малоземелья, крестьянство страдало еще от чересполосицы своих владений с помещичьими землями, дальноземелья (нередко земля находилась в 15 местах и верст за 10–20 от селения), вклиниванья помещичьих земель («отрезки»), отсутствия лугов, пастбищ и т. п. Это и было главной причиной аграрного перенаселения и низкого уровня сельского хозяйства.
Выхода из этого положения он ищет в недрах помещичьего строя. «Однако, аграрный кризис нельзя объяснять, считаясь только с доходностью надельной земли, ибо благосостояние крестьянства может в сильнейшей мере зависеть от доходов, которые ему предоставляется возможность извлечь из окружающих вненадельных земель…» (курсив мой. — П. М.).
«Вненадельные земли могут служить для крестьянства арендным фондом»… «Но на вненадельных землях может быть организовано и крупное хозяйство, и тогда оно имеет значение для крестьянства, как источник заработной платы»… «Крестьяне могут извлекать доходы из сельского хозяйства, не только работая на соседних полях, но и работая в хозяйствах более отдаленного района; так, для крестьянства северного чернозема очень серьезное значение имел спрос на его труд со стороны хозяйства степной полосы»… «Но крестьянин не обязательно должен быть только сельским хозяином»… «В России крестьянская семья сплошь и рядом дополняет свои земледельческие заработки заработками промысловыми или на месте в, так называемой, кустарной промышленности, в лесных промыслах, или в отходе…»
Итак, по мнению проф. Бруцкуса, крестьянство могло бороться с упадком сельского хозяйства не уничтожением помещичьего землевладения и крепостнических кабальных отношений в деревне, а арендой, наймом на работу к помещику и кулаку, кустарными промыслами и отходом на сторону. Для него было не важно то обстоятельство, что нужда в земле побуждала крестьян очень дешево продавать свой труд и дорого платить помещику за арендуемую у него землю. По отношению к беднейшему крестьяству аренда служила новой кабалой, вследствие натуральной оплаты за землю, а отработочная система была всегда значительно выше денежной. Кроме того аренда увеличивала земельное неравенство в деревне, ибо от 50 до 84 % всей земли было сосредоточено в руках зажиточного крестьянства.
Что же касается наемной платы сел.-хоз. рабочим, то она была чрезвычайно низка: для 1910 г. в среднем 86 руб. годовому рабочему на своих харчах.
Из этих фактов становится понятным, почему крестьянство не было заинтересовано в сохранении помещичьего землевладения, а тем паче кабальных зависимостей от него. Если половина нетрудовых земель перед революцией была фактически в руках крестьянства, которое от этого должно было откупаться крупной арендной платой, а на второй половине земли работать за нищенскую плату, или получать за отработки, то какой же смысл был для крестьянства сохранять паразитическое в значительной части помещичье землевладение? Да и сам проф. Бруцкус вынужден констатировать, что «аграрное перенаселение вызвало в черноземной полосе разложение крестьянского хозяйства и окончательное превращение прежнего дворянина-хозяина в эксплуататора крестьянской нужды». По его мнению, революция 1917–18 гг. в России «произошла не на почве аграрной политики старого режима: ее вызвал распад народного хозяйства, вызванный войной» и благодаря этому «натурально-хозяйственная стихия стала хозяином положения». Он все же считал, что «кабальные формы аренды сами собой изживались уже накануне революции».
Временами он правильно учитывает, что осуществление аграрной программы всецело определяется классовым соотношением сил; так, он считает, что близкая для его мировоззрения аграрная программа партии народной свободы в революции 1905–6 г. не могла претвориться в жизнь: «осуществление ее означало бы окончательное лишение правящего дворянства его социальной базы, на что оно, конечно, не могло пойти. Такая реформа требовала перехода власти в другие руки, а этой предпосылки в данном случае не было, — революция не сумела выбить власть из рук дворянства: зато при победе революции шансы на успех имела только программа без компромиссов».
Это и случилось в октябре 1917 г. Однако, собственническое мировоззрение помешало проф. Бруцкусу правильно понять аграрную тактику коммунистической партии. «Получившая власть коммунистическая партия, — говорит он: — не была в силах осуществить своей социалистической программы, ей пришлось считаться с настроением крестьянских масс… В отличие от народнических партий, коммунистическая партия не создавала себе никаких иллюзий относительно творческой роли закона о социализации земли, но в тот момент партия творческими задачами и не задавалась». При этом он приписывает даже коммунистической партии стремление «равняться на нищету». «Коммунизм стоит на точке зрения отрицания частной предприимчивости в хозяйственной жизни… Коммунизм стоит за полное равнение крестьянства, которое должно путем "убеждения" подпасть под руководство социалистической власти; при этом лучше, если крестьянские хозяйства раньше сольются в артели и коммуны».
К русской общине проф. Бруцкус относится весьма отрицательно и считает ее главной причиной «аграрного перенаселения». «Несмотря на сознание экономической несостоятельности общины правительство и после реформы (1861 г.) для обеспечения тягла решилось укрепить этот институт», но община сама по себе способна вызвать аграрный кризис и может его избегнуть лишь «в условиях земельного простора или в условиях наличности внешней, крепостнической силы, регулирующей жизнь крестьянства».
«Технический прогресс несовместим с общинным землевладением»… «Община не создавала условий для культурного хозяйства»…
Поэтому становится понятным, что он приветствует все меры правительства, направленные к разрушению общины, а характеристике и оценке столыпинского землеустройства им посвящена особая, чрезвычайно интересная глава, касающаяся не только русского, но и иностранного землеустройства.
Останавливаясь на причинах сильного развития выхода на хутора и отруба (10,5 % всех крестьянских дворов), он считает, что здесь действовал один и тот же хозяйственный процесс уподобления земли капиталу, который «породил в своем последовательном развитии освобождение крестьян от помещиков и через 45 лет освобождение крестьян от мира; этим же объясняется и география выходов из общины».
По его мнению, «в процессе грядущего возрождения русского народного хозяйства вообще, и сельского хозяйства, в частности, хуторам и отрубникам суждено сыграть не последнюю роль».
При этом, отмечая, что «отношение социал-демократии к общине совпадало с правительственным», он на этот раз все же сумел правильно подметить и оценить разницу: «социал-демократия рассматривала процесс выделения крестьян из толщи однородного крестьянства, как начинающийся процесс дифференциации».
Однако, не на хуторах и отрубах проф. Бруцкус строит будущее сельского хозяйства в России, он строит его на интенсификации сельского хозяйства при помощи широкого развития земельного кредита.
Характеризуя деятельность Крестьянского Банка, проф. Бруцкус утверждает, что «правительству удалось в рамках свободного оборота организовать мобилизационный процесс значительного размаха в направлении, вполне соответствующем интересам народного хозяйства, и при том в интересах не привилегированной группы крестьян, а рядовых масс последних».
«Никто больше крестьянина не может выработать ценностей из земли, а при правильно организованном кредите земля тяготеет, именно, к трудовому крестьянству. Дифференциация крестьянства неизбежна, но она при нормальном развитии народного хозяйства идет совсем не в том направлении, в котором ее усматривают марксисты. Речь идет не о выделении из трудового крестьянства небольшой группы крепких хозяев и деградации остальной массы трудового крестьянства на ступень полупролетариев. При нормальном развитии народного хозяйства значительная часть прироста населения необходимо должна оставлять сельское хозяйство и даже оставлять деревню. Свободная продажа земли и хорошо налаженный ипотечный кредит этот процесс профессионального разделения облегчает».
По его мнению, и для настоящего времени «свободный оборот земли и свободно устанавливающиеся цены на нее имеют громадное значение для развития сельского хозяйства в соответствии с потребностями рынка и требованиями правильного распределения народного труда. Они прежде всего указывают на некоторый минимальный уровень интенсивности сельского хозяйства, который для каждого хозяина является обязательным. Правда, мелкие участки часто оцениваются слишком высоко, но это толкает сельское население, в соответствии с потребностями народного хозяйства, использовать свой труд на другом поприще. В противоположность земельному строю Западной Европы, отрицание в России свободной мобилизации земли, свободно образующихся земельных цен и всяких рентных платежей снимает с крестьянина ответственность за надлежащее использование земли — этого драгоценного народно-хозяйственного достояния; тем самым сельское хозяйство лишается важнейшего стимула для его развития в соответствии с потребностями рынка, и население теряет регулятор, необходимый для правильного распределения труда между различными отраслями народного хозяйства».
В противовес мнению проф. Бруцкуса о необходимости для сельскохозяйственного кредита свободного оборота земли (купли, продажи и залога) небезынтересно привести мнение другого экономиста А. И. Чупрова, который в своей книге «Мелкое земледелие и его основные нужды», изд. 1918 г. по вопросу о кредите пишет следующее: «Долгое время и в теории и в практике господствовало мнение, что единственною основою кредитоспособности служит обладание имуществом. У кого не было достатка, могущего обеспечить ссуду, тот признавался неблагонадежным относительно ее возврата. Оттого считалось, что кредит людям, не имеющим ничего, кроме рабочей силы, может быть построен только на благотворительном начале. Но более внимательный анализ кредитной сделки показал, что такие понятия основаны на недоразумении. При заключении кредитной сделки весь вопрос сводится к тому, способно ли предприятие, для которого занимается капитал, воспроизвести его с известной прибылью. Если существует твердое основание думать, что предприятие восстановит в заключении производительного процесса ссуженый капитал, то такое предприятие должно считаться и считается кредитоспособным, хотя бы у его хозяина не имелось не только имущества, равного по размеру ссужаемому капиталу, но даже никакого имущества. Условия правильного воспроизведения капитала заключаются частью в свойствах предприятия, частью в качествах заемщика: но если они налицо, то кредитоспособность предприятия не может подвергаться сомнению: в этом случае самый факт затраты капитала создает источник для оплаты долга» (курсив мой. — П. М.).
«Организация мелкого земледельческого кредита основана на применении кооперативного принципа. Если группа мелких заемщиков, ведущих жизнеспособные предприятия, обяжется нести круговую ответственность за целость и исправный возврат занятых на стороне капиталов, то кредитор может с полной безопасностью ссудить ей средства, хотя у должников не имеется никакого вещественного обеспечения».
Да и опыт Западной Европы показывает, что ипотечные долги не содействуют, а приводят к упадку производительных сил земледелия. Но из этого проф. Бруцкус выходит ссылкой на особые условия в Западной Европе, где «государству приходится заботиться не о том, чтобы многочисленное сельское население нашло себе достаточный заработок, государству приходиться заботится о том, чтобы сельское население, в погоне за более выгодными городскими заработками, не покидало массами деревень и не обессиливало тем сельского хозяйства». «Смущает обезлюдение деревни, потому что страны Западной Европы уже сейчас находятся в своем пропитании в зависимости от импорта, и что зависимость эта все усиливается, так что на случай войны, которая, в конце-концов, так-таки обрушилась на Европу, предвиделись серьезные затруднения с продовольствием. Наконец, как ни блестяще развивается промышленность Западной Европы, и в этом развитии замечаются заминки, кризисы, и представляется чем-то ненормальным если, при наличии известного кадра безработных, земля, которая могла бы впитать в себя труд значительного населения, надлежащим образом не используется. Вот те два мотива, один — классовый, а другой — государственный, которые двигают в настоящий момент земельной политикой большинства цивилизованных стран Западной Европы».
Полная свобода земельного оборота сейчас для нас неприемлема, потому что она противоречит идее национализации земли, которая остается одним из величайших завоеваний нашей революции; помимо этого, развитие этой меры противоречило бы интересам значительной массы крестьянства и рабочих, ибо при настоящих условиях упадка промышленности земля является единственным источником существования миллионов трудящихся масс.
Кредиту в сельском хозяйстве Советская власть придает огромное значение (ст. 9 резолюции по сел. хоз. IX Всеросс. Съезда Советов), но этот кредит может быть лишь государственным. Что же касается обеспечения за крестьянством использования затрат на улучшение земель, то это нашло себе отражение в последних земельных законах. В качестве одного из существенных мероприятий для борьбы с аграрным перенаселением он считает также переселение и колонизацию окраин.
Переходя к идеалам проф. Бруцкуса, необходимо отметить, что теперь этот идеал им мыслится несколько иначе, нежели до Октябрьской революции. Таким идеалом для него является трудовое крестьянское хозяйство, но с тем условием, чтобы ему была предоставлена возможность значительного территориального развития (от бедняков и рабочих он предлагает откупиться платой за их землю). «С народно-хозяйственной точки зрения, — говорит он: — целесообразным является развитие хозяйств не полупролетарских, а способных вполне использовать труд семьи, дающих избытки продуктов для рынка и создающих рынок для продуктов промышленности. Даже 25 дес. — небольшая земельная норма для таких хозяйств, а с более широким распространением пользования сел.-хоз. машинами, эта норма должна возрасти».
«С точки зрения капиталистической крестьянское хозяйство является нецелесообразной экономической организацией. Однако, крестьянское хозяйство отличается от капиталистического не только своими размерами но и качественно. Недаром и самый термин "крестьянское хозяйство" и в большинстве стран Западной Европы не вышел из употребления и даже утвердился в науке, хотя сословные грани, отделявшие некогда крестьян уже давно там стерлись.
Крестьянское хозяйство следует рассматривать преимущественно, как организацию, длительно обеспечивающую наилучшее при данных условиях народного хозяйства использование труда крестьянской семьи».
«Господство крестьянского хозяйства укрепляет экономическую позицию трудящихся классов и повышает емкость территории страны для населения».
В этом он сближается со сторонниками семейно-трудовой теории крестьянского хозяйства (проф. Чаянова, Челинцев и др.). Однако, товарное крестьянское хозяйство он мыслит, как переходящее постепенно в крупное капиталистическое хозяйство — в этом состоит его основной сельскохозяйственный идеал. И этим он отличается от экономистов ревизионистов и народников, но одновременно с этим он отличается и от марксистов.
Для нас также идеалом является крупное сельское хозяйство, но хозяйство социалистическое, и мы также вынуждены сейчас начинать работу с развития и укрепления трудового крестьянского хозяйства, но мы полагаем, что он пойдет не по пути кулачества и эксплуатации, а путем его трудового объединения в крупное хозяйство трудового типа в лице коллективов и производственной кооперации. К этому же будет толкать его развитие промышленности и применение электричества в сельском хозяйстве.
Книга проф. Бруцкуса «Аграрный вопрос» не является экономическим исследованием в области сельского хозяйства и даже научным обобщением в этой области, это скорее работа из области экономической политики и публицистики. Это необходимо помнить при ее оценке. Но, несмотря на это, она представляет все же весьма крупный интерес, как показатель того, каковы стали ныне идеалы прежних сторонников крупной земельной собственности.
Трибуна
О. Галустян.— Социалистическая академия и институт К. Маркса и Ф. Энгельса
О. Галустян
У нас имеется много заслуживающих большого внимания учреждений, о которых столь часто забывают говорить. К числу таких принадлежит Социалистическая Академия.
За все время революции в нашей периодической печати ей не было отведено почти ни одной строчки, за границей о ней знают и пишут больше чем в России. А между тем, как ниже убедится сам читатель, о ней можно и должно многое сказать. Поэтому мы считаем необходимым вкратце ознакомить наших читателей с этим богатейшим всероссийским и даже всемирным центром социалистической научной мысли.
Ниже мы приводим выдержки из немецкой газеты «Frankfurter Zeitung» которая пишет:
«Тому, кто в будущем захочет изучать историю социального движения, придется ехать в Москву. Во всяком случае он нигде не найдет такой огромной литературы в таком совершенном и систематическом виде, как в социалистической академии и в институте Маркса-Энгельса, которые приводятся в окончательный порядок под компетентным руководством Рязанова. И едва ли в другом месте можно найти такие удобства для научной работы. Обе библиотеки образцово разбиты на различные социальные области. И во всем том нет никакого фетишизма: институт Маркса и Энгельса отнюдь не музей различных вещей им принадлежащих. Подбирается только то, что имеет научный интерес и значение для духовного развития обоих мыслителей и их миросозерцания.
Россия, которая предприняла грандиозную попытку осуществления социализма, была, так сказать, обязана показать, что совершенный в стране переворот связан с колоссальным умственным трудом, проделанным в прошлом. Здесь учтены все источники, из которых образовался революционный поток. Что бы ни стало с советской республикой, она во всяком случае представляет собой явление такого огромного размаха, что она для социального исследования ближайшего и более отдаленного будущего будет неисчерпаемым кладом, документом неоценимого значения. И именно для этой цели академия и институт ставят своей задачей собрание по возможности более полной коллекции.
Только специалист сможет в полной мере оценить эти учреждения. Но я считаю себя настолько компетентным, чтобы заявить, что оба института организованы и оборудованы с такой деловитостью и серьезностью, что даже контр-революция в России остановилась бы перед ними с почтением. Правда, идея создания академии и института принадлежит убежденным сторонникам революции, но ни одна черточка не свидетельствует об односторонности убеждений, которая могла бы ослабить научный характер. Социалистическая академия, как коллегия, которая ставит в дальнейшем своей задачей научно-исследовательскую работу в духе социализма, не отступит от своей основной позиции[20].
Вполне справедливо. Благодаря энергичной работе Д. Б. Рязанова, в течение 3-х лет существования Социалистической Академии собрана одна из лучших в мире библиотек по социализму и марксизму.
Хорошо организованы кабинеты, посвященные отдельным вопросам. Так например: кабинет русского революционного движения, рабочего движения, идеологии интернационала, нелегальной литературы мировой войны и международной политики и т. д.
Единственным в мире книгохранилищем по вопросам научного коммунизма, теории, истории и философии марксизма, рабочего движения, а также по вопросам изучения экономики отдельных стран и областей народного хозяйства является институт Карла Маркса и Фридриха Энгельса, организуемый при Социалистической Академии по поручению Ц. К. Р. К. П.
Богатейшая литература, по всем перечисленным вопросам здесь представлена на всех западно-европейских языках.
Тот же автор пишет: «В институте Маркса и Энгельса прежде всего собраны в центральный кабинет труды Маркса, Энгельса и Лассаля, во всех изданиях. Нет еще "Рейнской Газеты", но то, чего нет, дополняется фотографическими снимками коллекций и экземпляров, имеющихся в других библиотеках. Здесь имеются также письма, дневники и т. д. К этому присоединяются особые кабинеты по истории социализма, как системы и теории, по истории экономических теорий Маркса, по философскому материализму, к вообще по философии, оказавшей влияние на мышление Маркса. Мимоходом укажу, что тут имеется, по-видимому, самое полное собрание книг для изучения Фихте. Тут имеется богатейший материал для изучения развития взглядов Маркса и Энгельса на государство и на внешнюю политику. Следует отметить один курьез. Исследователи Лассаля были крайне удручены тем обстоятельством, что составленное его современниками и друзьями" Dokumentarische Darstellung Lassales lezter Lebenstage" вышедшее в 1865 году, имеется лишь в двух несовершенных экземплярах. Последнего листа не хватало. Здесь в институте, имеется полный экземпляр этого источника. В институте, подобно тому, как это сделано в музее Карповале в Париже для французских революций — организуется отдел "иконографии", коллекция современных гравюр, воззваний, плакатов и т. д., характеризующих все социальное движение».
Библиотека института уже сейчас располагает такими ценностями, как рукописи К. Маркса и Ф. Энгельса, некоторые статьи их, вновь открытые, полные собрания их работ во всех изданиях.
Интернациональным богатством являются приобретенные в 1921 г. Д. Б. Рязановым в Вене знаменитые библиотеки Маутнера, проф. Грюнберга и ряд других.
Однако приходится отмечать также и некоторые минусы. Благодаря неудовлетворительной постановке дела снабжения литературой поступление последней в Социалистическую Академию происходит нерегулярно (месяца через 3–4 и более после выхода книги), а очень часто и совсем не поступает. Последнее особенно относится к ведомственной литературе издаваемой Наркоматами и их местными органами. Вследствие этого Социалистическая Академия лишена возможности поставить на должную высоту кабинет советского строительства.
Наши профсоюзы тоже забывают Социалистическую Академию.
Наряду с этим, считаем весьма необходимым и полезным отметить то обстоятельство, что многие ответственные члены нашей партии предоставили в полное распоряжение и собственность Социалистической Академии значительную часть своих библиотек.
В задачу Социалистической Академии и института Маркса-Энгельса входит разработка, изучение и издание трудов по вопросам научного социализма. Но в этом направлении сделано очень мало.
Вследствие этого мы являемся свидетелями такого факта, когда питерское отделение Госиздата при диктатуре пролетариата, когда нет более свирепых и глупых царских цензоров, издает скверно переведенный «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса под суррогатным заголовком «О коммунизме». Кому это нужно? Это только вводит в заблуждение рабочего читателя. Много книг недостаточно удовлетворительно переведенных, со времени октябрьской революции, как ни досадно признать, изданы несколько раз, в то время, как на громадный пробел по многим вопросам теории и философии марксизма не обращено никакого внимания.
Давно пора установить определенный срок, в течение которого труды основоположников научного социализма должны быть систематизированы, переведены, снабжены предметными указателями и образцово изданы.
И этим должен заняться в первую очередь институт Маркса и Энгельса, где последние представлены весьма богато.
Необходимо все лучшие теоретические и практические силы сконцентрировать в Социалистической Академии и институте Маркса и Энгельса, оживить работу, превратить их из ценнейшего книгохранилища в могучую научную лабораторию марксизма, где образованием кружков для изучения отдельных проблем молодые, практические работники партии сумеют «вооружить, закалить волю и мысль», подвести теоретически научный фундамент под практическую работу «в эпоху величайших мировых потрясений».
Л. Крицман.— «История Р. С. Ф. С. Р.»
Л. Крицман
Что история записана только в книгах — старый предрассудок. Кто захочет и сумеет, тот найдет историю прошлого запечатленной во многих иных видах. Палеонтолог читает историю земли, записанную костями и отпечатками животных и растений, археолог — историю человечества по утвари и орудиям разных племен, лингвист, — изучая корни слов различных языков. И все они, сравнивая прошлое с нынешним, читают, как по книге.
Мне посчастливилось открыть своеобразную историю Р. С. Ф. С. Р., которой я и хочу поделиться с товарищами. Она написана на небольших листках хорошей разноцветной и разукрашенной бумаги, и подлинность каждого листка удостоверена собственноручной подписью бывшего секретаря Ц. К. Р. К. П. и почти бессменного Народного Комиссара Финансов Советской России, тов. Н. Крестинского.
Открыл я ее по случаю получения жалования, выданного мне деньгами образцов 1919, 1921 и 1922 г.
Пятисотенный билет 1919 г. называется «Расчетный знак Российский Социалистической Федеративной Советской Республики». Так написано крупными буквами на четырех строках в левом верхнем углу билета. На другой стороне его красуется большой советский герб, единственное видное украшение, и под ним большими буквами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Та же надпись на шести языках — четырех европейских и двух восточных — красуется вверху, внизу и по бокам билета. Словом, перед нами гордое воззвание международного пролетариата.
Стотысячный билет — 1921 г. называется так же, как и пятисотенный билет 1919 г., и название отпечатано таким же крупным шрифтом. На видном месте и крупных размеров советский герб и никаких других мало-мальски видных украшений. Но помещенный под гербом лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» напечатан весьма мелким шрифтом. В глаза этот лозунг не бросается, хотя прочесть его можно. Зато интернациональные надписи на шести языках исчезли бесследно. Перед нами — документ Российской Советской Республики.
Двадцатипятирублевый билет 1922 года называется «Государственный денежный знак», «Социалистическая федеративная советская» не значится. Маленький советский герб совершенно теряется среди других крупных и пышных украшений. При очень большом рвении можно разглядеть на нем пять букв «РСФСР». Кто не разглядит их, тот не найдет никаких прямых указаний на то, что это денежный знак советской республики. Под гербом какая-то надпись, прочесть которую можно только при помощи лупы.
Надо надеяться, что в ней скрывается наш славный лозунг, брошенный в мир коммунистическим манифестом. Но его нельзя прочесть и по-русски, надписей на иностранных языках, конечно, нет. Это — документ республиканского государства, его государственный денежный знак.
На этом покуда история обрывается. Записная, конечно. Действительная, — та продолжается. И 1922 год не последний год ее. В 1917 году российский пролетариат доказал актом всемирно-исторического значения основную истину диалектики — что нет того расписания поездов, которое не менялось бы.
Мировой пролетариат докажет эту истину еще более основательно. Наша задача — помнить об опасности, о которой говорит рассказанная расчетными и денежными знаками история РСФСР, чтобы двенадцатый час мировой революции нашел нас на посту.
Именно помнить об опасности, отнюдь не предаваясь унынию, ибо при критическом рассмотрении приведенных выше исторических документов — а в критическом разборе нуждается каждый исторический документ — мы найдем, что заверенная авторитетной подписью история РСФСР отражает не нашу действительность в целом, а только одну из тенденций того диалектического процесса, который переживает сейчас наша советская республика.
Тут сказались, вероятно, и усиливающееся влияние непролетарских и некоммунистических элементов, стремящихся постепенно перейти границы своих технических функций, и стремление создать «настоящие», т. е. буржуазные, бумажные деньги, и желание быть «приличным» и не колоть понапрасну глаз интернационализмом, пролетарской диктатурой и другими неприятными вещами, и наконец, по-видимому, недосмотр переобремененных работой коммунистических руководителей.
Эта история с нашим советским гербом, именем пролетарской республики и коммунистическим лозунгом, обнажая одну из тенденций нашего развития, напоминает нам об опасности, грозящей находящемуся в буржуазном окружении пролетариату и призывает всех нас зорко смотреть вокруг себя, стоя па посту мировой революции пролетариата.
О. Музин.— Необходимое дополнение
(Отрывок из письма в редакцию)
О. Музин
Наш журнал, ставя себе задачей привлечение к активному участию на фронт идейной и теоретической борьбы с контр-революцией буржуазного идеализма и его эклектических подголосков — самых широких слоев коммунистической и пролетарской интеллигенции, должен помочь последним возможно лучше и основательнее готовиться и подготовиться к этой тяжелой борьбе. В журнале следует для этого ввести дополнительные отделы.
В первую голову следует давать систематические списки литературы, тезисы, конспекты, программы и обзоры для самостоятельного изучения проблем материализма и связанных с ним вопросов.
Дабы сделать доступными и понятными статьи журнала для пролетарского читателя, надо обязательно ввести объяснение иностранных слов. На первых порах можно ограничиться самыми употребительными в журнале научными и техническими терминами.
Необходимо также ввести постоянный отдел справок и переписки с читателями. Это послужит лучшей формой связи с материалистическими и марксистскими группами и кружками, расширение и укрепление которых журнал ставит своей задачей и фактическим органом которых он является. Этот отдел даст журналу также лучшую возможность своевременно и полно отражать и освещать те злободневные социальные и теоретические вопросы, которые выдвигаются жизнью и над разрешением которых бьется и болеет сознательная пролетарская и коммунистическая мысль.
Академик.— Какой должна быть «высшая марксистская лаборатория»
«Академик»
«Партиец» в статье о курсах, помещенной в первой книжке журнала, затронул вопрос о том, что они из себя представляют и чем должны быть. Но делал это вскользь, вопрос лишь наметив, но не дав ответа. Меж тем вопрос важный.
Курсы созданы по постановлению X съезда РКП и не могут не интересовать широкие круги партии. К сожалению, до сих пор было только так. Съезд вынес постановление, ЦК издало циркуляр, и этим ограничились. И постановление съезда, так и циркуляр ЦК очень мало что дают для уяснения характера самих курсов. Все это привело к тому, что на курсы присылали с мест не совсем подходящих товарищей.
Прежде всего о составе курсантов. Кого ожидали и кого приняли на курсы?.. «Партиец» пишет: на курсы набирались как видно (?!) товарищи, имеющие не только значительный партийный опыт, но и восприимчивые к теории».. Зачем это «как видно»? Или, что говорит фраза — «восприимчивые к теории»? «Но гарантирует ли значительный партийный опыт» и «восприимчивость к теории» от пестроты и разнородности?.. Отнюдь нет. Инициатор и организатор курсов т. Рязанов на этот вопрос отвечал и отвечает несравненно яснее «партийца». Он говорит: «На курсы принимаются товарищи, исполнявшие не менее чем в течение двух лет такие ответственные партийные обязанности, как секретаря комитета, редактора газеты и лектора партийной школы и выявившие склонность к теоретической разработке программных вопросов». Товарищ Рязанов, возбуждая на X Съезде Партии вопрос о курсах, имел в виду, что имеется ряд товарищей, разбросанных по всем уголкам Советской России, прошедших большую школу практической работы и сейчас пытающихся подвести итоги своему опыту и дать более глубокую теоретическую разработку того или другого, имеющего актуальное значение вопроса современности. Этих товарищей курсы должны научить методу научного исследования, помочь овладеть теми научными дисциплинами, в которых они чувствуют себя слабыми, и руководить разработкой интересующих их вопросов. Таким образом, «Партиец» неточен, когда говорит о том, что как будто только по выходе из курсов нужно будет вести «теоретическую работу». Самостоятельную работу должны были вести курсанты на курсах в стенах Соц. Академии, где они располагают всеми необходимыми материалами для серьезной научной работы. Что же касается того, чтобы вести научную теоретическую исследовательскую работу по выходе с курсов, то этому многим из нас вряд ли будут благоприятствовать обстановка и место. Такая постановка курсов как будто не нравится «партийцу». Из его разбивки на три группы мы видим, что товарищи, составляющие третью группу, пришли на курсы «подучиться» и «получить среднее марксистское развитие»; товарищи из первой группы тоже пришли подучиться, хотя это автором выражено в более «высоком штиле» — «получить высшее марксистское развитие» «в первой высшей марксистской "лаборатории" для дальнейших теоретических занятий уже на практической работе». Из заключительной части можно понять, что товарищи из III группы ошибочно попали на курсы, так как для чисто учебных целей есть ряд гораздо более подходящих учебных заведений.
В немилости у автора и вторая группа. Товарищи этой группы «склонны к академической научной работе, занимаются наукой отвлеченно», «молодые партийные товарищи мало интересуются актуальными проблемами» и проч. и проч… Автор статьи не может прямо и ясно выразить свою мысль, из всей его статьи вытекает, что «созданы курсы» для первой группы — «профессиональных партийцев». Для них как будто не нужна «склонность в академической научной работе», от них лишь требуется «восприимчивость к теории» и только.
Мы же полагаем, что для пребывания на курсах необходимо иметь как качества первой группы, так и второй, склонность к научной работе в первую очередь.
Бор. Волин.— Редактору журнала «Под знаменем марксизма» тов. Теру
Бор. Волин
Дорогой товарищ!
Как старый большевик и партийный литератор я не могу не приветствовать твою инициативу в деле издания такого типа журнала, отсутствие которого ощущалось многими во все долгие годы Революции и потребность в котором теперь почувствовала вся наша Партия целиком.
Я не стану здесь делать оценку твоему журналу (не твоему, а нашему журналу, ибо он должен стать нашим органом). Это я сделаю на страницах «Рабочей Москвы», которую я редактирую. Но я хочу обратить твое внимание на одно обстоятельство, которое, я надеюсь, ты учтешь и из которого ты сделаешь соответствующие выводы.
Как предисловие, так и подбор статей первой книжки журнала на меня произвели впечатление, что он сознательно предназначается для достаточно квалифицированного марксиста. Редакционная статья говорит: «мы борцы, наш журнал — журнал борьбы за материалистическое мировоззрение, наш орган — орган полемики». А вести борьбу при наших условиях надо, конечно, достаточно заостренным оружием, а пускаться в полемику нам можно только с безусловно отточенной марксистской мыслью.
С этим нельзя не согласиться, этого нельзя не приветствовать.
Но вместе с тем та же редакционная статья обращает внимание и на следующее: «Великая революция всколыхнула массы, выдвинула на передовые позиции революции широкие слои рабочих и крестьян, влила в ряды авангарда революции — РКП — сотни тысяч молодых членов, которые в огне и буре революции прекрасно научились бороться, но которым еще нужно пройти закаляющую школу марксовой философии, чтобы стать стойкими, уверенными и несокрушимыми коммунистами».
Вот на это обстоятельство я и хочу обратить твое внимание. Жажда знания, доподлинного революционного знания в рядах нашей Партии огромная. Жажда изучения Маркса и марксизма неутолимая. Ни школа, ни отдельная книга, конечно, не могут удовлетворить члена партии, находящегося в беспрерывной борьбе, откликающегося на бесконечные запросы жизни. Это может и должен сделать журнал. И журнал именно такого типа, как «Под Знаменем Марксизма». Пока единственный в своем роде журнал.
И чтобы оплатить тот вексель, который тобою выдан вышеприведенной цитатой, я полагаю необходимо завести отдел в журнале, который включал бы в себя регулярно и постепенно всю нашу литературу, посвященную вопросам исторического материализма. Во-первых подробная библиографическая оценка. Во-вторых — указания для выяснения каких вопросов общепринципиальных или текущей злободневной политики, какая книга, или какая глава особенно пригодны. Этот отдел должен стать некоторым рабфаком для уразумения основной марксистской премудрости, которая в журнале будет выявлена в форме ли углубленного философского анализа определенных явлений, или в виде блестящего заостренного, с приближением к марксовскому стилю, памфлета.
Я надеюсь, что это мое товарищеское указание, вызванное исключительно желанием, чтобы возможно скорее и правильнее сотни тысяч пролетариев-коммунистов приобщились к тому методу, который в свое время дал вам, старшему поколению революционных марксистов, возможность правильно оценивать «текущие моменты» и соответственно каждому из них выбирать из нашего богатого арсенала массовой пролетарской борьбы наиболее целесообразное, но всегда острое, всегда меткое коммунистическое, большевистское орудие.
С Коммунистическим приветом
Библиография
М. Чернов.— «Мысль № 1»
«Мысль № 1» — журнал Петербургского философского общества под редакцией Э. Л. Радлова и Н. О. Лосского №1, 1922 г
М. Чернов
После долгого молчания разрешились своим печатным органом и знаменитые «вольфилы» (вольная философская академия). Редакционное предисловие выпуска журнала оправдывает желанием философов «увидеть свои произведения в печати, дабы они были подвергнуты обсуждению и принесли заслуженную славу или известность их авторам». Ничем иным, как желанием авторов заслужить известность, нельзя объяснить выпуск журнала. Нужно заметить, что цель, поставленная редакцией, достигнута в полной мере и не нуждается в выходе второго номера. Заслуженную известность авторы статей могут за собой считать упроченной. Правда это — известность несколько своеобразная, напоминающая известность чеховского героя. Тот получил для себя известность после того как попал на страницы «Полицейских ведомостей»; «вольфилы» — после выхода «Мысли».
Хотя журнал и обещает «беспристрастно служить всевозможным направлениям философии», но по существу автор всех статей первого номера — люди одного лагеря; их объединяет одно значительное обстоятельство: — все они лишены здравого смысла. И это не случайно. Один из авторов Болдырев Н. В. считает отказ от здравого смысла обязательным условием для философа. Трудно удержаться, чтобы не выписать эти замечательные строки из его статьи: «для открытия подлинного бытия, пишет он, для начала философствования, т. е. для освобождения от обманчивого и коварного здравого смысла, надо вырваться из мира привычной реальности, надо испепелить, взорвать, уничтожить вещи, погрязшие в половинчатой объективности. Отказ от здравого смысла — первое условие успешного философствования... Философия — катастрофа здравого смысла».
Другая особенность журнала — это особенность так называемых чистых философов: схоластический, отвлеченный, отличающийся неудобоваримостью язык их философствования.
Едва ли стоит нам вести спор с ними по существу затронутых вопросов, мы материалисты, они сторонники заумной философии. Нас интересует в этом журнале облик «вольфильствующей» интеллигенции, которая на фоне развернувшейся мировой борьбы в первом же своем выступлении обнаружила глубокий упадок.
Последовательные материалисты всегда утверждали, что идеализм, независимо от его различных оттенков, является религиозным мировоззрением. Вольфилы прежде всего откровенно это и признают: «Всякая более или менее продуманная и глубокая философская система приводит нас к идее абсолютного бытия или Бога» (Карсавин). Поскольку последовательный материализм, основанный на науке, они не считают за философию, постольку замечание Карсавина относится к идеалистическим системам.
Введя в свои философские теории в качестве «обязательно присутствующего» бога, вольфилы вычеркивают себя из среды работников науки; Какая же может быть наука там, где на престоле посажен бог, в виде «абсолютного бытия», который не подчиняется никаким объективным законам, разрешая все противоречия по своему капризу. Их теории можно принимать на веру. Но для этого необходимо лишить человечество всех достижений науки, возвратиться в состояние первобытного «святого невежества». На это способны вольфилы; другим это дается не так легко.
Посадив в центре своих теорий божество, не трудно договориться и до спиритуализма. До него вольфилы и договорились. В статье «О свободе» Карсавин излагает теорию ни о чем ином, как о данности будущего. «Душа всевременна. Ее будущее так же в ней и так же она сама, как и ее прошлое и ее настоящее», пишет он. Из данности будущего он выводит и свое понимание свободы, которое является ничем иным, как старым фатализмом. Фатализм сейчас вообще находит хороший прием у умирающего буржуазного мира. Свою идею о данности будущего Карсавин стремится доказать длинными теоретическим рассуждениями, которые могут быть убедительны для кого угодно, только не для людей, сохранивших здравый смысл. Весьма интересна, для характеристики упадочности современной буржуазной мысли, другая цепь доказательств. Карсавин не довольствуется отвлеченными рассуждениями для доказательства правильности своей мысли. Он ищет жизненных, конкретных подтверждений и находит их в религиозных пророчествах, в спиритических сеансах, в предсказаниях ясновидящих медиумов. «Религия ссылается, — пишет он, — на случаи пророчества и видения будущего; она допускает данность его святым. Если добросовестно отнестись к сообщениям о подобных фактах, ясно, что речь идет о безошибочном и точном ясновидении во времени и видении неотвратимого». Карсавин приводит ряд предсказаний; особенно ссылается на предсказания Нострадамуса. Вся эта галиматья приводится в подтверждение философской теории о данности будущего.
После этих бессмысленных теорий ничего иного не остается для вольфилов, как продолжать свое дело гадания на кофейной гуще о том, скоро ли падут ненавистные большевики.
Едва ли стоит передавать другие факты. Все они в большей или меньшей мере представляют подобный же бред людей, желающих уйти от действительности и найти от нее спасение в отвлеченных хитросплетениях, отказа от реального мира, мистицизма и пр.
Отсюда все качества, которые роднят идеалистическую философию с религиозным мировоззрением первобытного дикаря. В существе своем они однородны. Если религиозные представления первобытного (в широком значении этого слова) человека отличались конкретностью: его богом был старик с седой бородой; то религиозные представления идеалистов имеют отвлеченный характер: только в этом разница форм религиозных представлений, в существе же полное сходство.
Сегодня религиозность буржуазной идеологии усиливается и принимает самые нелепые формы на закате капиталистического общества. Ведь объективные законы существуют, как обязательные для всех, и они с неумолимой неизбежностью предрекают гибель капитализму. Вырваться из них никак нельзя. Отрицать их после опыта русской революции, которая привела к тому, что зашатала весь мировой капитализм, тоже нельзя. Что же остается для связанных своей судьбой с капитализмом? Где найти противодействие неумолимым законам развития? Нужно пройти мимо них, нужно заняться самообманом, позабыть о жестокой для старого мира действительности. Этим легко было убаюкать себя прежде до мировой войны и революции. Различные идеалистические системы гашиш прекрасно заменяли. Теперь, когда шатается весь старый капиталистический мир, готовый свалиться в могильную яму, одного гашиша мало. Что же остается делать? Уйти от здравого смысла. Пусть мысль бьется в самых кричащих противоречиях. Эти противоречия существуют для здравого смысла. Для людей, отказавшихся от здравого смысла, замечать противоречия — не обязательно: всякий сходит с ума по-своему.
Н. Мещеряков.— Библиотека материализма
Н. Мещеряков
Оппортунистическое крыло социал-демократии никогда не любило материализма. Оно всегда чувствовало тяготение к идеализму. Ведь под завесой идеалистического тумана так легко, так удобно протаскивать в программу и в идеологию партии всякую реакционность. Немудрено, что оппортунисты социал-демократии всегда искали какого-нибудь профессора, философа, идеалиста, который должен был подменить в учении марксизма его философскую материалистическую основу каким-нибудь модным идеалистическим учением. В семидесятых годах такие надежды возлагались на Дюринга. Со времени возникновения бернштейнианства вождями оппортунизма был провозглашен лозунг — «назад к Канту!» В начале текущего столетия и в России и в Германии властителями дум социалистов-оппортунистов стали Мах, Авенариус и Оствальд.
Но вся эта работа подмена революционной материалистической философии Маркса и Энгельса слащавым, туманным, поповским идеализмом совершалась в те времена очень робко и осторожно. Время открытого ренегатства тогда еще но наступало.
Но начавшаяся пролетарская революция ребром поставила все вопросы и сдернула все маски. Шейдемановцы вошли в прямые соглашения с буржуазией, превратившись в ее верных лакеев. Они привыкли предавать интересы пролетариата на каждом шагу. В борьбе против революционного пролетариата они привыкли прибегать ко всяким средствам вплоть до расстрелов и убийства из-за угла. А раз они обнаружили такую смелость в области дела, им нечего стесняться в области слова и мысли. Глубоко революционное учение марксизма привело к глубоко-революционному движению пролетариата. Для социал-предателей нужно подавить это последнее. Но этого мало. Нужно подрезать идеологические корни этого движения. А для этого нужно решительно подменить революционно-материалистическую основу учения научного материализма. Нужно облечь идеологию партии каким-нибудь идеалистическим туманом, под завесой которого так удобно будет подменить принцип революционной массовой борьбы практикой сотрудничества классов для защиты интересов буржуазии. После кровью пролетариата записанных измен Носке и Шейдемана смешно было бы останавливаться перед изменами социализму в деле идеологии.
Нечего удивляться поэтому, что в настоящее время германские социал-демократы (шейдемановцы) приступили к такому пересмотру основ своей идеологии в направлении перехода от материализма к идеализму. Эту работу они поручили профессору философии кантианцу Форлендеру.
Так происходит в Германии, где социал-демократия была воспитала на учении исторического материализма Маркса и Энгельса. С социал-демократиями и прочими социал-предателями других стран дело обстоит еще хуже. Вандервельдам, Макдональдам, Гендирсонам и их собратьям нечего и пересматривать философские основы своей идеологии. Они никогда не были материалистами. Они просто будут продолжать свою идеалистический болтовню.
Революционное крыло пролетариата, наоборот, должно в настоящее время пересмотреть всю свою старую идеологию с тем, чтобы выбросить из нее все, что было тайно и явно внесено в нее теми оппортунистами, которые до революции стояли во главе рабочего движения. Здесь тоже нужен пересмотр старой идеологии, но он должен совершиться в обратном направлении. Здесь надо вытравить остатки идеализма и укрепить и развить строго материалистические основы миросозерцания.
В этом направлении и предпринимает работу Государственное Издательство. .
Оно приступает теперь к изданию ряда книг по философии материализма. Все эти книги будут объединены в одну серию под заглавием «Библиотека материализма». Организация работ и общая редакция поручены тт. Л. И. Аксельрод-Ортодокс и т. Деборину.
В настоящее время уже намечен ряд книг, которые войдут в эту серию. Вот некоторые из этих уже намеченных книг:
| Де Ламетри | «Человек-машина» |
| " " " | «Человек-растение» |
| " " " | «Речь о счастье» |
| " " " | «Система Эпикура» |
| Гельвеций | «De l'homme» |
| " " " | «De l'esprit» |
| Гольбах | «Система природы» |
| " " " | «Système social» |
| Дидро | «Избранные сочинения» |
| Гоббс | |
| Дю Буа Реймонд | «Речь о де Ламетри» |
| Фейербах | Избранные сочинения |
Некоторые философские работы Плеханова. Л. И. Аксельрод-Ортодокс «Критика субъективных течений в современной философии».
Несколько книжек по философии современного естествознания со статьями Больцмана, Планка, Риги, Томсона и др.
В более далекой очереди намечены работы философов-материалистов древности: Демокрит, Лукреций, Эпикур.
В первую очередь будут изданы некоторые работы Де Ламетри, речь дю Буа Реймона (перевод ее в свое время был проредактирован Г. В. Плехановым), сборник статей Ортодокс и некоторые работы Плеханова.
Первые книжки серии начнут появляться уже через 2–3 месяца.
Вл. Сарабьянов.— О собрании сочинений Г. В. Плеханова
Вл. Сарабьянов
На днях Социалистическая Академия сдает Государственному Издательству для печати три первых тома собрания сочинений Г. В. Плеханова. Всего готово к изданию и, вероятно, в ближайшее время поступит в Гос. Изд. восемь томов.
Издание редактируется товарищем Д. Б. Рязановым.
Вот содержание восьми томов:
Том I
- Предисловие редактора; 2) Предисловие Г. В. Плеханова к I тому собр. соч. 1905 года; 3) Корреспонденции (из Земли и Воли); 4) Закон экономического развития общества и задачи социализма в России; 5) От редакции «Черного Передела»; 6) Передовая статья изд. №1 «Черн. Пер.»; 7) Передовая статья из №2 «Ч. П.»; 8) Поземельная община и ее вероятное будущее; 9) Об издании русской социальнореволюционной библиотеки; 10) Новое направление в политической экономии; 11) Предисловие к первому изд. «Манифеста Комм. Парт»; 12) Воспоминание о А. Д. Михайлове; 13) Экономическая теория Ротбсртуса-Ягецова; 14) «А. И. Щапов». Приложения: Письма к П. Лаврову; Программа «Земли и Воли»; Адрес студентов ф.-Палену; Письма (коллективные) в ред. «Общ. Дело» и Драгоманову.
Том II
- Об издании «Библ. Совр. Соц.»; 2) Социализм и политическая борьба; 3) Наши разногласия; 4) Современные задачи русских рабочих; 5) Предисловие и Приложение к русс. перев. брош. Дикштейна «Кто чем живет»; 6) Предисловие к русск. переев. брош. Маркса «Речь о своб. торг.»; 7) Проект программы Гр. Осв. Тр. 1884 г. 8) Ф. Лассаль; 9) Предисловие и примечание к русскому переводу брошюр «Чего хотят соц.-дем.»; 10) Проект программы Гр. Осв. Тр. 1888 г.; 11). Политические задачи русских социалистов. Приложение. Список изданий «библ. Совр. Соц.»
Том III
- Как добиваться конституции; 2) Неизбежный поворот; 3) По поводу брош. Л. Тихомирова; 4) Горе г. Тихомирова; 5) Столетие Великой революции; 6) Русский рабочий в революционном движении; 7) Внутреннее обозрение из «Соц.-Дем.»; 8) Всероссийское разложение; 9) О задаче социалистов в борьбе с голодом; 10) Предисловие к брош. «Речь П. Алексеева»; 11) Иностранное обозрение из «С.-Д.»; 12) Речь на Париж. Междун. Соц. Конгр.; 13) Первое мая 1900 г.; 14) Ежегодный всемирный праздник рабочих; 15) Предисловие к брошюре «I/V 1891 г.»; 16) Рецензии и библиографич. заметки из «Соц.-Дем.» и «Соц.» №1.
Том IV и V — Н. Г. Чернышевский.
Том VI
- О социальной демократии в России; 2) Анархизм и социализм; 3) Сила и насилие; 4) К вопросу о развитии монистического взгляда на историю; 5) Несколько слов нашим противникам; 6) О. Тьери и материалистическое понимание истории.
Том VII
- Предисловие к первому изданию брош. Энгельса «Людвиг Фейербах»; 2) Предисловие к бр. Ф. Энгельс «Ответ Ткачеву»; 3) Перевод его статьи из «V. Z. Russland für eine Regimeveckel»; 4) Обоснование народничества в трудах г. В.В.
Том VIII.
- К 60-летию смерти Гегеля; 2) Перевод его книги на нем. яз. Beiträge zuc Geschehte des Materialismus; 3) О материалистическом понимании истории; 4) Нечто об истории; 5) Несколько слов в защиту эконом. материал.; 6) О роли личности в истории.
Это содержание ни в какой мере нельзя считать окончательным, ибо ряд его статей из французских и немецких изданий (Vorwärts, Socialisme et la lufte de classe и др.) не включенных в этот список, будет включен (что и задержало сдачу готовых томов в печать).
Материал расположен в хронологической последовательности и лишь в исключительных случаях (тт. IV и V а также т. VII) делаются незначительные отступления.
От редакции. Мы вместе с нашими читателями с нетерпением ждем выхода собр. соч. Г. В. Плеханова. Такие тома, как VIII, в который входит замечательный труд Г. В. «Введение к истории материализма» ни разу в целом виде по-русски не появлявшийся, сегодня бесценнейший подарок коммунистической молодежи. Но мы должны со своей стороны предъявить требование к редакции собр. соч., чтобы она параллельно с выпуском этого капитального издания занялась одновременно изданием сборников его статей по философии, социологии и т. д. и научно проработанным и снабженным примечаниями переизданием таких его трудов, как «Основн. вопр. марксизма». «Введение к истории материализма» и т. д. и т. д. Ибо те издания, которые имеются, ни в какой мере не удовлетворяют нашу молодежь. Редакция должна ускорить работу по выпуску готовых восьми томов и дальнейшей подготовке последующих томов.
Ред.
Вл. Сарабьянов.— Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса
Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. — Том VI первая часть (третьего тома «Капитала»), Москва, Госуд. Изд. 1922 г. стр. 448
Вл. Сарабьянов
Госуд. Издат. выпустило VI том собрания сочинений Маркса и Энгельса, содержащий в себе первый полутом III тома «Капитала»; выход этого тома — настоящий подарок для нашего марксистского читателя, ибо старого (1908 г.) издания комплект, ставший уже библиографической редкостью, невероятно поднялся в цене и стал почти совершенно недоступным, а издание Госиздата было неполное. Надо думать, что Госиздат в короткий срок выпустит второй полутом.
Внешность этого тома несравненно лучше, а уж во всяком случае впечатление от него гораздо более благоприятное, чем от III тома собр. соч.: бумага белая, хотя целлюлозная, обложка плотная, брошюровка очень непрочная, но аккуратная. Что неприятно режет глаз — это обилие опечаток: Список их занимает четыре страницы!
Мы с нетерпением ждем выхода дальнейших томов.
Р. Ковнатор.— О Г. В. Плеханове
О Г. В. Плеханове. (Ст. А. Ильинский. Г. В. Плеханов и 3-е отделение, Былое, № 15, 1920. Ст. О. В. Аптекмана. Из воспоминаний о Г. В. Плеханове, как семидесятнике. Былое, № 16, 1921)
Р. Ковнатор
Г. В. Плеханов очень рано начал свою революционную деятельность. Уже в середине 70-х годов он играл выдающуюся роль в жизни землевольческой организации.
Естественно, что на него обратило свое внимание и 3-е отделение. Но долго полиция не могла напасть на его след. Об участии Плеханова в знаменитой «казанской» демонстрации полиция ничего не знала до конца 70-х годов. Только в 1879 году, когда довольно широкая деятельность Плеханова в петербургской рабочей среде была замечена, за ним стали наблюдать.
Было потрачено много энергии, чтобы «выследить» его.
Плеханов, как «свадебный генерал» включается полицией в каждое более или менее серьезное дело. Так Плеханову, на ряду с Дейчем, Стефановичем, Бохановскнм, — приписывается участие в Чигринском деле, — он же упоминается в связи с арестом ряда лиц и т. д.
Только в 1880 году от Жаркова полиция получает точное описание наружности Плеханова. Описание это заключает в себе и некоторые чисто бытовые и индивидуальные черты: прихрамывание, размахивание руками и так далее.
В этом донесении впервые появились определенные сведения и о революционной деятельности Плеханова. Но в то время Плеханов числился уже в заграничном списке русских эмигрантов, и около его имени, лишь по инерции значилась пометка жандармской руки «разыскивается».
А. Ильинский указывает, что Департамент Полиции, сменивший после 81 года 3-е отделение, также не упускал из виду Плеханова и «в его делах мы находим более подробный политический, полицейский, биографический материал». Но и в скудных материалах 3-го отделения есть «ценные указания Жаркова, по которым можно, хотя немного, установить фактическую сторону дела. Это пребывание Плеханова в Саратове в 1877 и 1878 годах, арест его там и бегство после подписки о невыезде, его поездка в 1879 г. в Киев»... Действительно, все эти моменты из жизни Плеханова очень мало известны, и потому разработка этих материалов была бы крайне важна.
Статья А. Ильинского в общем написана объективно. Тем более досадное впечатление производят некоторые быть может и невольные выражения автора. Так, например, он говорит: «В то время (т. е. 80 г.) у Плеханова созрела мысль уехать за границу, где бы его меньше тревожила сгущенная атмосфера, какая была в России».
Плеханов уезжал за границу вовсе не за тем, чтобы освободиться от «тревожной» русской обстановки, за границей он испытывал и нужду, и лишения и, наверное, не мало тревог и забот.
Любовью и какой-то интимной теплотой веет от небольшой статьи О. Аптекмана.
Его знакомство с Плехановым относится в 1875 году. Он вспоминает об этом: «Плеханов был самый молодой среди нас. Но уже и тогда он выделялся своей эрудицией, гибким острым умом и живым, с огоньком, словом». Во всем его облике «что-то свое, вызывающее, горячее. Чуется талант, способность в самостоятельному мышлению. Чувствуется темперамент.
Видимо, много работает. В комнате, на полках, на столе — книги по общественным, вопросам. Но, видно, много работает и по своей специальности (Плеханов был тогда студентом Горного Института): комната вся уставлена химическими принадлежностями: снарядами, ретортами, колбами, банками и проч.»...
О. Аптекман дает ряд интересных штрихов относительно работы Плеханова в 77 году в Саратове, о его порывах уйти в «народ» и шагах, правда, неудачных, сделанных в этом направлении Плехановым в Аткарском, уезде. Несколько же штрихов и относительно работы в Питере, где Плеханов в 77–78 гг. играл «первую скрипку» в работе, как среди учащейся молодежи, так и рабочих.
Несколько раз, очевидно, как наиболее характерное, автор статьи упоминает, как много Г. В. работал над собой, как много и с каким выбором он читал.
«Работа его отличалась высокой производительностью. Я никогда не видел его праздным, мечтающим, в состоянии folce barniente. Не любил он пустых разговоров, не выносил он фразы, красивых жестов. Беседовать — значило для него мыслить вслух, сообща, причем эта беседа была обворожительна, как по содержанию, так и по форме».
Уже почти 4 года, как умер этот замечательный человек, бессмертная заслуга которого заключается в том, что он «открыл» русский рабочий класс.
4 года. И, кажется, что кроме двух рецензируемых статей во всей нашей литературе не появилось ничего о Плеханове.
Правда, в №1 журн. Истпарта «Пролетарская Революция» Н. А. Семашко в своих воспоминаниях останавливается и на Г. В. Плеханове.
Делает он это мельком. Это немногие строки, посвященные Плеханову, оставляют тяжелое впечатление. По злой насмешке истории, Г. В. умер чужим и даже враждебным рабочему классу и его партии. За время революции, советскими издательствами в интересах культурной пропаганды выпущены биографии Врубеля и Верхарна, и ни одной биографии, ни одного очерка, посвященного Плеханову, талантливейшему и прекраснейшему представителю «воинствующего марксизма». Нам думается, что давно, уже настало время «помирить» рабочий класс с его первым пророком Г. В. Плехановым.
Соц. Академия теперь предпринимает издание его сочинений. Но оно, естественно, не будет полным, так как издателям совершенно не доступен архив Плеханова. Мы думаем, что было бы целесообразно, если бы центральные органы Советской власти и нашей партии предложили семье покойного вернуться в Россию и все то, что осталось после смерти Г. В. Плеханова, сделали бы достоянием тех, кто больше всего имеет на это право.
На страницах нашего журнала уже упоминалось о необходимости опубликовать переписку Г. В. У наиболее старых членов нашей партии, из которых многие были его друзьями, соратниками и учениками, наверное хранится не мало писем Плеханова, воспоминаний о нем и проч.
Наша партия создала великолепную научную лабораторию по изучению марксизма: Социалистическую академию и институт Маркса-Энгельса.
Было бы хорошо, если бы при одном из этих учреждений был создан специальный кабинет по изучению Плеханова, по собиранию материалов для его биографии, собиранию его переписки и прочее.
В. Р.— Джемс Гильом «Интернационал»
Джемс Гильом «Интернационал». (Воспоминания и материалы 1864–1878 гг.). С биографическими заметками о Гильоме П. Кропоткина и Ф. Брукбахера. — Том I–II. Перев. с фр. Н. Крупской, под ред. и с дополн. Н. Лебедева. — Кн-во «Голос Труда» Пбрг. — М. 1922, стр. 322
В. Р.
Дж. Гильом не историк — он сам близкий участник деятельности Первого Интернационала, ближайший друг М. Бакунина и активнейший участник фракционной борьбы между марксистами и анархистами, («авторитаристами и федералистами» — как выражается Гильом) — отсюда и достоинства и недостатки его четырехтомного труда. Он рассматривает историю интернационала с определенной анархической точки зрения, так часто дополняет свою историю личными воспоминаниями, что книга местами имеет исключительно мемуарный интерес. Он, как активнейший участник фракционной борьбы, разумеется, свою историю густо насытил фракционной нетерпимостью. Невероятно свежи следы ярой кампании против Маркса, которую вели анархисты бакунисты накануне и, особенно, после раскола Первого Интернационала. И однако же появление труда Дж. Гильома на русском языке нужно приветствовать: так мала у нас литература об Интернационале, что всякая книжка, способная дать хоть что-нибудь по истории его — ценная книжка, не говоря уже о том, что книга Дж. Гильома в тому же написана очень талантливо, живо и читается легко.
Но если мы можем теперь спокойно и благодушно отнестись ко всяким выходкам Гильома, направленным против Маркса, объясняя это фракционной ненавистью его, то, нам кажется, ничем, кроме невежества, не может быть вызвана совершенно непонятная злоба по адресу Маркса современных поклонников анархизма. Я говорю о редакции издания и о Н. Лебедеве, снабдившем издание предисловием. Расхваливая Прудона, Н. Лебедев говорит: «Сам Маркс очень много заимствовал у Прудона, не называя конечно источника» — это даже не клевета, а просто невежество. Во вводной главе гр. Лебедев всемерно старается, чтобы его статья была так же резка против Маркса, как и книга Гильома, а местами пытается перещеголять его. Это сделано очевидно с целью сохранения «единства стиля». От такого «единства стиля», издание несомненно проиграло. Предисловие современного исследователя должно дать читателям возможность разобраться, в чем Гильом был прав и что продиктовано враждой к великому учителю рабочего класса, а вместо этого редакция подобрала, как нарочно, материал и примечания так тенденциозно, как этого не сделали бы лет 50 тому назад, в самый разгар борьбы фракций внутри Интернационала. Отсутствие такого научного предисловия, — второй недостаток издания «Голоса Труда».
При тех весьма удовлетворительных технических возможностях, которыми располагает издательство «Гол. Тр.» оно могло бы дать ценные издания, но для этого нужны внимательно проредактированные (в реферуемом издании, например, примечания очень много теряют от публицистической легкости тона), снабженные научными предисловиями и избавленные от невежественных «приложений» Н. Лебедева, Черкизова и др. Русское издание — не полный перевод с французского. Издатели его значительно сократили, исключив подробности о деятельности швейцарских секций Интернационала, и включили в текст оригинала несколько дополнений.
Книга в том виде, в каком издана по-русски, читается легко, однако ее ценность значительно возрасла бы; если бы она была переведена полностью.
А. Ф.— Б. И. Горев. «М. И. Бакунин, его жизнь, деятельность и учение»
Б. И. Горев. «М. И. Бакунин, его жизнь, деятельность и учение». Изд. Всеросс. Совета рабочей кооперации. М. 1919. 110 стр. Ц. 6 р. Вяч. Полонский. «Бакунин». Гос. Изд. М. 167 стр. Ц. 25 р.
А. Ф.
Революция пробудила у читателя из рабочих и крестьянских масс большой интерес к Бакунину, к этому «апостолу всемирного разрушения». Помимо обширного исследования Ю. М. Стеклова, из которого издан только 1-ый том, данные два очерка являются почти единственными марксистскими произведениями о Бакунине, появившимися за последнее время и удовлетворяющими этот запрос.
Очерк В. Полонского представляет собой, как он сам об этом говорит в предисловии, «сокращенное изложение главы о Бакунине из подготовляемых им к печати "очерков по истории анархизм"». Этим и определяется характер и содержание всего очерка. Автор дает в нем обстоятельное и подробное освещение взглядов и деятельности Бакунина, как одного из основоположников и вождей анархизма, при чем больше всего места уделяет изложению его теоретических воззрений. Выясняя его роль и историческое значение в революционном движении Запада и в Интернационале, Полонский останавливается на анархистской программе и тактике Бакунина, на его отношениях к Марксу и Нечаеву. Рисуя Бакунина — утопическим мыслителем автор одновременно превозносит его, как легендарного революционера «человека — бурю», как «предвестника русской революции», который «навсегда останется гигантом истории, несмотря на все его противоречия, ошибки и заблуждения». В этой чрезмерной дани восхищения последним сквозит некоторое влияние на автора анархистских биографов Бакунина.
Книга В. Полонского снабжена весьма содержательными и ценными примечаниями и обширным библиографическим указателем. По содержанию я изложению она рассчитана на более подготовленного читателя.
Освещая бакунизм, как социально-политическое мировоззрение «предпролетариата», как «стихийное выражение критического перехода добуржуазного режима к буржуазному», Б. Горев дает в своем кратком очерке строгий марксистский анализ философских, политических и экономических основ его. Бакунин предстает перед читателем, как «современник и участник целой полосы в развитии русской интеллигенции 30–40-х гг., друг Белинского, Тургенева, Герцена, активный деятель революции 48 г., учитель русских революционеров 70-х гг.». Кратко и ясно автор знакомит с философскими и социально-политическими теориями, под влиянием которых складывалось мировоззрение Бакунина. Б. Горев подробнее и отчетливее Полонского выясняет, какое огромное влияние имело учение Маркса на Бакунина, как последний был одним из первых распространителей марксизма в России 70-х годов, чем не мало помог наиболее последовательным «бунтарям», как напр. Г. Плеханову, В. Засулич, П. Аксельроду и др. стать впоследствии марксистами и организаторами российской социал-демократии. Говоря о последователях бакунизма в 900-х годах — революционных синдикалистах на Западе и о социалистах-революционерах максималистах в России, автор показывает, как революционный анархизм Бакунина превратился в наши дни коммунистической революции в лице его ученика и последователя П. Кропоткина в «свою собственную противоположность» — в буржуазный демократизм. Популярный и весьма содержательный очерк Б. Горева рассчитан на массового читателя.
Оба очерка имеют ряд некоторых хронологические и фактических ошибок, отмеченных уже одним из авторов этих очерков Б. Горевым в «Печати и Революции» (1921 г., II 76–77 с.), но эти недочеты незначительны и нисколько не уменьшают серьезности и содержательности этих работ о Бакунине.
Б. Пинсон.— Е. Преображенский. Анархизм и Коммунизм
Е. Преображенский. Анархизм и Коммунизм. Государственное Издательство, 1921 г.
Б. Пинсон
В крайне напряженной обстановке, в полосе борьбы с сопротивляющимся гнилым старым укладом и строительства коммунистического общества работала мысль автора, и отсюда анализ и критика анархизма приобретают жгучий интерес.
Против насилия, против всякого государства, за почти безграничную свободу личности выступали и выступают анархисты всех оттенков и наш автор ставит им в упор вопрос: «если государственной властью овладели трудящиеся массы и используют ее для подавления своих врагов, вы против и такой власти?»
Но этот вопрос, припирающий к стенке анархистов всех течений, является одним из сложных вопросов, и автор приступает к подробному разбору как развития, так и существа государства.
В первых двух главах мы находим разбор и оценку государствам — самодержавно-дворянскому и буржуазно-капиталистическому.
Что же представляет собой пролетарское государство, чем оно отличается от вышеприведенных двух видов государств?
Давая ответ на поставленный вопрос, автор фактически вступает уже в бой с апологетами анархизма по вопросу о пролетарском государстве и об отношении их — анархистов — к нему.
Здесь шаг за шагом вскрывается вся утопичность, теоретическая беспочвенность и глубокая реакционность анархизма тогда, когда он только ограничивается словесной и бумажной вылазкой против пролетарского государства, и явная и безусловная контр-революционность его тогда, когда он пытается, оставив бумажную и словесную критику, перейти к последовательному действию, к проведению своей «программы».
Для чего пролетариат берет власть? Для того, чтобы через посредство заново перестроенного государственного аппарата организованно «окончательно отобрать у буржуазии все орудия производства, фабрики и заводы, уничтожить деление людей на классы, прекратить эксплуатацию человека человеком, ввести трудовую повинность и превратить все общество в единую трудовую армию товарищей работников».
А потом государство отомрет, отпадет также, как отбрасываются леса после того, как дом до конца достраивается, приобретает стройный, гармоничный, нужный человеку и человеческому обществу вид.
Мыслимо ли без организованного, мощного, из одного центра руководимого, действия, уничтожить эксплуататорское государство? Конечно, нет. Анархисты своими разрозненными действиями, своим пассивным и активным непризнанием государства, фактически мешают рабочему классу в целом творить свою революционную историческую миссию, они тем самым действуют на руку эксплуататорским классам, фактически с ним и объединяются, они на деле используются контр-революцией, одевая ее в свои левые, на первый взгляд, архиреволюциониые лозунги, тем самым помогая буржуазии и дворянству под прикрытием этих лозунгов восстановить разбитое рабочей революцией капиталистическое государство с его эксплуатацией, насилием над миллионным коллективом и отдельной личностью.
В других главах автор доказывает, как при попытке выйти из тупика противоречий и на деле помочь рабочему классу освободиться от эксплуататоров, анархисты так же на деле переходили к тактике коммунистической партии и тем самым, понятно, переставали существовать как анархисты.
Можно ли хозяйственным и техническим гением трудящихся переделать мир, если, следуя рецепту анархистов, мы распылим свои силы, свои действия, свой порыв и т. д. Разумеется, нет.
Автор обосновывает свои положения рядом чрезвычайно денных, ярких и много говорящих фактов и примеров из нашей революционной практики и доказывает в какую трясину безхозяйственности, хаоса впали бы трудящиеся и даже мелкие буржуа, часто поддерживающие анархические бредни, если бы последовали совету анархистов в области экономики и тоже политики.
Экономические идеалы анархизма после вдумчивого анализа и критики его справедливо характеризуется автором «как мелко буржуазное издание капиталистического товарного хозяйства, как шаг назад даже в сравнении с развитым капитализмом»
Объективный анализ приводит к тому, что в конце-концов все разновидности анархизма, в том числе и анархисты-синдикалисты, как бы в насмешку, рассматривающие анархизм как высшую организованность, равно беспомощны при попытке серьезно обосновать свои идеалы.
Перейдя к классовой основе анархизма, тактике и к русскому анархизму в каком виде его застает 1921 год., автор указывает:
Анархизм имеет некоторый удельный вес в странах по преимуществу мелко-буржуазных, не пользуется никаким серьезным влиянием в странах с развитой промышленностью, с крупным классом фабрично-заводских пролетариев.
Следовательно, классовой основой анархизма является распыленная мелкая буржуазия, деклассированные элементы из рабочей среды, люмпен-пролетариат.
Опыт русской революции показал ничтожное и весьма кратковременное влияние анархистов на пролетариат и, наоборот, более крупные успехи он имел всюду там и постольку, где и поскольку он связывал свою судьбу с защитой классовых интересов боровшийся с пролетарской диктатурой мелкой буржуазии (Махновщина, Кронштадт и т. д.).
Русские анархисты, какими бы ни были их пожелания, последние ни в каком соответствии не находятся с жизнью. На деле в наиболее тяжелые моменты русской революции анархисты больше вредили ей, чем помогали бороться с буржуазией.
Автор подробно останавливается на теории и тактике анархо-синдикалистов.
Автор указывает, как жизнь научила и анархистов-синдикалистов. Еще до войны анархисты-синдикалисты изменили свою тактику, а теперь они постепенно отходят от своих основных позиций. На втором Конгрессе Коминтерна вместе с представителями Союза Синдикатов Испании, представит. Индустриальных Рабочих Мира была принята резолюция «о роли коммунистической партии в революции». В этой резолюции, принятой единогласно, признается уже необходимым политическая партия, признается необходимость завоевания политической власти и т. д.
В этой же резолюции осуждается самым решительным образом прежнее поведение синдикалистов по этим основным вопросам.
Автор замечает, что представители синдикалистских рабочих организаций уехали с Конгресса или убежденными коммунистами, или во всяком случае далеко подвинувшимися от синдикализма к коммунизму.
Отсюда живая практика сама подсказывает вывод: все здоровое из среды анархистов, все революционное заметно и незаметно переходит сначала на коммунистические позиции, а затем уже в коммунистическую партию, как это имело и имеет место в России и за границей. Все остальное представляет собою опору контр-революции, соки, питающие ее.
В заключение надо отметить, что книжка написана весьма популярно, легко читается и заслуживает широкого распространения среди рабочих, крестьян и особенно среди подрастающего поколения.
Б. Ш.— «Былое» №17
«Былое» №17. изд. Былое 1922 год. «Памяти Петра Алексеевича Кропоткина», «П. А. Кропоткин», изд. Общественного Комитета по увековечиванию памяти П. А. Кропоткина.
Б. Ш.
Рецензируемые издания целиком посвящены памяти вождя анархизма.
«Былое», дает ряд любопытных исторических материалов и воспоминаний о жизни и деятельности скончавшегося революционера.
Не совсем кстати помещена одинокая статейка (Лебедева) излагающая биосоциологический закон взаимопомощи Кропоткина, нарушающая выдержанную физиономию исторического журнала.
Исключительную ценность придают номеру две напечатанный ранее работы Кропоткина: «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего», относящиеся к 1873 году и «Идеал революции», незаконченная рукопись 1918 года.
Перепечатанные из Биржевых Ведомостей сибирские корреспонденции Кропоткина, собрания под заголовком: «Восстание на Кругобайкальской дороге в 1866 г.», являются сухим отчетом о судебном процессе повстанцев и совершенно не отражают личности автора.
Этот же номер «Былого» фигурирует в другой обложке под названием сборника «Памяти Петра Алексеевича Кропоткина».
«Некоторые различия текста», о которых заверяет комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина, заключаются в аляповато-напыщенном изложении на 20-ти страницах назидательной истории возникновения и многотрудной деятельности самого комитета, так что у беспристрастного читателя создается определенное впечатление, что сборник посвящен памяти не Кропоткина, а Комитета.
Тем же комитетом издана однодневная газета «П. А. Кропоткин», посвященная годовщине его смерти.
И так же бессодержательна и мертва эта газетка, как неизбежно мертво выходящее из рук тех, кто не имеет лица, или боится иметь его, которые примазываются к славному имени бывшего революционера.
Не случайно что «руководители и ответственные работники неторгового отдела Дмитровского кооператива», которым пишет свое последнее письмо Кропоткин, помещают в изданиях комитета свои воспоминания о нем уже из Бутырок.
Статья «Идеал революции», письма последнего периода, помещенный в номерах «Почина» и «Вестника литературы» за 1922 год, объясняют почему к умирающему старцу тянулись не здоровые революционные силы, а отбросы революции, «бывшие люди».
Позорная позиция Кропоткина в мировой войне достаточно известна. Но существуют мнения, что по приезде в Россию, он изменил свое отношение к мировым событиям. Т. Преображенский даже пытается утверждать (хотя и в примечании) что «Кропоткин убедился в громадных заслугах коммунистической партии в деле освобождения труда» и т. п.
Нам трудно конечно расстаться с привычным образом Кропоткина — революционера, каким он является хотя бы в печатаемой статье «должны ли мы заняться...», написанной 50 лет назад. Тогда Кропоткин знал, что без насилия «без рек крови социальный переворот не совершится», что «никакими стачками, как никакой паллиативной мерой, положение рабочих не может быть улучшено», что «артель как средство улучшения общественного- быта является мерой совершенно неприложимой и нецелесообразной». «Наконец, что развитие в Европе военно-хищнических элементов... свидетельствуют о неизбежности такого развития государственной силы, которое должно вести быстрыми шагами многие государства Европы, начиная с беднейших, к полному банкротству, а народ — к дальнейшему разорению», что единственное спасение трудящихся социальная революция.
И вот случайно рядом с этой статьей помещена статья «Идеал революции», написанная в конце мировой бойни и в разгар гражданской войны в Европе. И здесь наглядно виден процесс неизбежного отхода к буржуазии всякого анархистского мировоззрения, сталкивающегося с пролетарской революцией. «Никакая диктатура» для него невыносима.
Как вследствие «непомерно разросшегося городского населения и его естественного последствия — пролетариата», «берет верх учение, постепенно просачивающееся в нашу жизнь за последнее десятилетие — учение об экономическом материализме», «берет верх понимание социальной революции, как разнузданности единоличных вожделений». В этом «отсутствии высокого, вдохновляющего идеала в русской революции», причина ее бесплодия и единственная надежда, что «здравый смысл русского народа возьмет верх и избавится от этой язвы».
Едва ли требуются еще цитаты, чтобы исключить Кропоткина из числа «Сочувствующих» Р. К. П.
Однако еще несколько цитат из позднейших писем Кропоткина.
Анархисты запутались в противоречии своей безгосударственной системы с позицией защиты своего государства в мировой бойне. Кропоткин, критикуя анархическую брошюрку, пытающуюся свести концы с концами в этом вопросе, по-прежнему защищает свои старые позиции[21]. По поводу фразы автора о переделе мира победившей Антантой он отмечает: «ни к какому переделу они не стремятся, этот отголосок немецкой печати».
Через несколько месяцев по поводу Версальского мира он пишет: «если бы я был немцем, я с восторгом приветствовал бы его условия». «Денежные уплаты — пустяки. Это долг справедливости и чести»[22].
Кропоткин крепко забыл все, что знал полстолетия назад.
Теперь он крепко верит в артель, в кооперацию, «именно русское, крестьянское, кооперативное движение»[23].
Больше того, он уверен что, когда в западной Европе «проект национализации будет обсужден Профсоюзами, кооператорами, служащими и техниками и разработан ими, буржуазное правительство уже не сможет противопоставить им свой запрет и навязать свое решение этого первой важности вопроса».
Тут же он сокрушается, что просмотрели рост «сил социал-демократического движения», Второго и Третьего Интернационала, «которые представляют узурпацию идей рабочего Интернационала в пользу одной партии, социал-демократической, которая на половину вовсе не представляет рабочих»[24]. Надеемся, что т. Преображенский, после появившихся писем, не будет настаивать на зачисление в ряды «сочувствующих» Р. К. П. маститого анархиста и предоставит мертвым хоронить мертвых.
В. Ваганян.— О брошюре тов. Я. Яковлева
«Я. Яковлев «Русский анархизм в великой русской революции». Гос. Изд. 1921 г.)»
В. Ваганян
«Анархизм давний враг марксизма и ведет свое происхождение от более или менее выродившегося утопического социализма».
Г. В. Плеханов.
«Коммунистический» анархизм, это — круглый квадрат или сапоги всмятку, т. е. нечто совершенно непримиримое с логикой».
Г. В. Плеханов.
В начале нынешнего года Гос. Издательством выпущена брошюра тов. Я. Яковлева «Русский анархизм в великой русской революции». Это — попытка дать картину развития анархизма в обстановке революции пролетариата, связная «история» — если можно говорить о ней — его модификации в обстановке жесточайших гражданских войн нашей революции.
Задача важная, нужная, и вопрос представляет не только практический, но теоретический интерес.
На самом деле. Схватки с анархизмом для марксизма совсем не новы. Начиная с Маркса борьба эта идет ни на минуту не прерываясь, ни сколько не ослабляясь. И спор, по существу говоря, шел о том, какова будет роль анархизма в практике рабочего движения и в эпоху пролетарской революции. То есть, спор между марксизмом и анархизмом фактически шел по вопросу о том, будет ли анархизм фактором усиления рабочего класса в момент решительных схваток его с капиталом, или он будет тормозить в лучшем случае, а то и активно противодействовать пролетариату, тем самым, на деле помогать капитализму.
Наша революция всего ярче показала, что ошибались все те, кто считали не существенным этот спор или этот пункт спора казуистичным.
На практике нашей революции ярко выявилось антипролетарское нутро анархизма. Он оказался гораздо более вредным для рабочего класса движением, чем это могли предвидеть самые большие пессимисты и противники анархизма.
В брошюре тов. Яковлева собрана масса материала об «анархической практике наших отечественных поклонников безвластья». Он прекрасно прослеживает шаг за шагом, как на юге России анархизм стал идеологией Махновско-кулацкого движения, в Великороссии принял самые дикие формы бандитизма и террористической борьбы против рабочего класса и его политических организаций и руководителей («Гром», «Стрела», «Огонь» и т. д. в IV–VI 1918 г., «анархисты подполья» — 1919 г. и т. д.), как безнадежно бьется мысль анархистов в противоречиях, потерпев жестокое поражение всюду.
Все это, повторяем, сделано очень хорошо и брошюра заслуживает самого широкого распространения.
Но есть один пункт, в котором мы с тов. Яковлевым никак согласиться не можем и мы считаем необходимым здесь это отметить.
Подводя итог всей брошюре, он пишет: «Европейский рабочий прочитав все это, может случиться, пожмет плечами: "Все это нам понятно. Вы нам рассказали теорию и практику одной из русских противосоветских буржуазно-крестьянских группировок — но при чем тут анархизм?"
Но в том то и состоит трагедия русского анархизма, что он нося имя течения, связанного с движением рабочих масс на Западе, превратился в России в течение, ничего общего с рабочим классом не имеющее, враждебное рабочему классу, отражающее интересы крестьянской буржуазии...
У нас есть ряд глубоких расхождений с западно-европейскими и американскими революционерами-анархистами и революционными синдикалистами. Но эти расхождения не могут помешать нам изживать их товарищески в едином международном революционно-профессиональном движении. Русский же анархизм...» и дальше идет резюме совершенно справедливое, но охватывающее и адресованное исключительно русскому анархизму[25].
Сказать это — значит свести на нет всю сделанную работу. Ибо что же подумает западно-европейский рабочий, прочитав брошюру тов. Я. Яковлева? Он скажет себе: «Это только русские анархисты такие, они выродились под влиянием специфических российских условий (они вероятно еще не забыли проповеди Бакунина о "специфически-российских условиях", столь благоприятных развитию в нашем крестьянине бунтарской психологии), а у нас анархисты это люди "связанные с движением рабочих масс" и ничего общего с вашим (т. е. "нашим", тов. Яковлев!) анархизмом не имеют».
В задачу тов. Яковлева ни в коей мере не входило расхваливать западно-европейских и американских анархистов с целью примирения их с рабочим классом, а так получилось.
И все это в результате этого весьма незначительного реверанса.
А по существу ведь дело обстоит совсем не так и рабочим Запада нужно говорить совсем не это.
Когда испанские анархисты-бакунисты проделали свой знаменитый «бунт» — Энгельс не расшаркивался перед другими анархистами, а «совсем наоборот»: он сделал целый ряд выводов по отношению к анархизму, оправданных, почти дословно, в нашей революции.
И о том, что анархисты, переходя от слов к делу вынуждены «выкинуть за борт всю свою прежнюю программу» и о том, что ультра-революционные фразы анархистов на практике превращались либо в «отвиливание», либо «выливались в заранее обреченные на неуспех восстания», либо приводили их к «поддержке буржуазной партии, которая политически эксплуатировала рабочих и награждала их вдобавок пинками».
Когда французские анархисты решили, что пришло время «прямого действия» и на этом основании предприняли ряд террористических актов, совершили целый ряд уголовных преступлений, вплоть до частных грабежей и экспроприаций, Г. В. Плеханов не объявил это плохими делами плохих французских анархистов, а исследовав вопрос, пришел к выводу, что это неизбежно случится со всяким анархизмом, который из теории захочет стать практикой. «Анархист — человек, обреченный постоянно и везде достигать противоположного тому, что ему желательно».
Но если Энгельс и Плеханов имели недостаточно фактов, то мы ими обладаем в слишком достаточном количестве.
Анархист не может быть революционером, сколько бы раз он себя не называл им. Революционер не тот, кто хочет быть им, а тот чья практика революционна и чьи дела революционны.
Яковлев находит, что разногласия «не могут помешать нам изживать их товарищески» и т. д. Конечно не помешают, ибо мы ни одной минуты не сомневаемся в том, что «анархизм, дитя буржуазии, никогда не будет иметь серьезного влияния на пролетариат. Если среди анархистов и находятся рабочие, искренне жаждущие блага своего класса и готовые для него пожертвовать всем, — то они лишь по недоразумению очутились в этом лагере. Борьба за освобождение пролетариата знакома им только в той форме, какую хотят придать ей анархисты. Когда они просветятся, они перейдут к нам. Это говорит Г. В. Плеханов. Он не знал в 1894 г., что впоследствии в лагерь анархистов оттолкнет рабочих еще другая причина — оппортунизм II Интернационала, вождем которого он стал. Но эта причина изжита: III Интернационал, носитель подлинной революционности, сумеет «просветить» рабочие массы Запада не только словами, но и делом. Но уже тогда они не будут анархистами.
С анархизмом — марксизму, революционному коммунизму ни в какую сторону не по пути. С рабочими, по недоразумению идущими за анархизмом, мы найдем иной язык разговора, чем расхваливание анархизма.
Нужно совершенно открыто сказать западно-европейскому рабочему, что в дни его революции, в жестокой схватке его с своим капитализмом, анархизм неизбежно, в силу внутренней своей логики, сыграет, и не может не сыграть, роль махновщины, в иной форме, в ином обличим, но с единым нутром — кулацким, буржуазным, собственническим нутром.
Это та правда, которую не нужно, вредно и преступно скрывать от рабочих Европы и Америки.
В. Ваганян.— «Пролетарское Студенчество»
«Пролетарское Студенчество» — орган Московского бюро студенческой фракции Р. К. П. и революционного студенчества
В. Ваганян
Было время, когда студенчество считалось в России революционной силой: по крайней мере царское правительство одно время его боялось больше, чем рабочего класса в целом.
Это было тогда, когда рабочий класс в нашей благословенной родине еще не был организован в класс и когда против произвола и насилия правительства русский народ не мог выдвинуть никакой внушительной силы. Тогда студенческие волнения были довольно длительное время единственно открытыми выявлениями протеста, и так как это была сила очень незначительная, то и очень многим казалось, что против силы правительства народ не может выдвинуть другую силу, способную свергнуть ее.
Тогда же этим очень многим пессимистам указывали на тот класс, который был еще только в процессе формирования, оформления — на рабочий класс, как на ту новую силу, которая одна и способна свергнуть веками укоренившийся строй рабства.
А студентам эти одинокие люди говорили, что пока они свое движение не свяжут с движением рабочего класса, до тех пор студенческие волнения неизменно превратятся в «борьбу с инспектором», в мелочную, ничтожную борьбу, нисколько не являющуюся «освободительным движением».
«Рабочий класс, — писал Г. В. Плеханов им — выдвигается у нас теперь историей в качестве важнейшей прогрессивной силы. Пора нам перестать смотреть на него сверху вниз, пора понять свойственную ему точку зрения, и исходя из нее, подвергнуть строгой критике все наши "интеллигентные" идеалы и стремления».
Теперь мы знаем, что этот совет остался совершенно не использованным старым студенчеством. Оно как целое не поняло точку зрения пролетариата и вместе с классом, осколком которого оно являлось, ушло все далее и далее от рабочего класса, пока, наконец, в октябре 1917 г. не оказалось в массе по ту сторону баррикад — злейшим врагом пролетарской революции и коммунизма. Старое студенчество этим лишь доказало, что его время давно прошло и что пришло уже время ему уступить место новому студенчеству, которое станет на точку зрения рабочего класса и будет вместе с ним делать одно общее дело.
Такой студент уже пришел: это рабоче-крестьянская молодежь, ныне потоком стремящаяся в высшую школу, это — пролетарское студенчество.
Реферируемый журнал — орган этого нового студенчества. Нужно ли подчеркивать, что вся наша симпатия на их стороне?
Мы шлем свой горячий привет «Пролетарскому Студенчеству».
Отражать на своих страницах жизнь и быт нового студенчества, удовлетворять его нуждам и запросам, помогать ому твердо стать на точку зрения рабочего класса — великая задача.
Мы желаем «Прол. Студ.» больших успехов.
Мих. Павлович.— Н. Ленин (В. Ульянов). Собрание сочинений, том XIX
Н. Ленин (В. Ульянов). Собрание сочинений, том XIX. Национальный вопрос. (1910–1920). Государствен. Издательство. Москва. 1921, стр. 300.
Мих. Павлович
XIX том сочинений В. И. Ленина подготовлен к печати и снабжен примечаниями И. Т. Товстухой под редакцией Л. Б. Каменева, снабдившего этот том очень кратким, но в то же время содержательным предисловием.
В этот том вошли работы т. Ленина по национальному вопросу, начиная с 1910 г. и до II-го международного конгресса Коминтерна (нюнь 1920) включительно. Первая часть тома (стр. 1–151) содержит статьи Ленина за период до войны, вторая часть — после начала войны.
В этом томе имеется один пробел. Пропущена речь Ленина на апрельской конференции 1917 г.
Том открывается статьей Ленина «Поход на Финляндию», напечатанной впервые в «Социал-демократе» 26 апреля 1910 г. В настоящий момент, когда финляндские «патриоты» ведут переговоры с польскими «шляхтичами» о заключении «оборонительного» военного союза между Польшей и Финляндией, якобы на предмет защиты независимости Финляндии от опасности, угрожающей последней со стороны большевистской России, статья Ленина, написанная в защиту финляндской свободы еще в 1910 г. приобретает злободневный интерес и служит лишним доказательством клеветнического характера утверждений буржуазной финляндской печати относительно агрессивных планов Советской России по отношению к Финляндии. «Поражение финляндской свободы, — писал Ленин по поводу наглого похода самодержавия против свободы и самостоятельности Финляндии, — есть поражение российской революции. Придет время, за свободу Финляндии подымется российский пролетариат». Это время пришло и российский пролетариат, разбив свои собственные цепи и низвергнув гнет царизма и российской буржуазии, дал возможность Финляндии зажить самостоятельной жизнью. Однако, финляндская буржуазия, — которая уже в то время «травила красную гвардию финских рабочих и обвиняла их в революционизме», которая уже тогда «обвиняла социалистов своей страны в том, что их испортили русские социалисты, заразив их своей революционностью» (см. цитир. труд. стр. 10), — воспользовалась октябрьской революцией только для того, чтобы обеспечив независимость своей страны, принять участие во всех интригах международной контр-революции против русского пролетариата.
Ряд следующих статей (стр. 13–20) посвящен балканским осложнениям 1912 г. Уже тогда т. Ленин предугадывал значение балканских войн, как пролог к более грозным событиям. Тов. Ленин разоблачал планы октябристов и кадетов воспользоваться балканской войной для «округления» «наших» земель насчет «азиатской» Турции и захвата проливов. «В обществе наемного рабства, — писал т. Ленни, — всякий купец, всякий хозяин ведет азартную игру: "либо разорюсь, либо наживусь и разорю других". Такую же азартную игру ведут капиталистические государства, игру кровью миллионов, посылаемых то здесь, то там на бойню ради захвата чужих земель и грабежа слабых соседей.»
Глубокий интерес представляют статьи т. Ленина «Пробуждение Азии». «Обновленный Китай», «Отсталая Европа и передовая Азия», в которых оценивается значение начинающегося революционного движения на Востоке. С глубокой радостью следит Ленин за этим движением и предугадывает его быстрое развитие и великую роль в борьбе пролетариата с капиталистическим строем. Вот что пишет т. Ленин в статье «Пробуждение Азии», напечатанной в «Правде» от 7 мая 1913 г.»
«Давно ли Китай слыл образцом стран векового полного застоя? А теперь в Китае кипит политическая жизнь, ключей бьет общественное движение и демократический подъем. Вслед за русским движением 1905 г. демократическая революция охватила всю Азию — Турцию, Персию, Китай. Растет брожение в Английской Индии.»
«Мировой капитализм и русское движение 1905 года окончательно разбудили Азию. Сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом застое населения проснулись к новой жизни в борьбе за азбучные права человека, за демократию.»
«Рабочие передовых стран мира с интересом и воодушевлением следят за этим могучим ростом мирового освободительного движения во всех частях света и во всех формах. Буржуазия Европы, испуганная силой рабочего движения, бросилась в объятия реакции, военщины, поповщины и мракобесия. Но на смену этой заживо гниющей буржуазии идет пролетариат европейских стран и молодая полная веры в свои силы и доверия к массам демократия азиатских стран.»
«Пробуждение Азии и начало борьбы за власть передовым пролетариатом Европы знаменуют открывшуюся в начале XX века новую полосу всемирной истории.»
В статье от 18 мая мы читаем следующие строки:
«В Азии везде растет, ширится и крепнет могучее демократическое движение. Буржуазия там еще идет с народом против реакции. Просыпаются к жизни, к свету, к свободе сотни миллионов людей. Какой восторг вызывает это мировое движение в сердцах всех сознательных рабочих, знающих, что путь к коллективизму лежит через демократию! Каким сочувствием к молодой Азии проникнуты все честные демократы!»
«Вся командующая Европа, вся европейская буржуазия в союзе со всеми силами реакции и средневековья в Китае.»
«Зато вся молодая Азия, то есть сотни миллионов трудящихся в Азии имеют надежного союзника в лице пролетариата всех цивилизованных стран. Никакая сила в мире не сможет удержать его победы, которая освободит и народы Европы, и народы Азии.»
В этих статьях Ленина заложены основные идеи знаменитых тезисов по колониальным и национальным вопросам, принятым через семь лет на 2-ом конгрессе III Коммунистического Интернационала.
Ряд следующих статей посвящен вопросу о «культурно-национальной автономии» и праву наций на самоопределение. В отличие от Розы Люксембург, утверждавшей будто признание права на самоопределение равняется поддержке буржуазного национализма угнетенных наций, считавшей утопией независимость Польши и Ирландии, тов. Ленин доказывал, что принцип национальности исторически неизбежен в буржуазном обществе, что марксизм, считаясь с этим обществом, вполне признает историческую законность национальных движений. «Но чтобы это признание не превратилось в апологию национализма, надо, чтобы оно ограничивалось строжайше только тем, что есть прогрессивного в этих движениях, — чтобы это признание не вело к затемнению пролетарского сознания буржуазной идеологией» (стр. 52).
Крайне любопытны ссылки т. Ленина на Маркса, который еще в 1869 г. доказывал, что прямой абсолютный интерес английского рабочего класса требует разрыва его теперешней связи с Ирландией. Не освободиться рабочему классу в Англии, пока не освободится Ирландия от английского гнета. Несчастье для народа, если он поработил другой народ. Реакцию в Англии укрепляет и питает порабощение Ирландии.
Во второй части т. Ленин неоднократно возвращается к вопросу о самоопределении наций и в одном месте (стр. 172) говорит следующее:
«Пролетариат угнетающих наций не может ограничиться общими, шаблонными, повторяемыми любым пацифистским буржуа, фразами против аннексий и за равноправие наций вообще. Пролетариат не может обходить молчанием особенно неприятного для империалистической буржуазии вопроса о границах государства, покоящегося на национальном гнете. Пролетариат не может не бороться против насильственного удержания угнетенных наций в границах данного государства, а это и значит бороться за право самоопределения. Пролетариат должен требовать свободы политического отделения колоний и наций угнетаемых его нацией. В противном случае интернационализм пролетариата останется пустым и словесным, ни доверие, ни классовая солидарность между рабочими угнетенной и угнетающей нации невозможны; лицемерие реформистских и каутскианских защитников самоопределения, умалчивающих о нациях, угнетаемых их "собственной нацией" и насильно удерживаемых в "их собственном" государстве, остается неразоблаченным».
В другом месте т. Ленин говорит:
«Мелкие буржуа дают себя запугать призраком запуганной буржуазии — в этом вся суть политики с.-д. меньшевиков и с.-р. Они "боятся "отделения. Сознательные пролетарии не боятся его. И Норвегия, и Швеция выиграли, когда Норвегия свободно отделилась от Швеции в 1905 году, выиграло доверие между обеими нациями, выиграло добровольное сближение между ними, исчезли нелепые трения, укрепилось экономическое и политическое, культурное и бытовое тяготение обеих друг к другу, усилился братский союз рабочих обеих стран».
«Товарищи — рабочие и крестьяне! Не поддавайтесь аннексионистской политике русских капиталистов: Гучкова, Милюкова, Временного Правительства по отношению к Финляндии, Курляндии, Украине и пр. Не бойтесь признать свободу отделения всех этих наций. Не насилием надо привлекать другие народы к союзу с великороссами, а только действительно добровольно, действительно свободным соглашением, невозможным без свободы отделения».
«Чем свободнее будет Россия, тем решительнее признает наша республика свободу отделения невеликорусских наций, тем сильнее потянутся к союзу с нами другие нации, тем меньше будет трений, тем реже будут случаи действительного отделения, тем короче то время, на которое некоторые из наций отделятся, тем теснее и прочнее в конечном счете братский союз пролетарско-крестьянской Республики Российской с республиками какой угодно иной нации».
Вот как т. Ленин (в 1916 г.) определяет значение национально-освободительных движений, в роде ирландского, в деле торжества мировой социальной революции:
«Кто называет такое восстание путчем, тот либо злейший реакционер, либо доктринер, безнадежно неспособный представить себе социальную революцию, как живое явление».
«Ибо думать, что мыслима социальная революция без восстаний мелких наций в колониях и в Европе, без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее предрассудками, без движений несознательных, против церковно-монархического, национального и т. п. гнета — думать так значит отрекаться от социальной революции. Должно быть, выстроится в одном месте одно войско и скажет: "мы за социализм", к в другом другое и скажет: "мы за империализм" и это будет социальная революция. Только с подобной педантски-смешной точки зрения мыслимо было обругать ирландское восстание "путчем"».
«Кто ждет "чистой" социальной революции, тот никогда ее не дождется. Тот революционер на словах, не понимающий действительной революция».
Эти замечания т. Ленина доказывают между прочим всю тенденциозность утверждений грузинских меньшевиков и армянских дашнаков, будто большевики только по соображениям своей азиатской политики могу говорить о какой то «революционной Турции», ибо нельзя де считать «революционной» страну, народные массы которой так отсталы и руководителей национального движения которой так консервативны, как мы это видим в Анатолии. -
Недостаток места не дает нам возможности, хотя бы бегло остановиться на многих основных идеях рецензируемого нами тома, изучение которого обязательно для всякого товарища, желающего усвоить себе пролетарско-революционную постановку национального вопроса.
В заключении мы не можем до указать на ценность примечаний к цитируемому нами тому, составленных т. И. П. Товстухой. Автор примечаний любовно поработал над возложенной на него кропотливой и ответственной задачей и выполнил последнюю добросовестно и толково.
Перевод под редакцией Д. Б. Рязанова. По техническим условиям статья т. Д. Б. Рязанова по поводу приведенных ниже писем не могла быть помещена в настоящем номере. — Ред. ↩︎
«книги имеют свою судьбу» — выражение означающее, что судьба произведения искусства непредсказуема. — Р. Ф. ↩︎
Андрэ Дасье (1651- 1722) — крупный французский языковед, толкователь и издатель Аристотеля. ↩︎
Вслед за изданием в 1859 г. под заглавием «К критике политической экономии» первого выпуска своего труда, посвященного критике экономических категорий, Маркс собирался опубликовать второй выпуск, который должен был содержать самую важную и самую большую главу этого труда - главу о капитале. Однако в 1860 г., занятый написанием памфлета против Фогта, Маркс был вынужден прервать свои экономические исследования, к которым он вернулся лишь летом 1861 года. В дальнейшем ходе работы Маркса в течение 1861-1863 гг. упомянутая глава разрослась в обширную рукопись из 23 тетрадей общим объемом около 200 печатных листов, которая затем была переработана в первые три тома «Капитала». Не подвергшаяся авторской переработке часть рукописи 1861-1863 гг. издана Институтом марксизма-ленинизма в качестве четвертого тома «Капитала» («Теории прибавочной стоимости»), Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд, т. 26, ч. I–III. (Примечание ИМЛ // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд, т. 30, с. 574. — Р. Ф. ) ↩︎
См. Vico. La Science Nouvelle etc. Paris, Charpentier, 1844, c. 363, 367, 171–172. — Р. Ф. ↩︎
Фридрих Август Вольф (1759- 1824) знаменитый немецкий исследователь древнего мира. ↩︎
Бертольд Нибур (1776- 1831) знаменитый историк, введший в римскую историю критическую обработку источников. ↩︎
Это слово означает на фламандском жаргоне французов. ↩︎
Истинное происшествие. ↩︎
С. Франк. Методология. ↩︎
С. Л. Франк. Очерк методологии общественных наук. Книгоиздательство «Берег» М. 22 г. 124 стр. Издательская марка, оттиснутая на стр. 4 обложки, изображается некий скалистый берег, осиянный сиянием, к коему влечется утлая ладья с поднятыми парусами. ↩︎
А. П. Красавин. «Введение в историю (Теория истории)». Изд. «Наука и школа» — Изд. 1920 г. ↩︎
Цитирую по «К вопр. о разв. мон. взгляд. на ист.» Н. Бельтова, стр. 71. ↩︎
В имеющемся скане половина строки представляет из себя неразборчивый текст. Если у вас есть предложения по тому, какой текст здесь идет в оригинале — присылайте их в личные сообщения (https://vk.com/raoooof). — Р. Ф. ↩︎
Иные мудрецы называют его «ученым», но в его учености мы уже имели достаточно основания усомниться. — В. В. ↩︎
Статьи по поводу книги тов. Н. Бухарина идут в порядке дискуссии. ↩︎
Бухарин «Исторический Материализм», предисловие. ↩︎
Неясность имеется и в «Осн. вопр.» Плеханова стр. 42. ↩︎
Предисловие в «Введению в философию» А. Деборина. ↩︎
На первой странице «Frankfurter Zeitung» от 30/VII –21 г. Корреспонденция Фрица Шоттгефера. ↩︎
«Почин» №2 1922 г. Письмо Кропоткина от 4/IV–19 г. ↩︎
«Вестник литературы» № 2–3, 22 г. Письмо Кропоткина от 26/VI–19 г. ↩︎
«Почин» №3, 22 г. Письмо Кропоткина от 2/V–20 г. ↩︎
«П. А. Кропоткин» Письмо Кропоткина от 14/XI–20 г. ↩︎
Разрядка — моя. В. В. ↩︎