Под Знамененем Марксизма 1922 01-02
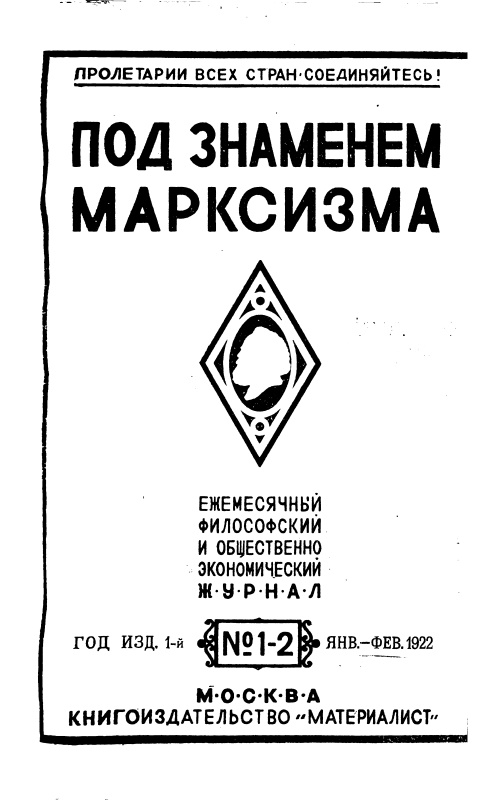
От редакции
Нам незачем писать декларацию и статьи, чтобы показать читателю свое идейное лицо: мы идем под знаменем, которое в течение слишком полустолетия победоносно развевалось на самых передовых пунктах борьбы классов, которое было знаменем самой прогрессивной силы нашего времени — пролетариата, — мы идем под знаменем ортодоксального марксизма.
Не все объединившиеся вокруг нашего журнала коммунисты, нас объединяет общность философского мировоззрения: мы все — последовательные материалисты.
Нам кажется, необходимо сказать лишь несколько слов о том, как мы понимаем свои задачи.
Мы не стремимся быть исследователями, издали созерцающими и изучающими ход развития идей, борьбу социальных и классовых сил и тенденций в нашем обществе, мы борцы, наш журнал — журнал борьбы за материалистическое мировоззрение, наш орган — орган полемики.
Он возник из законного желания молодой пролетарской интеллигенции осмыслить современность, преодолеть эклектизм, проповедуемый некоторой группой так называемых марксистов, углубить и заострить свое знание критикой идейного разброда, царящего среди буржуазной интеллигенции.
Если дореволюционная, старая гвардия нашей партии так искусно «делает революцию», то именно потому, что вся его жизнь в подполье была школой: на воле — борьбы, в тюрьме и ссылке — марксовой теории. Великая революция всколыхнула массы, выдвинула на передовые позиции революции широкие слои рабочих и крестьян, влила в ряды авангарда революции — Р. К. П. — сотни тысяч молодых членов, которые в огне и буре революции прекрасно научились бороться, но которым еще нужно пройти закаляющую школу марксовой философии, чтобы стать стойкими, уверенными и несокрушимыми коммунистами.
Война еще не окончена, но молодой рабочий авангард стремится использовать тот временный покой, который наступил для пополнения знаний.
Наш журнал пойдет всемерно навстречу этой назревшей потребности рабочих, он станет одновременно трибуной для широкого слоя рабочих ныне революцией приобщенных к науке.
Борьба с оппортунизмом, с одной стороны, и пессимизмом, мистицизмом и т. д. — с другой, — вот дело неотложной важности.
На баррикадах мы показали всему миру, как хорошо мы умеем критиковать оружием. На страницах нашего журнала нам предстоит доказать, что мы хорошо владеем и другим оружием — критикой.
Всему рабочему авангарду нужно сплотиться вокруг нашего журнала: давно пора нам — перед лицом все растущего разложения в лагере врагов — развернуть знамя воинствующего материализма.
Письмо тов. Л. Д. Троцкого
Дорогие товарищи!
Идея издания журнала, который вводил бы передовую пролетарскую молодежь в круг материалистического миропонимания, кажется мне, в высшей степени, ценной и плодотворной.
Старшее поколение рабочих-коммунистов, играющее ныне руководящую роль в партии и в стране, пробуждалось к сознательной политической жизни 10–15–20 и более лет тому назад. Мысль его начинала свою критическую работу с городового, с табельщика и мастера, поднималась до царизма и капитализма, и затем, чаще всего в тюрьме и ссылке, направлялась на вопросы философии истории и научного познания мира. Таким образом, прежде чем революционный пролетарий доходил до важнейших вопросов материалистического объяснения исторического развития, он успевал уже накопить известную сумму все расширявшихся обобщений, от частного к общему, на основе своего собственного жизненного боевого опыта. Нынешний молодой рабочий пробуждается в обстановке советского государства, которое само есть живая критика старого мира. Те общие выводы, которые старшему поколению рабочих давались с бою и закреплялись в сознании крепкими гвоздями личного опыта, теперь получаются рабочими младшего поколения в готовом виде, непосредственно из рук государства, в котором они живут, из рук партии, которая этим государством руководит. Это означает, конечно, гигантский шаг вперед в смысле создания условий дальнейшего политического и теоретического воспитания трудящихся. Но в то же время на этом, несравненно более высоком, историческом уровне, достигнутом работой старших поколений, возникают новые задачи и новые трудности для поколений молодых.
Советское государство есть живое отрицание старого мира, его общественного порядка, его личных отношений, его воззрений и верований. Но в то же время само советское государство еще полно противоречий, прорех, несогласованностей, смутного брожения, — словом, явлений, в которых наследие прошлого переплетается с ростками будущего. В такую, глубоко переломную, критическую, неустойчивую эпоху, как наша, воспитание пролетарского авангарда требует серьезных и надежных теоретических основ. Для того, чтобы величайшие события, могущественные приливы и отливы, быстрые смены задач и методов партии и государства не дезорганизовали сознания молодого рабочего и не надломили его воли еще перед порогом его самостоятельной, ответственной работы, необходимо вооружить его мысль, его волю методом материалистического миропонимания.
Вооружить волю, а не только мысль, говорим мы, потому что в эпоху величайших мировых потрясений более чем когда бы то ни было наша воля способна не сломиться, а закалиться только при том условии, если она опирается на научное понимание условий и причин исторического развития.
С другой стороны, именно в такого рода переломную эпоху, как наша, особенно, если она затянется, т. е. если темп революционных событий на западе окажется более медленным, чем можно надеяться, — весьма вероятны попытки различных идеалистических и полуидеалистических философских школ и сект, овладеть сознанием рабочей молодежи. Захваченная событиями врасплох — без предшествующего богатого опыта практической классовой борьбы — мысль рабочей молодежи может оказаться незащищенной против различных учений идеализма, представляющих, в сущности, перевод религиозных догм на язык мнимой философии. Все эти школы, при всем разнообразии своих идеалистических, кантианских, эмпирио-критических и иных наименований, сходятся, в конце концов, на том, что предпосылают сознание, мысль, познание — материи, а не наоборот.
Задача материалистического воспитания рабочей молодежи состоит в том, чтобы раскрыть пред ней основные законы исторического развития, и из этих основных — важнейший и первостепеннейший, — именно, закон, гласящий, что сознание людей представляет собой не свободный, самостоятельный психологический процесс, а является функцией материального хозяйственного фундамента, т. е. обусловливается им и служит ему.
Зависимость сознания от классовых интересов и отношений, и этих последних — от хозяйственной организации ярче, открытее, грубее всего проявляется в революционную эпоху. На ее незаменимом опыте мы должны помочь рабочей молодежи закрепить в своем сознании основы марксистского метода. Но этого мало. Само человеческое общество уходит и своими историческими корнями, и своим сегодняшним хозяйством в естественно-исторический мир. Надо видеть в нынешнем человеке звено всего развития, которое начинается с первой органической клеточки, вышедшей, в свою очередь, из лаборатории природы, где действуют физические и химические свойства материи. Кто научился таким ясным оком оглядываться на прошлое всего мира, включая сюда человеческое общество, животное и растительное царства, солнечную систему и бесконечные системы вокруг нее, тот не станет в ветхих «священных» книгах, в этих философских сказках первобытного ребячества, искать ключей к познанию тайн мироздания. А кто не признает существования небесных мистических сил, способных по произволу вторгаться в личную или общественную жизнь и направлять ее в ту или другую сторону, кто не верит в то, что нужда и страдания найдут какую-то высшую награду в других мирах, тот тверже и прочнее станет ногами на нашу землю, смелее и увереннее будет в материальных условиях общества искать опоры для своей творческой работы. Материалистическое миропонимание не только открывает широкое окно на всю вселенную, но и укрепляет волю. Оно одно только и делает современного человека человеком. Он еще зависит, правда, от тяжких материальных условий, но уже знает, как их преодолеть, и сознательно участвует в построении нового общества, основанного одновременно на высшей технике и на высшей солидарности.
Дать пролетарской молодежи материалистическое воспитание — есть величайшая задача. Вашему журналу, который хочет принять участие в этой воспитательной работе, я от души желаю успеха.
С коммунистическим и материалистическим приветом
Л. Троцкий.
27/II 1922 г.
Гибель Европы или торжество империализма?
(Доклад, прочитанный 22 января с. г. в Ц. Н. Т. К.).
Абрам Деборин
Освальд Шпенглер выпустил в свет объемистую книгу под кричащим заголовком «Гибель Запада»[1], выдержавшую в течение непродолжительного времени несколько десятков изданий и произведшую на читающую публику несомненно сильное впечатление. Шпенглер сразу вошел в моду и признаком хорошего тона считается знакомство с его «философией». Появись эта книга до войны, она, быть может, прошла бы незамеченной, несмотря на огромный литературный талант автора. Во всяком случае, никто бы не поверил в возможность «гибели» западно-европейской культуры, никто из здравомыслящих людей не отнесся бы серьезно к пророчествам Шпенглера. Но мировая война создала новую обстановку: мировое хозяйство переживает тяжелый кризис, германский империализм лежит в развалинах, династия низвергнута, юнкерство потеряло свое былое значение, среди буржуазии и мещанства царит настроение подавленности и недовольство создавшимся положением. Очевидно, что такая общественная «атмосфера» является благоприятной почвой для появления пророков и для восторженного приема их разочарованной «публикой». Вместе с нами, мол, погибает весь мир! Это своего рода идейный реванш германского национализма и империализма над ненавистными врагами...
Шпенглер задается целью создать новую философско-историческую теорию и с точки зрения этой теории подвергнуть переоценке все культурные ценности и события мировой истории. На основе метафизики истории Шпенглер стремится далее построить целостное всеобъемлющее философское миросозерцание. Каковы же его философско-исторический взгляды?
Никто никогда, — говорит со свойственной ему «скромностью» Шпенглер, — не задумывался над проблемой и структурой истории. Будущим поколениям покажется совершенно невероятным и до крайности наивным наше представление об историческом процессе, как о прямой линии или единой нити, которая тянется от древности до нашего времени и на которую нанизываются, так сказать, исторические события.
Благодаря указанной точке зрения на исторические явления, великие морфологические проблемы истории до сих пор оставались скрытыми от наших глаз. Западная Европа представлялась центром, вокруг которого вращаются великие культуры и события мировой истории. Такое понимание истории свидетельствует только о тщеславии и высокомерии западно-европейского человека. Важнейшие события в истории древнего Египта или Китая отступают на задний план, в то время, как события западно-европейской истории приобретают для нас первостепенное значение. Мы превращаем нашу культуру в центр мировой жизни. Но с одинаковым же основанием было бы позволительно историку Китая пройти мимо крестовых походов или эпохи ренессанса, т. е. тех событий, которые в нашей истории играют такую выдающуюся роль. Очевидно, что в этой области до сих пор довольствовались «горизонтом провинциала». Конечно, политическому деятелю и социальному критику позволительно оценивать значение других эпох и культур применительно к личному вкусу; мыслитель же должен отрешиться от такого взгляда.
«Птолемеевская система» истории должна быть заменена «Коперниковской системой», в которой наряду с античным миром и Западной Европой равноправное место займут Индия, Китай, Египет. Каждая культура образует самостоятельный мир, представляет собою своеобразный организм, который «неожиданно» рождается на свет, осуществляет заложенные в нем возможности и умирает. Культура есть внешнее выражение определенного строя свойственной ей души. Кто хочет познать истинную природу и своеобразный характер культуры, тот должен проникнуть в ее душу, составляющую сущность культуры. Каждый культурный организм представляет собою самостоятельную замкнутую систему, живет своей особой жизнью и создает свои ценности, свою науку, искусство, технику, социальные к политические учреждения. Никакой преемственности, никакой внутренней связи между культурами не существует. Античный мир погиб безвозвратно, как безвотвратно погибнет Западная Европа, никому не передав своего наследства. Человечества, как единого субъекта мировой истории не существует. Каждый культурный организм имеет свою историю, ничего общего не умеющую с исторической жизнью других культур. Такая точка зрения, говорит Шпенглер, — вскрывает перед нами «все богатство красок, движений, света, которое До сих пор не открывалось ни одному духовному взору». Все, что до сих пор говорилось и писалось о проблеме времени, пространства, движения, собственности является ошибочным, потому что предполагаюсь, что всем людям присущи одинаковые формы сознания. А между тем «форм сознания» существует столько же, сколько отдельных культур или лежащих в их основе душ.
Культурно-психический тип рождается из хаоса с определенным религиозным настроением, которым проникнута вся его творческая деятельность. Всякая наука вплоть до самых точных, как математика или механика, предполагает как свою основу и источник религию. Западно-европейская механика, — вещает наш оракул, является отражением христианских догматов. Современное естествознание есть не что иное, как функция именно нашей культуры. Оно не только предполагает религию, как источник, из которого оно возникло, но оно постоянно от нее зависит и ею обусловливается. Без религии нет культуры.
Жизнь культурного организма состоит в непрестанной борьбе духа или души против внешнего материального мира. Душа стремится к осуществлению своей «идеи», своих внутренних возможностей — к объективации переживаний в царстве протяженного. Душа есть чистое становление; сущность ее состоит в непрестанном творчестве, непрекращающейся деятельности. Продукты же этой деятельности составляют совокупность символов, данных в опыте, но представляющих только видимость, внешнее отражение лежащей позади них сущности. Какое-нибудь украшение, напр., на саркофаге является символическим выражением определенного душевного настроения, которое доступно только людям данной культуры. Начиная от телесных выражений — физиономии, осанки, жестов, как отдельного лица, так и целых классов и народов — вплоть до форм хозяйственной политической и общественной жизни или мнимо-вечных и общеобязательных форм познания — все это представляет собою не что иное, как своеобразные символы или формы выражения данной души. Совокупность символов составляет физиономию культуры, чувственный образ души. Но этот чувственный образ доступен «восприятию» и познанию людей принадлежащих к данной культуре. Мы способны постичь душу египтян или индусов самым несовершенным образом. Когда мы, люди западной культуры, принимается интерпретировать египетскую или греческую статую, мы прибегаем к помощи нашего внутреннего опыта, который совершенно не соответствует опыту и переживаниям египтянина или грека.
Первичным символом всякой культуры является пространство, которым определяется характер и природа всех остальных символов, т. е. всех внешних форм культуры. Каждый культурно-психический тип переживает и чувствует пространство по-своему. Понятие пространства тесно связано с идеей смерти, ибо страх смерти равнозначен со страхом перед пределом — перед пространством. «Геометрическое» пространство грека или аполлоновской души противоположно «аналитическому» пространству фаустовской души, т. е. западноевропейского человека. «Геометрическая» душа античного человека стремится к покою и сосредоточивает свое внимание на конечном, мгновенном и телесном. Фаустовская же душа характеризуется стремлением к бесконечному и волей к власти. Эти основные свойства проникают все феномены культуры. Отсюда коренное отличие античной математики, физики, механики, искусства от современных западно-европейских.
Античный дух создает механическую статику; западно-европейский — механическую динамику. В математике фаустовский дух выражается в понятии функции, которая растворяется в ряде процессов. Аполлоновская душа имеет представление о числе, как об определенной и конечной величине; это в известном смысле пространственное понятие. Античный мир вкладывал в понятие движения представление «перемещений», между тем, как фаустовский дух в идее движения видит, «направленность«к бесконечному. Три механические системы — статика, химия и динамика соответствуют различию трех культурно-психических типов: аполлоновскому, магическому (арабскому) и фаустовскому. Им же соответствуют и три различные математические концепции: эвклидова геометрия, алгебра и анализ. В области искусства мы имеем: статую, арабеску и футу. В физике: механический порядок состояний, скрытых сил и процессов. Словом, аполлоновская душа отличается статическим характером, фаустовская — динамическим.
Атомы древних материалистов Левкиппа и Демокрита в соответствии с основным принципом аполлоновской души различаются друг от друга только формой и величиной; это чисто пластические элементы. Атомы современной западно-европейской физики — центры сил; их неделимость имеет особый имматериальный смысл. Основным для западно-европейского человека является понятие силы, движения, прогресса, воли к власти; основным для античного — понятие формы, покоя, ограниченности.
Единством души определяется внутренняя связь всех феноменов культуры. «Между дифференциальным исчислением и династическим государственным принципом Людовика XIV, между античным городом («полисом«), как формой государства и эвклидовой геометрией, между пространственной перспективой, западно-европейской живописью и преодолением пространства при помощи железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической инструментальной музыкой и кредитной системой существует глубокая связь форм». Единство метафизики, математики, религии, физики, искусства, техники определенной культуры коренится в единстве ее «души» или «идеи». Насколько Шпенглер в этой части своего мировоззрения близок к Гегелю осведомленному читателю ясно без особых разъяснений.
Наряду с принципом единства «форм», образующих в своей совокупности образ или физиономию культуры, составляющую специфический предмет исследования историка или философа культуры, особое место в исторической теории Шпенглера занимает принцип аналогии или точнее гомологии. При помощи этого принципа, мы получаем возможность сопоставлять механические, физические, политические и т. д. системы различных культур и определять их сравнительное значение для данных культурных организмов. При помощи принципа аналогии мы в состоянии установить безошибочно возраст культуры, еще не закончившей цикла своего развития,сравнивая ее с культурой, отошедшей уже в вечность. Историческая наука имеет своей задачей сравнительное изучение соответствующих возрастов и связанных с ними форм. Если принять во внимание, что продолжительность жизни каждой культуры определяется Шпенглером в тысячу лет, и что каждый возраст также имеет вполне определенную, для всех культур одинаковую, продолжительность, то ясно, что принцип «хронологии» в соединении с идеей «возрастов» дает возможность легко предвидеть исторические события. Сопоставляя античный стоицизм с современным социализмом, Шпенглер на основании «хронологии» приходит к выводу относительно предстоящей гибели западно-европейской культуры, так как социализм, видите ли, представляет собою такой же симптом дряхлости нашей культуры, как стоицизм — античной.
На рубеже девятнадцатого столетия Европа вступила в старческий возраст и с тех пор быстрыми шагами приближается к смерти. Предстоящая Европе смерть является неизбежным следствием переживаемой ею эпохи цивилизации. Всякая культура переживает три фазиса: этнографическое состояние («первичное состояние хаоса», как выражается Шпенглер), собственно культурное и цивилизационное. Первичный период, составляющий детство культурного организма, чрезвычайно продолжителен; это период подготовки, формирования психического типа и собирания сил. Собственно — культурный период — это эпоха напряженного и интенсивного творчества; в этот именно период создаются глубокие метафизические системы, рождаются великие произведения искусства, закладываются прочные основы общественной и политической организации, — словом, это период зрелости культуры и расцвета всех жизненных сил ее. За культурным периодом следует эпоха цивилизации, которая продолжается обычно двести — триста лет. Это период дряхлости организма, приближающегося к смерти.
Возраст имеет органическое значение для культурного типа; он налагает вполне определенную печать на всю творческую деятельность народа. Возраст обнаруживается во всех его творениях. И наоборот: по характеру деятельности культурного типа мы имеем возможность судить о переживаемом им возрасте: Так, «возраст» и «хронология» приобретают для Шпенглера мистическую ценность и значение.
Дуализм души и тела (совокупности символов) культуры ведет к признанию двух различных способов познания — рассудочного и интуитивного. Рассудком мы способны постигать только «видимость» вещей. Для проникновения же в лежащую позади явлений сущность вещей необходим особый орган — «божественное созерцание», которое является даром пророка, но которое не дано обыкновенным смертным.
Всякая культура проникнута роковым дуализмом, неразрешимыми противоречиями. Душа есть жизнь, а жизнь — вечный поток, становление; она органически связана с временем и с понятии судьбы. Судьба тожественна с переживаемым каждым человеком чувством времени, которое означает неизбежность всего совершающегося, предопределенность и необратимость жизненного процесса. Тайна судьбы: скрывается в складках времени. Таким образом судьба и время — формы интуитивного опыта.
Тело культуры — совокупность символов — познается нами посредством категорий пространства и причинности, ибо «символы» — застывшее мертвое бытие. Но так как «символы» являются продуктами творческой деятельности души, то время порождает пространство, судьба — причинную необходимость, дух — мир, история — природу (которая ведь есть не что иное, как функция определенной культуры, т. е. ее души), жизнь — смерть. В силу этой противоположности существуют две формы космической необходимости: органическая и механическая. Механическая или неорганическая логика, т. е. наука рождается в результате борьбы с органической логикой. Механизирующий рассудок восстает против непостижимой и неумолимой судьбы в целях укрощения и подчинения ее себе.
Органический период культуры характеризуется признанием необходимости судьбы и изъявлением ей покорности. Человек во всем видит, волю Бога. Стремление же человека при помощи созданной им науки приобрести власть над судьбой, над непостижимым означает бунт рассудка против воли Провидения. В этом повороте от религии и метафизики к положительной науке и заключается, по мнению Шпенглера, переход культуры в цивилизацию. Цивилизация, т. е. научное рассудочное познание, «убивает» идею судьбы и непознаваемого, — жалуется Шпенглер. Религия и метафизика исходят из признания непостижимого и требуют безусловного ему подчинения. Народ должен подчиниться слепому року и олицетворяющим его силам — в том числе и общественным. Научное познание отвергает непознаваемое и непостижимое и тем самым подчиняет «судьбу» человеческой воле. «Дерзость» разума заключается в том, что он вскрывает внутреннюю связь явлений, берет свою судьбу в собственные руки и «свергает» стоящие над жизнью таинственные силы.
Культура, как и цивилизация, связаны с определенным общественным укладом. Цивилизация продукт мирового города, культура же связана с землей, с деревней. В эпоху цивилизации на историческую арену выступает «паразит», бесформенная масса, лишенная всех традиций. Творцом же культуры является сросшийся с землей «народ». Некогда борьба за идеальное постижение смысла жизни разыгрывалась на почве религии и метафизики между «почвенным» духом крестьянства, т. е. дворянства и духовенства (как вам, читатель, нравится это отожествление крестьянства с дворянством и духовенством?) и светским духом старых городов. Современный обитатель города рационалист, атеист и радикал; он с отвращением относится к религии и метафизике, враждебно настроен по отношению к «крестьянству». Он отказывается принять мир и жизнь, как ниспосланную Богом судьбу. Решающую роль в современной жизни играют «народные массы», которые ведут ожесточенную борьбу с культурой, т. е. с дворянством, церковью, династиями и привилегиями. Таким образом, «культура», освобожденная от метафизического тумана, которым Шпенглер ее окутывает, предстает перед нами в образе» алтаря и престола».
Эпоха цивилизации характеризуется рационализмом, натурализмом и материализмом. Рационалистическая критика всех основ жизни и всеуравнивающий натурализм требуют уничтожения исторических различий между привилегированными и закрепощенными (какие ужасы!), замены существующей государственной организации справедливым общественным строем. В связи со всем этим возникает и новая плебейская мораль социализма, которая ставит перед собою практические задачи и имеет целью преобразование жизненных форм. «Трагическая» мораль полнокровной культуры сознает «тяжесть» бытия и неизбежность судьбы, в то время как социализм строит стратегические планы в целях «обхода» судьбы. Социалистическая или плебейская, как презрительно называет ее Шпенглер, этика проникнута гуманностью, она проповедует всеобщее братство, счастье большинства и мир между народами. Если такие ужасные вещи имеют место в действительности, а этого отрицать нельзя, — то ясно, что мы накануне светопреставления, что культура погибает, что Европа сгнила, что она переживает агонию и бьется уже в предсмертных судорогах...
* * *
Итак, носителями и творцами культуры являются дворянство, духовенство и король. Даже буржуазия в качестве культурного фактора для Шпенглера не существует. Поэтому нет ничего удивительного, что органический период культуры оканчивается с великой французской революцией. Правда, формула Шпенглера совершенно не соответствует исторической действительности, ибо рационализм, механизм, натурализм и отчасти материализм являются господствующими умственными течениями XVI, XVII и XVIII столетий. Но какое дело Шпенглеру до фактов. Ведь «факты», эмпирическая действительность являются лишь «символом» метафизической сущности, лежащей позади явлений. Для уразумения истинного смысла действительности необходимо «божественное созерцание», которое способно постигнуть «более глубокое значение» данных в эмпирическом мире явлений. Так что «факты» с метафизической точки зрения иногда означают нечто совершенно другое, чем нам, обыкновенным смертным, это кажется. При таких условиях рационализм и натурализм в метафизическом аспекте, т. е. по истинной своей сущности, превращаются в свою противоположность. С этой точки зрения, какой-нибудь Гегель в метафизическом свете может превратиться в самого яркого выразителя натурализма и механизма. Так оно в действительности и происходит у Шпенглера. Но ясно, что на этой почве спор с Шпенглером совершенно невозможен. Его «метафизику» истории остается или целиком отвергнуть, или же принять на веру. Блаженны верующие! Но мы к их числу не принадлежим.
Шпенглер поставил себе определенную задачу, которая сводится к утверждению принципа народности в науке, искусстве, политике, технике. Этот принцип народности должен оправдать специальные притязания прусского империализма. В этих целях воздвигается нашим мыслителем китайская стена между отдельными культурами или культурно-психическими типами. Нет общезначимых, объективных истин, на всем лежит печать «народности», нет человечества, по отношению которого у отдельных индивидов или народов существовали бы какие-либо обязанности. Обязанности существуют лишь по отношению к своему типу или народу. Словом, все национально, в том числе и социализм.
Проблема цивилизации совпадает с проблемой пролетариата и социализма. Пролетариат — это обозленная, бесформенная масса, полная ненависти к культуре, религии и метафизике. Пролетариат создает себе особое социалистическое мировоззрение, основанное на рационализме, сенсуализме и материализме. Для него преобладающее, даже исключительное, значение приобретают практические задачи преобразования общества. Выступление рабочего класса на историческую арену знаменует собою начало гибели культуры. Собственно говоря, в этой «философии» нет ничего нового; реакционеры всех стран видят в пролетариате того варвара, который пришел разрушить культуру и уничтожить все ее ценности.
Марксизм является общепризнанной идеологией международного рабочего движения. И поэтому естественно, что Шпенглер на всем протяжении своей книги ведет открытую борьбу с материалистическим пониманием истории. Маркс, — говорит Шпенглер, — силен в критике существующего, но он поверхностен и крайне беспомощен, как творец. Это особенно ясно видно на отношении Маркса к истории, которая рассматривается им как эволюционный процесс. Человечество никаких целей не имеет. Счастье людей — нелепая идея. Мировое гражданство — жалкая фраза. «Мы люди определенного века, определенной нации, круга, типа», И эта наша принадлежность к определенному типу является необходимым условием, при котором наша жизнь приобретает «смысл и глубину». Чем больше мы сознаем эту национальную ограниченность, тем большее значение и ценность приобретает наша деятельность.
Социализм так же национален, как искусство, математика и философия; рабочих движений существует столько же, сколько отдельна живых рас. Они относятся друг к другу с такой же ненавистью, как и соответствующие народы. В минувшую войну против Германии наряду с буржуазией Антанты выступил и псевдосоциализм стран Согласия, но это была война против истинного, т. е. прусского социализма. Прусско-германский социализм имеет своим врагом не немецкий капитализм, который давно уже проникся социалистическим духом, а антантовский лжесоциализм. Вожди официального немецкого социализма, — жалуется Шпенглер, — не понимают той простой истины, что кроме прусского социализма никакого другого нет. Французский социализм основан на элементарном чувстве социальной мести; это социализм саботажа и путчей; английский социализм не что иное, как особая форма капитализма. Английские и французские рабочие являются самыми яркими представителями своей расы. В отличие от французского и английского только один прусский социализм является мировоззрением. Пруссак — прирожденный социалист...
Прусский инстинкт гласит: власть принадлежит государству, личность находится на службе у государства, а король первый его слуга. Эта концепция составляет сущность, так наз., авторитарного социализма, который по самому существу своему антиреволюционен и антидемократичен. Авторитарный социализм родился в Пруссии еще в XVIII столетии, и задача нашего века состоит в том, чтобы вернуться к идеалу XVIII века. Но зловредный марксизм спутывает все карты. Марксизм превратил одну часть немецкого народа, состоящего из крестьян и чиновников, в «четвертое сословие», а другую преобладающую часть в третье сословие, избрав последнее объектом классовой борьбы.
Марксистские партии сыграли роковую роль в революции 1917 г., ибо коренная ошибка их заключалась в том, что они стремились к осуществлению того, что в Германии давно уже является действительностью. В самом деле, что такое социализм, — спрашивает Шпенглер? И отвечает: социализм — это политический, хозяйственный и социальный инстинкт реалистически настроенных народов. В этом инстинкте живет старая фаустовская воля к власти, воля к безусловному мировому господству в военном, экономическом и умственном отношениях. Этот инстинкт получил самое яркое выражение в факте мировой войны и идее социальной революции. Стоящая перед нашей цивилизацией задача сводится к необходимости сковать посредством фаустовской техники все человечество в единое целое. В этом и заключается внутренний смысл современного империализма. Таким образом, Шпенглер приходит к отожествлению социализма с империализмом. Пруссаки являются воплощением фаустовского духа в его самой чистой и совершенной форме. Стало быть, пруссаки призваны выполнить миссию социализма и империализма.
Прусская идея, в отличие от английской, заключается в принципе сверхличного «товарищества». Англия — классическая страна капитализма, Пруссия — классическая страна социализма. Гогенцоллерны являются носителями «общинного» духа и слугами государства. Островное положение Англии способствовало развитию личного начала и сделало возможным существование народа без прочной государственной организации. Личное начало враждебно порядку и проявляется в жестокой эксплуатации более слабых народов и классов.
В пруссаке же сильна и жива идея государства и труда. Каждый класс проникнут глубоким сознанием своего социального призвания и чувством преданности целому. Принадлежность к тому иди иному сословию обусловливается не богатством, как в Англии, а «рангом», ибо для пруссака труд имеет самостоятельную нравственную ценность; труд для него призвание. Прусская или социалистическая этика учит, что в жизни следует стремиться к исполнению долга, а не к обогащению, как этого требует английская капиталистическая этика.
Социальные различия в обоих странах имеют неодинаковый характер. Низшие классы в Англии не имеют никакого значения и не играют никакой роли. Положение же трудящихся классов в Пруссии определяется возможностью достигнуть любого «ранга». Социалистический строй имеет своим основанием авторитет. В этом смысле Пруссия — идеал социалистического порядка. Пруссак презирает богатство и подчиняется авторитету своего вождя. Целью хозяйственной деятельности пруссака является благо и процветание целого. Эта экономическая идея теснейшим образом связана с принципом государственного авторитета. Каждый член общества получает свое хозяйственное, так сказать, назначение от организованного авторитета государства. Гогенцоллерны и выполняли роль колонизаторов и организаторов общества и в этом же духе воспитали немцев.
Английская же хозяйственная система построена на началах эксплуатации и грабежа. Марксизм является порождением английского капитализма и вполне к нему применим, но только к нему, ибо только в Англии происходит ожесточенная борьба между капиталом и трудом. Вместе с тем не следует забывать, что английское рабочее движение ничего общего с социализмом не имеет. Английский социализм проникнут целиком духом капитализма; в то же время прусский капитализм по существу своему социалистичен. Прусский капитализм давно уже принял социалистические формы в смысле своеобразного государственного порядка и государственного управления хозяйством. Таким образом, Англия и Пруссия противостоят друг другу, как две непримиримых хозяйственные системы. Так как оба народа являются выразителями фаустовского принципа, то оба они будут стремиться навязать свою идею и свою волю всему остальному миру; борьба между обоими народами будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не одержит окончательной победы над другой. Проблема, которая должна быть решена в общемировом масштабе, может быть формулирована в следующих словах: должно ли мировое хозяйство стать мировой организацией, т. е. подчиниться прусскому принципу или же оно примет всеобщую форму мировой эксплуатации, т. е. подчинится английскому принципу.
Вместе с английским принципом уничтожению подлежит и марксовский псевдо-интернационал, на место которого должен стать истинно-прусский интернационал, который, однако, возможен только в результате победы идеи одной расы над всеми другими. Надо помнить, говорит Шпенглер, что в действительной жизни нет места примирению или компромиссам. Здесь возможна только победа или смерть — смерть народов и культур. К смерти приговорены французы и англичане, ибо культура их давно сгнила, а творческие силы этих народов давно иссякли. Это дряхлые организмы, которым пока на покой. Другое дело немцы. Немцы — народ молодой и сильный; «наша гибель лежит в туманной дали отдаленного будущего». Живя в текущем столетии, будучи вплетены и связаны всем существованием своим с фаустовской цивилизацией, мы, немцы, имеем перед собой величайшие задачи, массу еще неосуществленных возможностей. Отсюда ясно, что гегемония над миром должна принадлежать только немцам, самому молодому и самому сильному из фаустовских народов. Немцы единственный народ, который призван осуществить идею мировой цивилизации, мирового государства, идею интернационала.
«Истинный интернационал, говорит Шпенглер», это империализм. Стоящая перед интернационалом задача заключается в завоевании фаустовской цивилизации при помощи одного организующего принципа. Европа стоит перед опасностью стать добычей народа-эксплуататора, т. е. англичан, которые обратят всех в рабство. При таких условиях Пруссия призвана спасти мир. Но Пруссия в состоянии будет выполнить свою миссию только при условии освобождения немецких рабочих от иллюзий марксизма и марксовского интернационализма. Иначе говоря, Пруссия в состоянии будет осуществить свои империалистические стремления только при том условии, если немецкие рабочие проникнутся идеологией империализма и заключат союз с «старо-прусскими силами», т. е. с монархией и юнкерством — с этими истинными носителями и творцами культуры.
Но так как немецкие рабочие уже достаточно «развращены» цивилизацией, то необходимо им дать известную «компенсацию» в виде истинно-прусского социализма.
Перед проницательным взором Маркса, говорит Шпенглер, предстала во всей своей ясности перспектива гибели Европы в случае победы английского принципа. Поэтому он со всей силой обрушивается на английское понятие частной собственности. Но формулировка Маркса носит чисто отрицательный характер: зкспроприация экспроприаторов. Несмотря, однако, на эту отрицательную формулировку, в ней заключается все же прусский принцип: «уважение» перед собственностью и стремление содержащуюся в ней мощь передать общественному целому — государству. Эта проблема носит, название социализации. Но оказывается, что и тут Маркса предупредили Гогенцоллерны, ибо прусское правительство, начиная от Фридриха Вильгельма I вплоть до последнего времени проводило политику социализации. И кто «испортил» это великое дело Гогенцоллернов? Опять-таки ненавистные Шпенглеру марксисты.
Марксовское понимание социализации, — говорит Шпенглер, в корне ошибочно, ибо социализация вовсе не означает обобществления или огосударствления собственности путем отчуждения ее. Социализация — вопрос не номинального владения, а чисто техническая проблема управления. Старо-прусская идея социализации и заключалась в том, чтобы при тщательном соблюдении права собственности и наследования всю совокупность производительных сил формально подчинить законодательству. Таким образом социализация сводится к постепенному превращению рабочего в хозяйственного чиновника, предпринимателя — «в ответственного управляющего с широкими полномочиями», «собственности — в род наследственного лена в смысле старых времен, связанного с известной суммой прав и обязанностей». Социалистические способности прусского чиновника являются гарантией возможности осуществления «социализации». Тип прусского чиновника — единственного в мире — воспитан Гогенцоллернами. Немецкий рабочий должен стать таким «чиновником», ибо «государство будущего это государство чиновников».
Идеал консервативной партии, — говорит Шпенглер, — совпадает при таких условиях с идеалом пролетариата, ибо оба стремятся к полному огосударствлению хозяйственной жизни законодательным путем. Но такая задача может быть выполнена только монархом, преданным «традициям своего рода и мировоззрению своего призваны». Он будет играть роль третейского судьи в спорных случаях, ибо монарх стоит над партиями и классами и несет заботу о государственном целом. В социалистическом государстве он будет производить отбор «руководителей» по моральным их качествам. Словом, монарх — единственная опора и защита против торгашества (читай: англичан). Республика означает продажность государственной власти. «Президент, премьер-министр или народный уполномоченный являются креатурами партии, а партия — креатура тех, кто опаливает».
Судьбу Европы, а с ней и всего мира, решит Германия. Надо помнить, что пруссачество и социализм — вещи тожественные. Марксизм и классовый эгоизм повинны в том, что социалистический пролетариат и консервативная партия до сих пор враждовали между собою. «Объединение их означает осуществление идеи Гогенцоллернов и одновременно освобождение рабочего класса». Пролетариат должен покончить с иллюзиями марксизма и псевдо-интернационализма. Для рабочего класса существует только прусский социализм, или его вовсе нет, — пугает Шпенглер рабочих. Рядом с этим идет увещевание консерваторов или юнкеров. Консерваторы также должны освободиться от классового эгоизма. Они должны понять, что демократия — политическая форма нашей эпохи, как бы мы ни относились к ней по существу. Если консерваторы не хотят погибнуть, они должны сознательно стать на сторону социализма. Демократия не должна отпугивать консерваторов, ибо речь идет не об английско-французских формах ее, а о прусской. Наша свобода состоит в освобождении от хозяйственного произвола отдельного лица.
Заканчивается эта империалистическая философия пламенным призывом к молодому поколению, которому Шпенглер советует стать мужами, воспитать себя для предстоящей великой задачи. Нам, — говорит Шпенглер, — необходим класс «социалистических господских натур». Социализм означает власть над миром, осуществление империалистического интернационала. Путь к нему лежит через объединение немецких рабочих с «лучшими носителями» старо-прусской государственности.
* * *
Итак, основной сногсшибательный тезис о неизбежной гибели западно-европейской культуры предстал перед нами теперь в истинном свете. Оказывается, Европа может быть еще спасена Пруссией, гибель которой «лежит в туманной дали отдаленного будущего». Победа прусского империализма может предотвратить гибель западно-европейской культуры.
Теоретическое же обоснование тезиса о гибели культуры до чрезвычайности легковесно. В защиту своего положения Шпенглер приводит два довода: один — метафизический, а другой — эмпирический. Метафизический довод вытекает из всей концепции Шпенглера о культуре, как организме, обладающем самобытной душой. Душа обладает ограниченными возможностями; силы ее истощаются после осуществления этих «возможностей». Душа, воплотив свою «идею» в действительность, дряхлеет и умирает. Но это соображение не может быть принято всерьез, по крайней мере, теми, которые не обладают способностями проникнуть в природу «души» культуры. С другой стороны, оно опровергается эмпирическими фактами, которые свидетельствуют о сравнительной долговечности отдельных культур, вроде китайской.
Что же касается второго «эмпирического» довода, то он основан на аналогии между античным миром и западной Европой. Западная культура в лице социализма переживает, мол, античный стоицизм, т. е. период дряхлости. Аналогический метод сам по себе чрезвычайно ненадежен, но его теоретическая ценность равна почти нулю, когда на основании одной аналогии между двумя случайно выбранными явлениями делается заключение, претендующее на значение исторического закона. Это формальная сторона вопроса. По существу же, между стоицизмом и социализмом существует столько же общего, сколько между Шпенглером и... Марксом. Стоицизм был проникнут глубокой религиозностью, пассивностью и фатализмом. Стоицизм, подобно Шпенглеру, требовал от человека подчинения судьбе. Между тем, как современный научный социализм рационалистичен, атеистичен и активен, как это признал тот же Шпенглер, и стремится превратить человека из раба в господина «судьбы». Не в этом ли залог победы социализма и спасения культуры? Да, старая культура, если под ней понимать религию и метафизику, «погибает», как «погибают» те общественные классы, которые являлись ее носителями, поборниками и творцами. Но следует ли отсюда, что религия и метафизика составляют исключительное содержание всякой культуры? Конечно, нет! Шпенглер утверждает, что всякая культура имеет своим источником религию и что, стало быть, там, где нет религии и метафизики, нет науки, нет искусства, нет культуры вообще. Но это одно из тех многочисленных изречений Шпенглера, которые не имеют под собою никакой почвы. Ибо современная культура родилась и достигла расцвета именно в борьбе с религией и метафизикой. Содержание культуры меняется от эпохи к эпохе, сама же культура остается и делает все новые и новые завоевания. Социализм стремится не к разрушению культуры, а к «завоеванию» ее и к дальнейшему ее развитию, вложив в нее новое содержание. Стало быть, речь может идти о «гибели» определенного содержания культуры, но не культуры вообще.
Чем определяется характер культуры? Природой, лежащей в ее основании души, отвечает Шпенглер. Но так как каждый народ и даже сословие (не говоря уже об отдельном человеке) в свою очередь обладают «душой», то единая душа культуры распадается на совокупность отличных друг от друга душ. Таким образом, мы получаем единство во множестве и множество в единстве. В «пределах» Фаустовской души, как мы видели, существует прусская и английская душа, существуют различные «инстинкты», которые противоположны друг другу и в то же время составляют все же единство. Очевидно, что заключение отсюда к единой «общечеловеческой душе» (или «абсолютной душе«) напрашивается само собой. Однако, Шпенглер стоит твердо на почве культурно-психических типов, абсолютно разнородных и чуждых друг другу. Но эта логическая непоследовательность нашего философа искупается и оправдывается, по-видимому, последовательностью «психологической», последовательностью националиста и империалиста. В конечном счете для Шпенглера истинной «реальностью» является «душа» его народа.
И в этом отношении, как, впрочем, и во всей своей философско-исторической концепции, он остается верным учеником своего учителя — Н. Я. Данилевского[2]. Этот идеолог русского национализма еще в 1869 г. изложил во всех подробностях и теорию культурно-исторических типов, и идею морфологии, и принцип аналогии, и теорию возрастов — словом предупредил Шпенглера во всех мелочах. Не имея возможности остановиться подробнее на проведении параллели между обоими писателями, мы все же позволим себе вкратце изложить основные мысли Данилевского в доказательство того, что Шпенглеровская «Америка» давно уже открыта. Данилевский, как и Шпенглер, исходит из мысли о существовании обособленных культурно-исторических типов, составляющих те «реальности», с которыми имеет дело история. Человечество — отвлеченное понятие, а не реальность, и говорить о единстве человечества, как субъекта истории, об общей теории развития политических обществ, о преемственности начал культуры, науки, искусства в поступательном ходе развития народов абсолютно не приходится. Гегелевская схема развития человечества, согласно которой история отдельных народов является как бы отрезком единой линии, последовательными ступенями человеческого прогресса, является в корне ошибочной. Общей культуры нет, существует только развитие отдельных культурно-исторических типов, которые представляют собою ряд параллельных линий, никогда не встречающихся и нигде не сталкивающихся. И Данилевский почти теми же словами, что и Шпенглер, обрушивается на историков за то, что у них «самая общая группировка всех исторических явлений и фактов состоит в распределении их на периоды древней, средней и новой истории[3]», и что «судьбы Европы или германо-романского племени были отождествлены с судьбами всего человечества»[4]. «Деление истории на древнюю, среднюю и новую, хотя бы и с прибавлением древнейшей и новейшей, — говорит Данилевский, — или вообще деление по ступеням развития — не исчерпывает всего богатого содержания ее. Формы исторической жизни человечества, как формы растительного и животного мира, как формы человеческого искусства (стили архитектуры, школы живописи), как формы языков (односложные, приставочные, сгибающиеся), как проявление самого духа, стремящегося осуществить типы добра и красоты (которые вполне самостоятельны и не могут же почитаться один развитием другого), не только изменяются и совершенствуются повозрастно»[5], но еще и разнообразятся по культурно-историческим типам. Поэтому, собственно говоря, только внутри одного и того же типа, или, как говорится, цивилизации — и можно отличать те формы исторического движения, которые обозначаются словами: древняя, средняя и новая история. «Это деление есть только подчиненное, главное же должно состоять в отличении культурно-исторических типов, так сказать, самостоятельных, своеобразных планов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного, одним словом исторического развития»[6].
Борьба обоих идеологов национализма направлена главным образом против единого человечества, как субъекта исторического прогресса и против всемирно-исторической точки зрения, утверждающей преемственность культурных приобретений и существование общечеловеческих форм общественного устройства, художественного творчества, научной и философской мысли.
«Германская философия, — говорит Данилевский, — с презрением устраняя все имевшее сколько-нибудь характер случайности и относительности, схватилась бороться с самим абсолютным и, казалось, одолела его. Так же точно социализм думал найти общие формы общественного быта, в своем роде также абсолютные, могущие осчастливить все человечество, без различия времени, места или племени. При таком направлении умов понятно было увлечение общечеловеческим»[7]. Данилевский был знаком с так назыв. французским, т. е. утопическим социализмом, который все несовершенства общественного устройства считал плодом невежества, а не необходимым следствием экономических условий исторического развития. Но современный научный социализм, с которым Шпенглер, хотя и плохо, но все же знаком, выводит сходство различных народов из одинаковых условий экономического быта и его развития. Марксизм дает вместе с тем и научное объяснение возможности «передачи» начал культуры одним народом другому, поскольку их общественное сознание определяется одинаковым или сходным общественным бытием. Но метафизика Шпенглера и Данилевского, разумеется, не может удовлетвориться таким эмпирическим объяснением исторических явлений.
«Общечеловеческой цивилизации, — говорит Данилевский, — не существует и не может существовать, потому что это было бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота». Существуют только цивилизации определенных культурно-исторических типов, независимых друг от друга, при чем начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя и из себя. «Прогресс, — говорит Данилевский, — состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро прекратился бы), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития., в сравнении с ее предшественницами или современницами, во всех сторонах ее развития». «Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, т. е. надо, чтобы вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурно-исторического типа»[8]. Таким образом, формулировка культурно-исторических типов у Данилевского почти тожественна с определением Шпенглера. И, стало быть, великое открытие, которое Шпенглер приписывает исключительно своей гениальности, сделано задолго до него. Любопытно отметить в этой связи, что и Данилевский, подобно Шпенглеру, сравнивает это свое «открытие» с Коперниковским переворотом «в астрономии». «Как только ложное понятие о центральности земли было заменено естественною системою Коперника, т. е., каждое небесное тело поставлено и в умах астрономов на подобающее ему место, сейчас же открылась возможность определять относительное расстояние этих тел от солнца». Историки находятся в том же положении, как и астрономы. «Эти последние могут определять, со всею желаемою точностью, орбиты планет, которые во всех точках подлежат их исследованиям — могут даже приблизительно определять пути комет, которые подлежат исследованиям только в некоторой их части; но что могут они сказать о движении всей солнечной системы, кроме того разве, что и она движется, и кроме некоторых догадок о направлении этого движения? Итак, естественная система истории должна заключаться в различении культурно-исторических типов развития, как главного основания ее делений, от степеней развития, по которым только эти типы, а не совокупность исторических явлений могут подразделяться»[9].
Установив далее определенные признаки самобытного культурно-исторического типа, Данилевский в полном согласии с Шпенглером приходит к тому заключению, что Европа представляет собою культурно-историческую единицу, объемлющую собою германо-романский мир. Предвидя возможное возражение, что понятие общеевропейской цивилизации однозначно с преодолением национальной ограниченности и признанием общечеловеческого, Данилевский спешит опровергнуть этот аргумент следующим рассуждением: «Здесь, — говорит он, — не принималось во внимание того, что Франция, Англия, Германия были только единицами политическими, а культурной единицей всегда была Европа в целом, что, следовательно, никакого прорвания национальной ограниченности не было и быть не могло, что германско-романская цивилизация, как была всегда принадлежностью всего племени, так и осталась ею«[10]. Это опять-таки вполне в духе Шпенглера, который политические организмы — Германия, Англия, Франция — «диалектически» объединяет в высшем понятии фаустовского, т. е. западно-европейского или германо-романского культурно-исторического типа.
Ход развития культурно-исторических типов Данилевским уподобляется законам развития «растительного и животного организма который рождается, достигает зрелости, затем возмужалости и, наконец, старости, при чем период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу». В этнографический, т. е. первоначальный, подготовительный период, начинающийся с самого момента выделения культурно-исторического племени от сродственных с ним племен и измеряемый тысячелетиями, собирания запаса сил для будущей сознательной деятельности, закладываются те особенности в складе ума, чувства и воли, которые составляют всю оригинальность племени, налагают на него печать особого типа общечеловеческого развития и дают ему способность к самобытной деятельности, без чего племя было бы общим местом, бесполезным, лишним, напрасным, историческим плеоназмом в ряду других племен человеческих. За этнографическим периодом следует период государственный, «в который народы приготовляют, так сказать, место для своей деятельности, строят свое государство и ограждают свою политическую независимость, без которой, как мы видели, цивилизация ни начаться, ни развиться, ни укрепиться не может». Наконец, за государственным периодом наступает цивилизационный. «Если этнографический период есть время собирания, время заготовления запаса для будущей деятельности, то период цивилизации есть время растраты — растраты полезной, благотворной, составляющей цель самого собирания, но все-таки растраты; и как бы ни был богат запас сил, он не может, наконец, не оскудеть и не истощиться — тем более, что во время возбужденной деятельности, порождающей цивилизацию и порождаемой ею, живется скоро. Каждая особенность в направлении, образовавшаяся в течение этнографического периода, проявляясь в период цивилизации, должна непременно достигнуть своего предела, далее которого идти уже нельзя, или, по крайней мере, такого, откуда дальнейшее поступательное движение становится уже медленным и ограничивается одними частными приобретениями и усовершенствованиями. Тогда происходит застой в жизни, прогресс останавливается; ибо бесконечное развитие, бесконечный прогресс в одном и том же направлении (а еще более во всех направлениях разом), есть очевидная невозможность»[11]. Мы видели, что Шпенглер различает те же три периода: этнографический, культурный и цивилизационный.
По вопросу об определении возраста культурно-исторического типа, продолжительности его жизни, как и возможности посредством аналогии исторического предвидения, Данилевский опять-таки обнаруживает удивительную солидарность с Шпенглером. «Рассматривая историю отдельного культурного типа, — говорит Данилевский, — если цикл его развития вполне принадлежит прошедшему, мы точно и безошибочно можем определить возраст этого развития, — можем сказать: здесь оканчивается его детство, его юность, его зрелый возраст, здесь начинается его старость, здесь его дряхлость, или, что то же самое, разделить его историю на древнейшую, древнюю, среднюю, новую, новейшую и т. д. Мы можем сделать это с некоторым вероятием, при помощи аналогии, даже и для таких культурных типов, которые еще не окончили своего поприща»[12]. Высказанное в этих строках положение почти дословно находим у Шпенглера, который, однако, уверяет, что никто никогда к этой «великой» истине даже и не приближался.
Знаменитый морфологический принцип, составляющий предмет особой гордости Шпенглера, фигурирует у Данилевского даже под тем же названием и развит со всей определенностью. Науки о духе, — говорит Данилевский, — не существует безотносительно к определенным формам. Они имеют «своим предметом лишь видоизменения материальных и духовных сил и законов — под влиянием морфологического принципа», т. е. в соединении с известными формами. Эти науки не вырабатывают общих теорий, а отыскивают лишь частные законы. Физиология, анатомия, науки филологические, исторические и общественные не могут быть науками теоретическими, а лишь науками сравнительными. «Общественные явления не подлежат никаким особого рода силам, следовательно, и не управляются никакими особыми законами, кроме общих духовных законов. Эти законы действуют особым образом под влиянием морфологического начала образования обществ; но так как эти начала для разных обществ различны, то и возможно только не теоретическое, а лишь сравнительное обществословие и части его: политика, политическая экономия и т. д.»[13]. И далее: «Теоретическая политика или экономия так же невозможна, как невозможна теоретическая физиология или анатомия. Все эти науки и вообще все науки, за исключением трех вышеупомянутых (т. е. химии, физики и психологии. — А. Д.), могут быть только сравнительными. Следовательно, за неимением теоретической основы, — каких-либо особенного рода самобытных, не производных экономических или политических сил и законов, — все явления общественного мира суть явления национальные (курсив наш. — А. Д.) и, как таковые, только и могут быть изучаемы и рассматриваемы»[14]. Итак, все науки национальны, но наиболее национальным характером отличаются науки общественные, так что говорить об общей теории устройства гражданских и политических обществ нелепо, ибо общественные науки народны по самому своему объекту...
Необходимо далее указать, что даже характеристика психического строя культурных типов у Данилевского и Шпенглера почти тождественна. Так, напр., Данилевский, как и Шпенглер, противополагает геометрический метод греков аналитическому методу германо-романского мира и алгебраическому индийцев, причем это различие в методах обменяется Данилевским различием психических особенностей соответствующих типов. Геометрическая метода требует, чтобы «геометрическая фигура, свойства которой исследуются, непрестанно представлялась воображению с полною отчетливостью; воображение греков отличалось пластичностью представлений (курсив наш. — А. Д.); отношение предметов и понятий их не удовлетворяло, так как им необходимо было живое, образное представление самих предметов и тел. Что касается индийцев (Шпенглер прибавил бы и арабов. — А. Д.) — этих изобретателей алгебры, то отличительное свойство их психического склада — богатство фантазии». «Воображение индийцев сочетает и нагромождает самые странные фантастические, и вместе с тем и самые неясные, неотчетливые». Германо-романский тип отличается особыми психическими свойствами, результатом которых является особая своеобразная культура. И если взять самое абстрактное ее выражение — математику, то мы видим здесь господство анализа. «При методе аналитической, составив из рассмотрения фигуры уравнение, которое связывало бы между собою некоторые существенные свойства фигуры, подвергают это уравнение процессу диалектического развития, совершенно оставляя в стороне представление о самой фигуре. Из этого диалектического развития, если оно произведено правильно, вытекают сами собою выводы, к которым могут подать повод свойства фигуры»[15].
Таким образом, между Шпенглером и Данилевским существует полное единодушие по всем вопросам. Мы считаем лишним и бесполезным делом подвергнуть критике принцип «народности» в науке, искусстве и политике. Уж слишком несостоятельна эта точка зрения. Разве можно согласиться с мыслью о существовании славянской и германо-романской политической экономии или физиологии?
Разве можно, в самом деле, сомневаться в том, что «цивилизации» передаваемы, если для этого существуют определенные общественные условия? Разве можно брать в серьез мнение Данилевского и Шпенглера, что анализ, скажем, является исключительным продуктом «фаустовского» человека и недоступен греку, или что алгебра — выражение психического склада индийцев и арабов и чужда другим культурно психическим типам? До какой степени это неверно, доказывает факт, установленный историками математики, что арабы свои сведения из алгебры заимствовали отчасти от индусов, отчасти от греков, что арабы в известном отношении даже сделали шаг назад, отказавшись от символических обозначений: их алгебра, как говорит один математик, чисто риторическая. «Геометрическим умом» греков было положено начало научной арифметике и алгебре. Мало того, новейшими исследованиями установлено, что учение о бесконечно-малых было хорошо известно великому материалисту Демокриту, что он является его основоположником, ибо «атом» есть для него не что иное, как «дифференциал». Алгебра александрийского математика Диофанта (IV ст. по Р. X.) господствовала в Европе до середины XVII ст., из чего следует, что западно-европейский человек воспитывался на греческой и арабско-индусской алгебре. Ну, а современное культурное человечество не воспитывается разве на «эвклидовых началах» и на индусской или арабской алгебре? Современная математика, как и вся современная наука и философия, представляет собою не что иное, как дальнейшее развитие античной научной и философской мысли, обусловливаемое и определяемое, разумеется, конкретными общественными условиями. Стало быть, существует и эволюция и «передача» начал культуры. Из того факта, что научная и философская мысль не застыла на определенной ступени развития, что мы в сравнении с античным миром сделали во всех отношениях значительный шаг вперед, словом, из факта развития делается нелепый вывод о застойности и неизменности начал культуры. Это достигается тем, что ступени развития превращаются в самостоятельные и самобытные и, между которыми устанавливается метафизическая противоположность и абсолютная «прерывность». «Глубокомысленная» метафизика Шпенглера-Данилевского ведет, таким образом, неизбежно к отрицанию эволюции и человеческого прогресса, к крушению науки и всякого объективного знания. Но наши идеологи национализма хорошо чувствуют, в каком месте «башмак жмет». Оба с одинаковым ожесточением нападают на дарвинизм и социализм (даже в этом отношении между ними полное сходство), хорошо сознавая, что идея эволюции и научного объективизма составляет серьезную опасность для их идеологии. Шпенглер прекрасно отдает себе отчет в том, что единственный серьезный враг национализма и теории замкнутых культурных типов — это марксизм и марксовский интернационализм, стремящийся к утверждению «всеобщего братства» или единства человечества на почве социалистического переустройства мира. В борьбе с марксизмом Шпенглер выдвинул свою философию истории и идею «социалистической монархии», т. е. идею истинно-прусского социализма и империализма — в надежде, что немецкие рабочие дадут себя увлечь на путь шовинизма. Не подлежит сомнению, что Шпенглера постигнет жестокое разочарование.
Наши российские шпенглеристы
(«Освальд Шпенглер и закат Европы» — сборн. статей Н. Бердеява, Я. Букшпана, Ф. Степуна и С. Франка. — Кн-во «Берег». Москва, 1922 г. стр. 96).
В. Ваганян
«Такие книги, как книга Шпенглера, не могут не волновать нас. Такие книги нам ближе, чем европейским людям. Это — нашего стиля книга»[16].
Это слова Н. Бердяева, так резюмирует он свою статью, но это основной мотив всего сборника, так на разный лад и по-разному хвалят Шпенглера все его участники.
Не во всем четыре автора согласны между собой, по-разному они оценивают эту модную философию: одни восторженны, другие снисходительны, но и восторг, и снисходительная улыбка вызваны одной и той же причиной — сознанием тесной и глубокой связи ее с «русской» философией.
Все четыре автора безусловно сходятся на этом: если кого и можно назвать родоначальником модной ныне философии Шпенглера, так это славянофилов: Данилевского, Достоевского, К. Леонтьева, Н. Бердяева.
Что ж. Охотно согласимся с этим. Философия Шпенглера есть весьма во многом повторение в более или менее талантливой, в более или менее острой форме самобытной российской философии. Успех ее в столь острой постановке, какая дана Шпенглером, обусловлен состоянием умов в нынешней буржуазной Европе, потерпевшей невероятную катастрофу в мировой войне, потерявшая в ней и устойчивость, и веру в свою силу и свои идеалы. Почва пошатнулась под ногами, раскаты революционных бурь до осязательности реально висят в воздухе; тяжелое предчувствие гибели культуры, кошмар варваризации и уничтожение всех достижений нынешней культуры есть ни что иное, как слепое, не осознанное предчувствие мировой революции и гибели культуры капиталистической, культуры банкиров, лавочников и рантье.
Несомненно этот лавочник, банкир и рантье-мещанин и создали шумный успех философии «славянофила от Пруссии» — Шпенглера.
Это столь очевидная истина, что признается даже Ф. Степуном (стр. 32). Однако, из этого признания господин Степун делает весьма своеобразный, можно сказать, смелый вывод: «успех книги Шпенглера, — говорит он, — означает благостное пробуждение лучших (!) людей Европы к каким-то новым тревожным чувствам, к чувству хрупкости человеческого бытия и "распавшейся цепи времени", к чувству недоверия, к разуму жизни, к логике культуры, к обещаниям заносчивой цивилизации, к чувству вулканической природы всякой исторической почвы». Это недурно сказано. Только почему это «лучшие люди» — все эти западно-европейские лавочники — трудно сообразить. Ну, да, оно и понятно, тот класс, в котором это всемирное потрясение вызвало волю к жизни, к победе и к «вулканическим» действиям может ли быть понятым г. Степуном? Для него и для его товарищей этот новый класс и его борьба и выражают всего отчетливей кризис культуры, ее упадок и признак ее разложения.
Вот послушайте г. Франка, он находит бесспорным факт умирания «в каком-то смысле» «Запада» и «западной культуры». «Весь вопрос в том: в каком именно смысле или, точнее, какая именно "западная культура" умирает» (50 стр). Вы заинтригованы такой постановкой вопроса и он, после некоторой возни с философией истории Николая Кузанского, отвечает на этот вопрос: «Это есть конец того, что зовется "новой историей"». «Величайший объективный трагизм переживаемой нами эпохи состоит в том, — говорит С. Франк, — что поверхность исторической жизни залита бушующими волнами движения, руководимого духовно отмирающими силами ренессанса, а в глубинах жизни, еще совершенно бездейственно и уединенно назревают потоки нового движения, которому, быть может, суждено сотворить новую культуру, искупив основное грехопадение ренессанса». Сколько напущено туману! А в сущности смысл этой фразы весьма несложен.
Кто «руководит» движением, залившим бушующими волнами на «поверхность исторической жизни»?
Слепому видно — рабочий класс. Какие силы вызвали его — это движение? Противоречия капиталистического общества.
Что есть «духовно отмирающие силы ренессанса»?
Пролетариат и буржуазия, ведущие исторический поединок на глазах у всех.
Что С. Франк считает пролетариат «духовно отмирающей силой ренессанса» — в этом ничего ни неожиданного, ни странного нет, гораздо более удивительно то, что он, на первый взгляд, склонен и буржуазию похоронить заодно с ненавистным ему рабочим классом; или не даром прошли для господина С. Франка четыре года революции?
Однако это так кажется лишь на первый взгляд. На самом деле господин С. Франк и не думает похоронить буржуазию. Он видит печать смерти на лбу пролетариата с его социализмом, коммунизмом, интернационализмом; он их и считает подлинными «силами ренессанса».
Но если замысловатый С. Франк говорит это с «ужимкой», то болтливый Н. Бердяев несколькими страницами ниже говорит это совершенно открыто.
Но прежде покончим с господином Франком.
Он кроме того, что вещает, подобно пифии, смерть руководителям «бушующими волнами движения», указывает и на спасителя, которому, «быть может, суждено сотворить новую культуру»? Что это за спасительная сила.
Та самая, которая явилась, как реакция против материализма XVIII столетия — романтизм и идеализм. Они «подземной струей» дошли до наших дней и «образуют теперь самую глубокую и духовно влиятельную силу внутреннего идейного творчества». Даже социализм, как идейное движение, одним боком примыкает к этим двум истокам идейного творчества: через Сен-Симона с романтизмом, а через Гегеля с немецким идеализмом.
Так вот та сила, которая придет создавать новую культуру на развалинах старой, отличительной чертой которой были наука (рационализм) и материализм. Это очень похоже на Шпенглера и немного не похоже. «Ученая книга Шпенглера — явный вызов науке», — говорит г. Степун, — не меньший вызов науке, когда С. Франк пишет: «Человечество вдалеке от шума исторических событий накопляет силы и духовные навыки для великого дела, начатого Данте и Николаем Кузанским и неудавшегося благодаря роковой исторической ошибке или слабости их преемников». Эта «роковая историческая ошибка» прямо великолепна. Она так похожа на истинно российский «шпенглеризм»!
Но если оставим в стороне юродства господ Франков и попытаемся понять их мысль, то она весьма не сложна, она вся сводится к поговорке «и на нашей улице будет праздник».
Если бы г. Франк не писал, а говорил, да говорил бы сам с собой без свидетелей, не жеманясь и не затемняя речь, то получилась бы примерно такая речь: «После Великой французской революции вместо материализма ("в XVIII веке философия окончательно обездушивает мир и жизнь") расцвел романтизм (Байрон) и немецкий идеализм; когда кончится нынешняя революция — человечество, которое стоит вдали от шума исторических событий (а вы не думаете, господин Франк, что они были насильственно и навсегда отдалены от "шума исторических событий"? Я думаю это очень похоже на правду), выйдет на сцену и начнет строить новых богов (российский идеализм всегда с этого начинает свою карьеру, хотя кончает тоже на одном и том же роковом месте), устраивать оргии и возвещать культ женского тела (российский романтизм тоже всегда начинает свой танец от этой печки)».
Это верно.
В таком разговоре, если нет правды, то есть возможность ее. Дело вот в чем.
Вслед за каждой революционной бурей наступала более или менее длительная эпоха реакции. Чем глубже захватывала революция, чем сильнее бушевала она, чем больше масс охватывала, вовлекала в движение, тем сильнее, тем длительней, тем черней бывала реакция.
В дни революции, особенно после 1848 г., развертывалась вся творческая сила трудящихся и угнетенных, в дни реакций махровым цветком распускался мистицизм, идеализм, романтизм, — словом, выходили на свет все те, кто «ютился вдали от шума исторических событий». И само собой разумеется, наша революция в этом отношении не составит исключения, буде она уступит место реакции.
Но в том-то и весь вопрос — уступит ли? Наступит ли та тишь, которая нужна людям ожидающим «вдалеке от шума исторических событий»?
Огромное общественное значение реферируемого сборника в том именно и заключается, что авторы его видят в Шпенглере признак наступления этой тиши. Их объединяет прежде всего уверенность в том, что наступает эта эпоха исканий бога, эпоха романтизма и идеализма.
Степун думает, что книга Шпенглера — предзнаменование какого-то нового углубления религиозной мистической жизни Европы (33) и с этим согласны все авторы.
Но сборник этот имеет и другой симптоматический смысл и значение: он указывает на то, что «человечество», которое ютится на время бури в отдаленном уголке большого корабля, бережно, подобно маньяку, хранит у себя старую идеологию национализма, носится с ним и готовится сделать его одним из составных частей грядущей на смену умирающему «ренессансу» культуры.
«Культура — национальна, цивилизация — интернациональна» вслед за Шпенглером повторяет Н. Бердяев (последний уверяет, что Шпенглер повторяет за ним — для нас с вами читатель это не существенно), и если цивилизация должна погибнуть во имя новой культуры, то должен погибнуть и интернационализм во имя национализма. «Цивилизация по существу своему проникнута духовным мещанством, духовной буржуазностью. Капитализм и социализм совершенно одинаково заражены этим духом». «Культура имеет религиозную основу, в ней есть священная символика. Цивилизация же есть царство от мира сего. Она есть торжество «буржуазного» духа, духовной «буржуазности». И совершенно безразлично, будет ли цивилизация капиталистической или социалистической, она одинакова — безбожная, мещанская цивилизация». И если цивилизация погибнет и придет некая новая культура, то погибнет безбожие и восторжествует религия. Н. Бердяев всех типичней из всех участников сборника, как шпенглерист. Шпенглер — прусский националист; он находит, что миру Пруссия призвана сообщать нечто новое, что ей принадлежит первое слово завтра, а не какой-либо другой стране; Н. Бердяев также думает только... о России: «Что бы ни было с нами, мы неизбежно должны выйти в мировую ширь. Россия — посредница между Востоком и Западом. У ней сталкиваются два потока всемирной истории — восточный и западный. В России скрыта тайна, которую мы сами не можем вполне разгадать. Но тайна эта связана с разрешением какой-то темы всемирной истории; Час наш еще не настал. Он связан будет с кризисом европейской культуры».
И, как из-под 700 страниц «Заката Европы» Шпенглера, остроумного, местами быть может весьма талантливого, выглядывают большие уши прусского национализма, жаждущего реванша, грезящего о новом всемирном покорении — прусского мессианизма, так из-под всего писания нашей российской интеллигенции, ютившейся до сих пор «вдали от шума исторических событий», выглядывает все тот же старый заскорузлый национализм, слепой, ничему не научившийся.
Эта идея русского мессианизма прикрывала тягу русских империалистов к Дарданеллам, как идея прусского культуртрегерства — прямой разбой Германии.
От этого сборника до новой «Великой России» так же близко, как близок был переход от «Вех» к «Великой России» кануна войны.
К чему же свелись все разговоры о гибели цивилизации, «Закат Европы?»
К весьма грубой, весьма неискусно прикрытой, апологии национализма и реакции.
В чем спасение человечества?
В возврате к былым, довоенным идеям и идеалам буржуазии? Нет, в том-то и дело, что нет.
В преодолении довоенных форм капитализма дальнейшим развитием империализма, в обостренном развитии чувства национализма. И с этой целью — в преодолении социализма — мистицизмом.
Это в конечном итоге очень прозаично, очень голо, но, думается, всякому внимательному читателю очевидно.
Мы тоже думаем, что «Запад» переживает свой закат, свои сумерки.
Но какой запад и какие сумерки. Капитализм дошел уже до той роковой для нее степени развития, когда «материальные производительные силы общества» впали «в противоречие с существующими производственными отношениями... с имущественными отношениями». Ему ничего не остается, как в предсмертной агонии отождествлять свою гибель с гибелью культуры, человечества — это не впервые; не один господствующий класс погибал за долгие годы сегодня, буржуазия, отождествляя свою гибель с гибелью культуры, мира, приходом антихриста или еще что-либо в этом роде.
Пролетариат отличается от всех до него существовавших революционных классов тем, и прежде всего тем, что он осознал законы исторической необходимости и, следовательно, он свободен по отношению к ним и действует методически и последовательно в направлении развития исторической необходимости. Ему не страшны никакие антихристы, как не страшен сегодняшний обвал огромного здания капитализма. Он не приходит в отчаяние от гибели старого мира и культуры лавочников. Из бесформенной груды развалин старого мира эксплуатации и ветхой культуры он создаст новую культуру и свой мир труда и свободы.
Обломки старой России
Евгений Преображенский
В Петрограде издаются два журнальчика: «Летопись дома литераторов» и «Вестник литературы», на страницах которых инвалиды от интеллигенции устроили маленький затхлый чуланчик для проветривания остатков своего литературного добра. Среди участников мелькают знакомые имена, в том числе небезызвестный А. С. Изгоев.
О статье Изгоева и его докладе, сделанном о «Смене вех» и помещенном в кратком изложении, я хотел бы сказать пару слов.
После разгрома первой русской резолюции 1905 — 6 годов определенная часть русской интеллигенции покинула народнические и демократические позиции и, поплевав основательно «об это место», стала идейно выравниваться под буржуазию, которая в свою очередь на основе капиталистического развития, достигнутого к тому времени Россией, стала выравниваться в области экономической под буржуазию Запада. Сборник «Вехи» был декларацией этой группы, при чем переход в лагерь буржуазии, как это всегда бывает в таких случаях, был замаскирован всякими идеологическими вывертами, а в данном случае густейшим туманом всяческой мистики, разговорами о необходимости создания национальной культуры, национальной традиции, и т. д. и т. д. В числе видных лидеров этой ренегатской группы был А. С. Изгоев, специализировавшийся на вопросе об интеллигенции. Поскольку тут дело шло о нашей народнической интеллигенции, то основную плевательную роль по отношению к ней выполнял именно он.
С тех пор утекло много воды. Российская буржуазия, на которую ориентировались «веховцы», потерпела кораблекрушение в классовой войне с пролетариатом. Победа пролетариата оказалась настолько прочной и решающей, удельный социальный вес его вместе с крестьянством так подавляюще велик, революция так непобедима, что часть антисоветской интеллигенции, в том числе часть бывших «веховцев», проделала такой же самый переход от буржуазии к советской демократии, какой прежние веховцы проделали от народнической демократии к буржуазии. А. С. Изгоев остался верен «старому барину». Подобно старику лакею Фирса из Чеховского «Вишневого сада», он вместе со своими единомышленниками из старых публицистов, поэтов и литераторов продолжает ревностно убирать полы и окна старого дома, прислуживая буржуазии «по идейной части». На склоне лет старуха буржуазия раскаивается в грехах своей буйной молодости и после атеизма и материализма склонна к религии и мистицизму. И гг. Изгоевы, Булгаковы, Бердяевы говорят ей об «абсолютных, религиозных критериях» (статья Изгоева «Власть личности»), о том, что «человек всегда в конце-концов останется наедине со своим Богом, со своей совестью и перед ним принужден будет держать ответ» (доклад Изгоева о «Смене вех»). Но Чеховский Фирса естественней, проще, правдивей и пожалуй симпатичней в своей простоте идеологических лакеев буржуазии из интеллигенции. Он благоговеет перед своим господином, дрожит от счастья, целуя барскую руку, и гордится своей службой перед всеми «недотепами», которые не умеют обращаться с «господами». Наоборот, интеллигентный лакей, стирая идейное белье Рябушинскому, будет говорить о том, что служит абсолютной идее чистоты вообще и, украшая поэтическими розами колесницу эксплуататоров, будет это делать во имя вечной и абсолютной красоты. И в своей статье «Власть и личность» А. С. Изгоев не просто целует барскую руку без затей, а считает нужным покривляться, выдвигая проплесневшую идею о независимой, внеклассовой интеллигенции, которая не должна преклоняться ни перед какой государственной властью. Пока, в нашей конкретной действительности это означает призыв не преклоняться перед реально существующей Советской властью. А так как Изгоев не анархист, а в природе теперь существует кроме пролетарской лишь буржуазная или буржуазно-помещичья власть, к которой Изгоев со времени «Вех» не относился отрицательно, то каждому понятно, о чем в сущности идет речь.
Говорить же, что никогда и нигде интеллигенция не представляла из себя самостоятельной классовой силы и всегда тяготела и идейно обслуживала тот или иной из основных классов современного общества, вряд ли стоит. Но само свойство профессии интеллигенции и интерес общественного класса, которому она служит, требуют такого самообмана и обмана масс.
Что касается до выступления старого веховца против нововеховцев, то, поскольку Изгоев считает напрасными, попытки нововеховцев видеть наш коммунизм и интернационализм за обыкновенный великодержавный и великорусский национализм, он прав с нашей точки зрения и когда он упрекает их за переход на сторону Советской власти — он прав с своей точки зрения, т. е. с точки зрения контрреволюционной буржуазии. Но переход нововеховцев на сторону революции нужно рассматривать по объективным результатам этого шага, не перенося центр тяжести вопроса на мотивы и аргументацию, которая при этом пускается в ход. При всех исторически значительных актах в социальной борьбе имеют значение реальные результаты, а не слова, которые при этом говорятся, и не настроения действующих лиц. По каким субъективным мотивам Ключников, Устрялов и др. пришли к оправданию революции, имеет второстепенное значение, как не имеет большого значения и то, что они, помогая Советской власти, думают помочь повой буржуазии и великодержавному национализму. В «Былом и Думах» Герцен в одном из своих блестящих сравнений говорил о том, что «полип», умирая, служит прогрессу «рифа». Так и часть интеллигенции, переходя на сторону революции и умирая, как белогвардейская сила, служит прогрессу Советского рифа. Об этот риф разобьется корабль буржуазного господства, а вместе с тем разобьются одинаково и иллюзии тех, которые оседают на этот риф в надежде укротить революцию, так и надежды тех, которые склоняют голову перед поповским паникадилом на борту тонущего корабля.
Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории[17]
Г. В. Плеханов
Огюстен Тьерри принадлежит к замечательной группе тех известных ученых, которые в эпоху Реставрации возобновили во Франции исторические исследования. В этой группе не было ни учителя, ни учеников. Тем не менее она образует настоящую школу, основные концепции которой весьма полезно рассмотреть.
Шатобриан[18] обозначил эту школу именем школы политической. Это не точно. В самом деле, — философы XVIII века твердо убежденные в том, что положение народа всецело определяется законодательством умели связывать «законодательство» только с преднамеренным действием законодателя[19]. Это и есть точка зрения политическая par excellence[20]. Отсюда естественно вытекает, что гражданские законы каждого данного народа обязаны своим происхождением его политической конституции, его правительству. Философы неустанно повторяли это.
Для Гизо истинно как раз противоположное. «Большая часть писателей, историков и публицистов, говорит он, старалась объяснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации политическими учреждениями того общества. Было бы благоразумнее начинать изучение самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде, чем стать причиной, учреждения являются следствием, общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием и вместо того чтобы о состоянии народа судить по форме его правительства, надо прежде всего исследовать состояние народа, чтобы судить каково должно быть, каково могло быть его правительство»[21].
В этом Минье совершенно согласен с Гизо. Для него также политические учреждения являются следствиями прежде чем стать причиной.
Общественное движение определяется господствующими интересами и это движение определяет и форму правительства. Когда правительство перестает соответствовать состоянию народа, оно исчезает. Так феодализм существовал в нуждах людей, еще не существуя фактически; затем он существовал фактически, переставая соответствовать нуждам, отчего прекратилось, наконец, его фактическое существование. Освобождение коммун изменило все внутренние и внешние отношения европейских обществ. Оно дало новое направление политической эволюции Европы. «Демократия, абсолютная монархия и представительная система явились его результатом; демократия там, где коммуны властвовали самостоятельно, абсолютные монархии там, где они вступали в союз с королями, которых они не могли обуздать — представительная система там, где вассалы использовали коммуны, чтобы ограничить королевскую власть»[22].
Огюстен Тьерри не менее далек от точки зрения философов XVIII река. «Конституции это одежды общества», говорит он. Старая школа уделяла слишком много внимания генеалогии королей. Она не оставляет места никакой самодеятельности людских масс. «Если переселяется целый народ и находит себе новое местожительство, то это по словам летописцев и поэтов, некий герой, чтобы прославить свое имя, задумал основать империю; если устанавливаются новые обычаи, — это какой-либо законодатель измышляет и устанавливает их. Если образовывается город, — это какой-то князь дает ему существование; и всегда народ, граждане, является материалом для планов одного человека»[23]. Таким образом изложение каждой эпохи становилось рассказом о рождении, воспитании, о жизни и смерти законодателя. Эта манера писать историю была естественной для монахов средневековья: монахи писатели питали исключительное предпочтение к тем людям, которые приносили наиболее даров церквам и монастырям. Но этот способ является недостойным для современных историков. То, что нам нужно в настоящее время, это настоящая история страны, история народа, история граждан. Эта история представила бы нам одновременно и примеры управления и тот сочувственный интерес, который мы напрасно ищем в авантюрах маленького числа привилегированных лиц, целиком занимающих сцену истории. В наших душах гораздо скорее пробудилась бы привязанность к участи массы людей, которые жили и чувствовали как и мы, — чем к судьбе вельмож и князей, о которой одной рассказывают нам и которая одна лишь не дает вам полезных уроков. Движение народных масс по пути к свободе и благоденствию нам показалось бы более внушительным, чем шествие завоевателей; — а их несчастья более трогательными, чем бедствия лишенных владения королей»[24].
Таким образом, народ, вся нация должна быть героем истории. Огюстен Тьерри говорит не иначе, как с глухим гневом об этих самых законодателях (завоевателях), к которым беспрестанно взывала историческая школа XVIII века. Это не все. В массе «граждан» есть привилегированные и обездоленные, угнетатели и угнетаемые. Жизнь этих последних должна привлекать внимание историков. «Мы их потомки, думаем, что они чего-нибудь стоили и что наиболее многочисленная и наиболее забытая часть нации заслуживает того, чтобы воскреснуть в истории. Если дворянство может в прошлом претендовать на высокие воинские подвиги и воинскую славу то есть слава и у простонародья, — слава мастерства и таланта. Простолюдин дрессировал боевого коня дворянина, он скреплял стальные бляхи его брони; те, кто увеселял замковые празднества музыкой и поэзией, были также из простонародья; наконец, язык, на котором мы сейчас говорим, — это язык простонародья; оно создало его в то время, когда во дворах и замковых башнях дворянства раздавались грубые гортанные звуки германского наречия»[25].
Не раз Огюстен Тьерри с гордостью напоминает, что он разночинец, сын третьего сословия. И он им остается во всех отношениях. Он становится на сторону этого сословия; его точка зрения, — точка зрения борьбы простонародья с дворянством, точка зрения классовой борьбы. Может быть это удивит не одного читателя. Обычно полагают, что социалисты марксистской школы первые ввели эту концепцию в историческую науку — но это ошибочно. Она была введена до Маркса, она господствовала в той исторической французской школе, которую Шатобриан неточно назвал политической школой, и к которой принадлежал Огюстен Тьерри.
Для Гизо вся история Франции есть борьба, война между классами. В продолжение более XIII веков, Франция состояла из двух народов; один народ — победитель, — дворянство; и другой — побежденный — третье сословие. В течение более 13-ти столетий, народ — побежденный боролся, чтобы стряхнуть иго победителей. Борьба происходила во всех формах и всяким оружием: «когда в 1789 году представители всей Франции были созваны в одно собрание, эти два народа поспешили возобновить свои старые распри, наконец пришел день покончить с ними»[26]. Революция изменила взаимоотношение этих двух народов; прежний народ — побежденный стал победителем, он в свою очередь завоевал Францию. Даже Реставрация была принуждена принять этот совершившийся факт. Хартия объявляла. что этот факт имеет своим источником право, и подписывая Хартию, Людовик XVIII сделался главой новых победителей. Но народ, только что побежденный, — прежний народ-победитель, — не покорился своему поражению. Он продолжает свою старую 13-ти вековую борьбу. И в дебатах в Парламенте вопрос ставится как он ставился и прежде, равенство или привилегия, средний класс или аристократия. Мир между ними не возможен. Примирить их — химерический замысел. Привести их к соглашению, — было бы не менее несбыточной мечтой»[27].
Здесь нет недостатка ни в ясности, ни в определенности. Но Гизо умел говорить с еще большей ясностью, с еще большей определенностью. Когда по выходе в свет вышеуказанной работы, его политические враги упрекали его в разжигании гражданской войны, он ответил, что, указав на исторический факт существования борьбы классов, он не сказал ничего нового. «Я хотел только, — писал он, — вкратце изложить политическую историю Франции. Борьба классов наполняет, или вернее, делает всю эту историю (sic!). Об этом знали и говорили за много веков до революции. Знали и говорили в 1789 г., знали и говорили три месяца тому назад. Хотя меня теперь обвиняют в том, что я это сказал, я не думаю, чтобы кто-нибудь этого не помнил. Факты не уничтожаются по доброй воле и ради временных удобств министерств и партий. Что сказал бы господин де Буленвилье, если бы, возвратясь в нашу среду он услышал отрицание того, что третье сословие вело войну против дворянства, что оно боролось с ним постоянно за уничтожение его привилегий и за установление равенства с ним? Что сказали бы те многие мужественные буржуа, которые были посланы в Генеральные Штабы для защиты или завоевания прав своего сословия, — если бы они воскресли, чтобы узнать, что дворянство не вело борьбы с третьим сословием, что оно не поднимало тревоги, видя его рост, что оно не противодействовало всегда его усилению в обществе и укреплению его влияния?»
Вся эта борьба «это вовсе не теория, не гипотеза, это сама действительность во всей ее простоте», и хотя нет ни малейшей заслуги в том, чтобы ее видеть, но оспаривать ее это уже почти смешно[28]. Если некоторые сторонники дворянства желали предать ее забвению, так это потому, что они больше не считали свое сословие достаточно сильным, чтобы выдержать открытую борьбу и, видя его слабеющим, они старались обмануть средний класс. И Гизо громит их с бурною силой негодующего трибуна. «Выродившиеся потомки расы, владевшей огромной страной и заставлявшей дрожать великих королей» восклицает он, «что же вы отрекаетесь от ваших предков и вашей истории! Чувствуя собственный упадок, вы протестуете против вашего прошлого величия. Так как мы требуем от вас быть отныне лишь равными нам, то вы оспариваете факт, что вы были нашими господами! Я испытал бы стыд, признаюсь в том, если бы мне — буржуа — пришлось бы здесь восстанавливать историю Франции и доказывать противникам конституционного равенства, что они слишком скромны в своих воспоминаниях»[29].
Будучи художником больше, чем борцом, Огюстен Тьерри никогда не проповедывал классовую борьбу с такой силой и с таким гневом, как это делал Гизо, один из самых замечательных политических борцов французской буржуазии. Но тем не менее он хорошо понимал весь исторический смысл той борьбы, которую среднее сословие вело тогда с дворянством. «Современное дворянство, — писал он в 1820 г. по поводу работы Вардена о Соединенных Штатах Северной Америки, — связывает свои претензии с привилегированными людьми XVI столетия. Последние считали себя происходящими от владельцев людей XIII столетия, которые в свою очередь связывали себя с франками Карла Великого, родословная которых восходила до Сикамбров Хлодвига. Здесь можно оспаривать только естественную преемственность; политическое же происхождение очевидно само собой. Так дадим эту преемственность тем, кто на нее претендует, сами же мы претендуем на преемственность — противоположную; мы — сыновья Третьего Сословия; Третье Сословие вышло из коммун (самоуправляющихся общин); коммуны были убежищами для крепостных. Крепостные были жертвами завоеваний. Итак, от одного вида к другому через промежуток времени в 15 веков, мы приходим к последней разновидности завоевания, которую надлежит стереть. Дай Бог, чтобы это завоевание само отреклось от своих последних следов, и чтобы час боя не должен был пробить. Но без этого, формального отречения не будем надеяться ни на свободу, ни на отдых, не будем надеяться ни на что из того, что делает пребывание в Америке столь счастливым и достойным зависти; плоды, которые приносит эта земля, никогда не станут расти на почве, которая бы оставалась пропитанной остатками захвата»[30].
Так или иначе, мирным ли путем, или при помощи «борьбы» буржуазия должна уничтожить привилегии дворянства, или как говорил Гизо, и до него еще Сиэйса, побежденный народ должен в свою очередь сделаться завоевателем. Мы могли бы легко найти у Минье и Тьера, страницы, похожие на те, которые мы только что цитировали. Но это бесполезно. Теперь, уже доказано, что когда марксисты говорят о классовой борьбе, они в этом случае следуют только примеру самых выдающихся теоретиков и историков третьего сословия. Больше того, Гизо нисколько не преувеличивал, говоря, что представители дворянства проповедовали эту борьбу также, как представители третьего сословия. В «Размышлениях над историей Франции» Огюстена Тьерри, которые предшествуют его «Рассказам из времен Меровингов» читатель найдет довольно подробный анализ исторических систем до 1789 г., дающий ясное представление о том, до какой степени борьба классов, на которые распадалось старое французское общество, влияло на взгляды историков, сторонников того или иного класса. Язык какого-нибудь Булэнвиллье или Монлозье часто также отчетлив и энергичен, как язык Гизо или язык агитатора-марксиста нашего времени.
То, что отличает борьбу классов, проповедываемую французскими историками времен Реставрации от той, которая провозглашается социалистами наших дней — это, прежде всего, социальное положение того класса, к которому обращаются теоретики социальной войны. Сколько бы историки времен Реставрации ни говорили о народе, о нации, о массе граждан, о третьем сословии в целом, все же на самом деле то, что они защищали, это были интересы небольшой части нации, интересы буржуазии. Гизо знал это хорошо и говорил об этом без уверток. «Я знаю..., что революция, предоставленная сама себе, свободная от страха, уверенная в торжестве, создаст естественно и неизбежно свою собственную аристократию, которая станет во главе общества, — писал он. — Но эта аристократия будет другого рода и будет совсем иначе образована, чем та, обломки которой мы видим»[31]. Значит неправда, как это утверждал тот же Гизо, что борьба третьего сословия против дворянства означала борьбу равенства против привилегии. Дело в сущности говоря, шло о торжестве новых привилегий, привилегий иначе образованных, чем те, с остатками которых боролись Гизо и его друзья. Огюстен Тьерри, вероятно не понимал этого так ясно, как будущий министр Людовика Филиппа. Но и его идеал не превышал торжества среднего класса. Вот, например, как он резюмирует историческое дело Великой Французской революции: «вместо старых сословий, неравных по своим правам и социальному положению (sic!) классов, образовалось общество однородное; стало 25 миллионов душ, составляющих один единственный класс граждан, живущих при одном законе, одном уставе, одном порядке»[32]. Что же оставалось делать? — Нечего больше, как обеспечить новое общество от нападений сторонников старого режима и защитить завоевания буржуазии от злопамятства дворянства, побежденного в великой борьбе классов. Правда, даже после 1830 года, когда победа буржуазии стала окончательной, Огюстэн Тьерри, старый ученик и «приемный сын» Сен-Симона, не находится вполне на стороне удовлетворенных, как Гизо, этот злостный враг всякого движения рабочего класса. Автор «Размышлений над историей Франиции», казалось, не вполне осуждал новые социальные и политические тенденции, которые начинают появляться с первых лет царствования Людовика-Филиппа. Но он далек от того, чтобы понять эти тенденции; он желает социального мира, объединения классов, он, который при Реставрации проповедывал войну классов. Ибо, ведь, социальный мир при тогдашних условиях не может и не мог бы быть ни чем иным, как примирением пролетариата с тем ярмом, который налагает на него «новая аристократия»[33].
Впрочем, справедливо будет вспомнить, что при Реставрации и при Людовике-Филиппе, даже теоретики рабочего класса, социалисты и коммунисты не понимали еще того, что пролетариату еще предстоит вести свою социальную войну и одержать свою политическую победу. За очень немногими исключениями они в рабочем вопросе стояли также за более или менее полное объединение классов, а не за их борьбу. Сен-Симон, которому Огюстэн Тьерри обязан всеми своими историческими идеями, был одним из самых горячих сторонников войны пчел против трутней. Но пчелами, для Сен-Симона были в этой же самой мере фабрикант и банкир, как и рабочий. И тоже приходится сказать и о Сен-Симонистах. Анфантэн очень хорошо понимал, что земельная рента и прибыль с капитала является продуктом не оплаченного труда. «Собственники, — говорит он, — утвердившие за собой землю присваивают себе, с помощью арендной платы часть продуктов, созданных руками трудолюбивых людей. Таков же, в самом деле, и результат отдачи в наем капиталов, а это означает, что работники платят некоторым людям, чтобы последние могли отдыхать и чтобы они оставили в их распоряжении материалы производства»[34].
Это хорошо сказано. Но что же представляет из себя прибыль предпринимателя, который пользуется взятым в ссуду капиталом? Не является ли она также продуктом эксплуатации рабочих? Нет, отвечает Анфатэн, предприниматель получает свою прибыль благодаря собственному труду. Прибыль и заработная плата это одно и то же для Анфантэна и в этом именно вопросе он показывает себя совершенно неспособным понять Рикардо, когда английский экономист говорит: there can be no rise in the value of labour withtout a fall of profits[35][36]. Это превосходно объясняет, почему сен-симонисты не хотели и слышать о классовой борьбе. Они были глубоко убеждены, что хозяева и рабочие составляют единый класс, и что их интересы совершенно солидарны. Сен-симонисты могли бороться только против «класса военных людей и паразитов»; и даже его они предпочли бы «растрогать» и «переубедить».
Когда философы XVIII века гремели против «привилегий», по существу они боролись лишь против феодальной собственности. Земельный собственник, в их глазах, был наглым эксплуататором чужого труда, почти бандитом. Буржуазная же собственность, напротив, являлась им в совсем благоприятном свете. Коммерческая и промышленная прибыль казалась им продуктом труда коммерсанта и фабриканта: тайна прибавочной ценности оставалась для них непроницаемой. Буржуазные теоретики XIX века весьма кстати унаследовали эту теоретическую ошибку своих предшественников. Если доход рабочего далеко не так велик, как капиталиста, это лишь потому, что рабочий не работает или не работал столько, сколько капиталист. Отождествляя прибыль предпринимателя с заработной платой рабочего, Сен-Симон и сен-симонисты только повторяли ошибку интеллектуальных представителей буржуазии. В теории положение рабочего по отношению к хозяину и следовательно, — положение пролетариата по отношению к буржуазии, становится ясным и очищенным от всяких заблуждений только с того времени, когда экономическая наука могла наконец объяснить происхождение и природу прибавочной ценности. Это открытие, сделанное Карлом Марксом, положило конец всем ошибкам социалистов в понимании классовой борьбы. Социалисты наших дней охотно примут столь дорогой социалистам-утопистам проект «обратить в свою веру» и «растрогать высшие классы» — но при условии: «обратить» и «тронуть» их после того, как они будут экспроприированы. Всякий, кто знает «человеческую природу», согласится, что тогда они гораздо легче «обратятся», чем теперь[37].
Социалисты наших дней хорошо знают, что раз дело идет о борьбе с аристократией, какого бы сорта она ни была, — здесь не может быть речи ни о мире, ни об отдыхе до тех пор, пока она не побеждена и не обезоружена.
Буржуа наших дней обвиняют социалистов в разжигании войны там, где нужно успокаивать и примирять. Они утверждают, что буржуазия никогда подобным образом не действовала. Мы им ответим, как некогда Гизо ответил дворянству: «Вырождающаяся раса, история налицо, чтобы вас пристыдить».
«Контр-революция всегда прекрасно понимала, что для достижения своих целей, она своей первой заботой должна была ставить повсеместный захват власти, чтобы вслед за этим ее организовать и использовать в своих интересах. Пусть национальная партия в свою очередь знает, что ей важно не разрушить власть, а ее захватить».
Так писал Гизо в 1820 г. Пока социалисты смешивали экономические интересы пролетариата и буржуазии, они могли иметь лишь ошибочное представление о политическом долге рабочего класса. «Что касается до так называемых политических прав», писал один из сен-симонистов в 1830 году, «то мы не видим, что общего между ними и благосостоянием масс»[38]. Социалисты наших дней, которые не заблуждаются более насчет непримиримого антагонизма интересов пролетариата и буржуазии, прекрасно видят каким образом «права, называемые политическими» связаны с благосостоянием масс. Они понимают, что всякая классовая борьба — есть борьба политическая и они также стараются не уничтожить политическую власть, как это хотели бы «товарищи-анархисты», а захватить ее в свои руки.
Вся история цивилизованного общества состоит из борьбы классов. Французские историки времен Реставрации знали это как нельзя лучше и не забывали до тех пор, пока могильщик буржуазии, — современный пролетариат, — не появился на политической сцене. Но как объяснили себе эти историки тот исторический процесс, который порождает антагонизм интересов в первоначально-однородном обществе? Читатель уже видел, что они связывали борьбу третьего сословия против дворянства во Франции с завоеванием галлов франками. Вообще завоевания играют большую роль в их философии истории современных народов. Огюстэн Тьерри рассказывает, что однажды, читая некоторые главы из Юма, дабы «подкрепить» свои политические взгляды, он был поражен идеей, которая явилась ему, как луч света и он воскликнул, закрывая книгу: «Все это происходит от завоевания, в основе всего лежит завоевание». И тотчас же он придумал проект переделать историю революцию в Англии с этой повой точки зрения[39].
Это было в 1817 г. С этого времени новая идея нашего автора послужила ему основанием для многих других исторических изысканий; но его «Очерк революций в Англии», изданный в 4-м томе «Европейского критика» 1817 г., ясно показывает как всю ценность так и все слабые стороны его точки зрения.
«Всякий тот, чьи предки оказались принадлежащими к армии завоевания, покидал свой замок и отправлялся в королевский стан, где принимал командную должность, соответствующую его титулу. Жители городов и портов толпами шли в противоположный лагерь. Можно сказать, что лозунгами этих двух армий были: с одной стороны — праздность и власть, а с другой — труд и свобода, ибо праздные, к какой бы касте они ни принадлежали, те, кто желал в жизни лишь наслаждений без труда, — вступали в королевскую армию, где они защищали интересы, соответствующие их собственным; в то время как семьи из касты прежних завоевателей, захваченные промышленностью, присоединялись к партии коммун»[40].
Вот что, таким образом, представляло из себя революционное движение в Англии в 17-м веке. Бурная реакция прежних побежденных против прежних победителей. На первый взгляд это кажется весьма правдоподобным. Но, когда перечитываешь указанный отрывок, является сомнение. Там были потомки прежних победителей, которые, будучи захвачены промышленностью, присоединялись к партии «труда и свободы». С другой стороны королевский лагерь наполнялся всеми теми, кто желал только «наслаждения без труда». И между ними находились, по словам нашего историка, люди всех «каст». Было же здесь стало быть расхождение интересов, в котором большую роль сыграло экономическое движенье, вызванное прогрессом «промышленности». Впрочем Огюстэн Тьерри об этом сам говорит: «Война велась и той и другой стороной именно за эти положительные интересы. Остальное было лишь внешностью или поводом. Те, кто отстаивал дело подданных, были в большинство пресвитериане, т. е. они не желали никакого подчинения даже в религии. Те, которые поддерживали противоположную партию, были англиканцы или же паписты, ибо они стремились к власти и взиманию налогов с людей даже в области религиозных культов[41].
Дело, таким образом, совершенно ясно. Борьба велась за экономические интересы партий и самая власть была по существу лишь орудием, которым эти партии старались завладеть, в целях торжества их интересов. Огюстэн Тьерри понимал это так же хорошо, как и Гизо[42]. Это не все. Он понимал также, что вторгаясь в Англию, норманы ставили перед собой определенную экономическую цель: они желали «приобресть» (gaagnier), как говорит он, воспроизводя выражение одного старого рассказчика. Он цитирует речь, произнесенную Вильгельмом Завоевателем перед битвой при Гостинсе, которая показывает нам скрытую подоплеку завоевания[43]. Зачем же ему было апеллировать к завоеванию там, где оно, будучи далеко не в состоянии дать окончательного объяснения явлениям, в свою очередь по своей цели, а особенно по своим результатам, объясняется социальным положением победителей и побежденных?
Дело в том, что школа, к которой принадлежал Огюстэн Тьерри, имела весьма смутные представления об экономической истории человечества.
Так же, как и буржуазные экономисты, они считали капиталистическое общество единственным, соответствующим человеческой природе и воле Провидения. Всякая общественная организация, которая не основывалась на капитализме, им казалась противоестественной и по меньшей мере странной (bizarre)[44]. Они были способны прекрасно объяснить борьбу средневековой буржуазии с феодальным дворянством, это было движение естественное, т. к. оно должно было привести строение общества к типу, продиктованному природой. Но что касается самого феодального строя, то они могли видеть в нем только отклонения исторического движенья от его нормального направления. Наиболее допустимое объяснение подобного отклонения заключалось в насилии завоевателей. Насилие и злоба немного также в «природе человека». Ища в ней основу данной социальной организации, мы не покидаем, таким образом, точки зрения «человеческой природы» и одним ударом убиваем двух зайцев; хорошими сторонами человеческой природы мы объясняем капиталистическую систему и все движение, которое стремится к ее установлению; дурными сторонами этой природы объясняем происхождение феодального строя и всякой другой социальной организации, более или менее «странной» в глазах буржуа.
Огюстэн Тьерри совершенно так же, как Гизо и Минье, думает, что он поднялся выше исторических взглядов философов предшествующего века, которые видели в средневековье только торжество человеческой глупости, тянувшееся и оборвавшееся. Они претендовали на гораздо большую справедливость по отношению к этой эпохе.
В самом деле, он различил в ней яснее, чем философы 18-го века, но то, что он видел, было освободительное движение тогдашних горожан, «образование и успехи третьего сословия», а не «природа» феодального строя, в его целом. Они понимали феодальный строй в его разложении, но не в его происхождении. Что касается до происхождения, то «завоеванье» не переставало быть для него разрешением загадки.
Мы указали выше, что Ог. Тьерри обязан был Сен-Симону всеми своими историческими идеями. Сен-Симон придерживался мнения, что и Гизо заимствовал у него свои исторические взгляды. Как бы то ни было, но бесспорно, что тот, кто внимательно прочтет Сен-Симона, не найдет в трудах Гизо нечего нового по части философии истории, так и Сен-Симон, который настаивал па превосходстве средневековой социальной организации над социальной организацией древних народов, оценивал эти преимущества только с точки зрения того простора, который она давала развитию современного «промышленного» строя. Феодализм же для него — не что иное, как система, основанная исключительно на праве более сильного, система, в которой господствует дух завоевания[45].
Бесспорно, что смысл исторического бытия феодальных синьоров заключался прежде всего в их военной функции. В этом смысле можно говорить о военном характере их собственности. Не нужно, однако, забывать, что такое суждение не больше, как façon de parler [46]. Почему в Европе с сегодняшнего дня военная служба проходит иначе чем в средние века? Почему она изменила свою «природу»? Потому что экономическая структура европейских обществ не та, какою она была в то время. Способ производства, господствующий в обществе, определяет в последнем счете способ удовлетворения общественных потребностей.
Сколько бы историки той школы, о которой мы здесь говорим, ни повторяли вслед за Минье, что феодализм заключался в потребностях раньше, чем он оказался в действительности, все же они понимали его «природу» так же мало, как и происхождение потребностей общественного человека в зависимости от различных фазисов его эволюции. Их философия истории сводилась к следующему: раньше,чем стать причиной, политические конституции являются следствием; корень (этих конституций) находится в социальном состоянии народов. Социальное состояние определяется состоянием собственности, а у современных народов — преимущественно состоянием земельной собственности[47]. Наконец, что касается собственности, она объясняется природой человека или более или менее сильным искажением этой природы.
Природа человека, которая уже в XVIII ст. играла столь значительную роль в политических и социальных теориях философов и которую О. Конт, мнимый враг метафизики, сделал настоящей сущностью своей будто бы «социологии», не больше, как риторический образ. Неизменна ли человеческая природа? В таком случае она не может объяснить нам изменения, происходящие в общественных отношениях, совокупность каковых изменений образует то, что мы называем историческим процессом. Изменяется ли она в свою очередь? Тогда нужно найти причину этих изменений. В обоих случаях «природа человека» одинаково далека от того, чтобы объяснить что бы то ни было в историческом движении человечества.
«Отношения собственности» у австралийских племен не похожи на те, которые существуют в настоящее время у народов Западной Европы. Чем это объясняется? Тем ли, что австралийцы имеют, природу отличающуюся от природы европейцев, или тем, что они противятся голосу природы? Ни тем ни другим. Их отношения собственности являются такими, какими они должны быть при нынешнем состоянии их производительных сил. Они естественны, поскольку они остаются в соответствии с этим состоянием. Они сделаются противоестественными тогда, когда производительные силы австралийских племен достигнут более высокого уровня развития.
Для того, чтобы существовать, человек должен воздействовать на внешнюю природу, он должен производить. Действие человека на внешнюю природу определяется в каждый данный момент его средствами производства, состоянием его производительных сил: чем больше эти силы, тем продуктивнее их действие. Но развитие производительных сил приводит неизбежно к известным переменам в отношениях производителей друг к другу, в процессе производства. Это те изменения, которые на юридическом языке называются изменениями состояния собственности. А так как изменения в состоянии собственности приводят к изменениям во всей общественной структуре, то можно сказать, что развитие производительных сил изменяет «природу» общества, и так как, с другой стороны, человек есть продукт окружающей его социальной среды, то очевидно, что развитие производительных сил, изменяя «природу» социальной среды, изменяет «природу» человека. Природа человека (таким образом) — не причина, а только следствие.
Если бы, с этой точки зрения, которая есть точка зрения философии исторического материализма, захотели разобрать основную историческую концепцию Гизо, Минье и Огюстэна Тьерри, нужно было бы сказать:
Совершенно правильно то, что раньше, чем стать причиной, политические конституции являются следствием; также правильно то, что для того, чтобы понять политические учреждения, нужно знать различные социальные условия и их взаимоотношения, очень правильно и то, что для того, чтобы понять различные социальные условия, нужно знать природу и отношения собственности. Но состояние собственности имеет гораздо большее социальное значение, чем то, которое придавали ему наши историки. Это состояние дает себя чувствовать везде и не только у современных народов; неправильно также утверждать, что характер политических учреждений определяется главным образом природой земельной собственности; влияние того, что называют движимой собственностью, не менее значительно. Если в средние века крупные земельные собственники составляли господствующий класс в обществе, это вытекало из состояния производительных сил того времени. Наконец, причину исторического развития форм собственности нужно искать не в природе человека, а в развитии производительных сил.
Мы приходим, таким образом, к выводу, который для многих читателей, предубежденных против материалистического понимания истории, покажется довольно неожиданным. Вывод этот сводится к следующему: исторический материализм Карла Маркса не осуждает поголовно и без разбора исторические идеи предыдущих школ; он только освобождает эти идеи от пагубного противоречия, благодаря которому эти идеи не могли выйти из заколдованного круга.
Другой вывод, который нам кажется не менее достойным внимания — это то, что если неправильно утверждать, что Маркс был первым заговорившим о классовой борьбе, то все же вне сомнения, что он первый раскрыл настоящую причину исторического движения человечества и, тем самым, «природу» различных классов, которые один за другим появляются на мировой арене. Будем надеяться, что пролетариат сумеет хорошо воспользоваться этим ценным открытием великого мыслителя-социалиста.
Перевод А. Ч. и Е. С.
Проблема продукции и революции
Вл. Виленский (Сибиряков)
Существует такая сказка, в которой один неудачник с путаной головой, перепутав свадьбу с похоронами, вместо приветствия встретившимся веселящимся провозглашает: «Канун да ладан!». Неудачник это делает от чистого сердца, но веселящиеся усмотрели в этом насмешку и больно побили неудачного путаника.
В положении такого путаника в апреле 1917 года оказался небезызвестный экономист Петр Маслов, когда он по поводу законодательного установления 8-мичасового рабочего дня, — первой реальной победы русских рабочих, — обратился с «открытым письмом» к советам рабочих и солдатских депутатов, в котором он предостерегал рабочий класс, заявляя, что без развития производительных сил, без развития промышленности, это завоевание ничего не даст, так как падение индустрии поведет к безработице и к уничтожению рабочего класса.
Содержание этого письма очень понравилось буржуазии, которая тогда уже начинала чувствовать, что почва колеблется под ее ногами, и в аргументах П. Маслова она надеялась найти средство против надвигающейся опасности. Письмо было широко перепечатано буржуазной печатью, которая усиленно расхваливала П. Маслова.
Но для рабочего класса это «открытое письмо» прозвучало тогда насмешливым — «Канун да ладан». И,пожалуй, вышло так, что П. Маслов оказался с помятыми боками. Не знаем, по чьей вине, но он оказался в колчаковии, в Сибири, и после многих пережитых тяжелых минут сейчас подает о себе весть новой написанной им книгой «Мировая социальная проблема»[48], в которой он пытается обосновать свою правоту и историей «открытого письма» 1917 года.
Однако, ни та горечь, которой пропитана эта последняя книга П. Маслова, ни те аргументы, заимствованные из трехлетнего «критического опыта меньшевизма», ни, наконец, те выводы, которые он делает, отнюдь не могут служить доказательством правоты отмеченного нами выше выступления Маслова. И с этой стороны новая книжка П. Маслова выглядит немного комически, но в ней есть много такого, что является чрезвычайно интересным и заслуживающим того, чтобы о ней поговорить.
П. Маслов считает, что большинство современных экономистов подменяют науку о народном хозяйстве наукой о частном хозяйстве. Он считает, что до сих пор главное внимание экономистов обращалось на хозяйственную деятельность капиталиста и на результаты этой деятельности с его точки зрения. По его же мнению, перед политической экономией стоит задача «найти закономерность в распределении и перераспределении производительных сил, направление, в котором оно происходит, и причины, вызывающие его».
Эти мысли П. Маслов высказывал еще десять лет тому назад в своей книге «Теория развития народного хозяйства», и поэтому они новизны не представляют. Но автор пытается сейчас найти в опыте войны и революции подтверждение необходимости выдвижения этой проблемы, которую он отожествляет с мировой социальной проблемой, от успеха разрешения которой зависит будущее человечества.
Новым также для рассматриваемого автора является стремление использовать опыт русской пролетарской революции и результаты ее хозяйственной перестройки на новых началах, для того чтобы подкрепить свою основную мысль, что в основе благоприятного разрешения социальной проблемы должна лежать проблема продукции.
В этом отношении работа П. Маслова представляет как бы теоретическое обоснование того течения, которое на протяжении всех четырех лет кричало о неприемлемости «потребительского» социализма большевиков. Однако, стараясь быть объективным, автор, в конечном счете, всех современных социалистов берет за одни скобки и делает вывод, что по существу современное понимание социальной проблемы для всех социалистических партий является пониманием как проблемы распределения и что необходимость процесса накопления национального капитала, как не сознавалось точно так же значение различного характера потребления.
Процесс накопления национального капитала и выяснение форм непроизводительного потребления, — два основных момента, два фокуса, вокруг которых вертится все содержание рассматриваемой нами книги. Выдвигая проблему продукции миллионов мелких хозяйств, пользующихся примитивной сохой, автор возражает против иллюзорных утопий электрификации, полагая, что для России накопление национального капитала связано именно с этими мелкими хозяйствами и должно пойти по пути длительного накопления при сокращении многочисленных форм непроизводительного потребления.
Капитализм должен смениться другой, более прогрессивной, с точки зрения трудящихся, формой хозяйства, но какой? — спрашивает П. Маслов и в своем заключении отвечает: — очевидно, такой формой организации хозяйства, которая обеспечивает увеличение продукции, т. е. увеличит и процесс производительного труда, накопления и продуктивность индивидуального труда.
Мировая война и ее последствия принесли непримиримые противоречия. — Производительные силы упали, а непроизводительные затраты (напр., вооружение) не прекращаются. Буржуазия для сохранения своей власти не умеет найти других путей, кроме увеличения непроизводительных расходов на вооружение армий; но и рабочий класс не считается с состоянием производительных сил, стремится к увеличению своей доли, независимо в каком положении находятся производительные силы их страны — таков заключительный вывод П. Маслова. А отсюда приговор для русского опыта решения социальной проблемы:
«Опыт русской революции показывает, что обнищание и обострение социальных противоречий, благоприятное для социальных потрясений, неблагоприятно для решения социальной проблемы».
Таково примерно существо содержания книжки П. Маслова.
Мы не собираемся отрицать факт обнищания современной России, так же как не собираемся оспаривать существа самой проблемы продукции, которая у нас сейчас поставлена на очередь и о которой речь будет идти ниже; но мы, конечно, не можем считать круг развития русской революции замкнутым и рассматривать ее как нечто законченное, дающее основание для окончательных выводов.
Если что и можно считать закончившимся, то, может быть, с некоторой натяжкой, это можно сказать относительно периода вооруженной борьбы русского пролетариата, которая была затяжной, кровавой, очень разрушительной и которая наложила свой неизгладимый след на все, связанное с этим периодом так наз. сейчас «военного коммунизма», где все было подчинено задачам военной целесообразности и нуждам военной обороны.
Но вряд ли разрушительный процесс войны можно сочетать с творческими производительными задачами, которые выдвигаются экономистом, ставящим перед собою проблему продукции. Война есть тоже продукция, но только разрушения — это аксиома. И, очевидно, здесь возможно или лицемерно сокрушаться о бесцельности и ненужности подобного рода разрушений, или принимать это разрушение, как факт, и производить его количественный учет, быть может, только порою принимая меры к возможному уменьшению этого разрушения.
Именно в таком положении на протяжении четырех лет находилась Советская Россия, перед рабочим классом и крестьянством которой была дилемма: отбиться от вооруженного врага и быть, наконец, самому себе хозяином, или вместе с поражением получить реставрацию прошлого.
Но, может быть, именно эта реставрация-то и несла разрешение проблемы продукции? Нет, конечно, П. Маслов так отвечает на этот вопрос: «Решать вопрос о том, сумеет ли это сделать Советская власть, я не берусь, но должен заметить, что власть генералов Колчака, Деникина и Врангеля оказалась неспособной разрешить проблему продукции».
А раз так, то тем более рабочему классу России не следовало было отказываться от борьбы за удержание взятой в октябре в свои руки политической власти.
Сам П. Маслов в своем последнем труде признает, что критика капиталистического строя, сделанная Карлом Марксом и другими социалистами, настолько сильна и соответствует действительности, что все попытки многочисленных ученых экономистов бороться и опровергнуть эту критику никаких результатов не дали. Между тем русские рабочие как раз следовали по пути, намеченному марксизмом, который этот путь видел в захвате рабочими власти для осуществления социалистического строя через уничтожение капиталистических отношений, что должно было в конечном счете привести к улучшению положения рабочего класса и к уничтожению противоречий капиталистического общества.
Пролетариат России в союзе с крестьянством взял в свои руки власть и этим как бы осуществил основную предпосылку теории марксизма. Вместе с переходом власти в руки пролетариата перешли и орудия и средства производства из частных рук в общественную собственность. Но этот захват власти и орудий и средств производства отнюдь не был моментальным и не совершился в один день или даже месяц. Нет, это коренная ошибка наших критиков, этот переходный период борьбы шел свыше четырех лет и закончился только в тот момент, когда мы отбили последнего врага на наших многочисленных фронтах и поставили вопрос о мирном хозяйственном строительстве.
Вся сумма роста непроизводительных расходов, обрастания безобразными бюрократическими извращениями, система пайкового обеспечения непроизводительных элементов и т. п. — это по существу военные издержки революции. Без подобного рода издержек, конечно, никакая война не обходится. Прямо или косвенно, но оплачивать приходится не только непосредственные средства борьбы, но и такие отношения как союз, нейтралитет и т. п. Поэтому ясно, что длительный период борьбы со всеми ее последствиями лишил наших противников надлежащей перспективы, а потеряв ее, они, подобно П. Маслову, стали оперировать такими экономическими фактами нашего недавнего прошлого, которые с точки зрения экономической теории имеют, конечно, только относительную ценность.
Поэтому, вряд ли в серьез можно говорить для этого периода о возможности процесса накопления. Очевидно, здесь законен был только один процесс — процесс перераспределения производительных сил в сторону сужения производства и уменьшения общей продукции, что собственно, и должно было в конечном счете привести к обнищанию страны. .
Переход от вооруженной борьбы к возможностям мирного строительства позволил для нас поставить вопрос о проблеме продукции и подойти к ней практически со всей решительностью, свойственной большевикам.
Но было бы, конечно, большим заблуждением считать, что большевикам было органически чуждо понимание необходимости проблемы продукции. Формулируя социальную проблему — «Социализм — это распределение и учет» — Ленин, конечно, не хуже П. М. Маслова, понимал, что предпосылкой для учета и распределения должно являться производство. Но, как говорят, всякому овощу бывает свое время. Точно также в условиях осажденной крепости приходится думать не столько насчет проблематических возможностей откуда-нибудь получить что-нибудь, сколько о том, как правильнее учесть и распределить имеющееся в реальности.
И если формула «Социализм — это распределение и учет» — вообще верна для будущего разрешения социальной проблемы, то, не менее она была верна в качестве практического лозунга в условиях русской действительности 1918–1920 гг., когда Р.С.Ф.С.Р. являлась крепостью, находящейся в капиталистическом окружении.
То перераспределение производительных сил, которое мы сейчас производим в сторону производственных задач, может с несомненной ясностью свидетельствовать, что, получив возможность начать восстановление своих хозяйственных сил, мы взяли верный курс, поставив перед собою две задачи: первая — накопление сырьевых ресурсов, могущих служить базой для развертывания ваших производительных сил, и, вторая — стимулирование производительности труда, создавая необходимые условия для освобождения его от непроизводительных форм.
Переход от продразверстки к продналогу, с предоставлением свободного товарооборота, представляет меру, которая должна стимулировать производительные силы сельского хозяйства, т. е. вести к накоплению сырьевых ресурсов. Переход на хозяйственный расчет в промышленности есть предпосылка стимулирования нашей фабрично-заводской промышленности, что, совместно с свободным товарооборотом нашей кустарной промышленности, кладет первые кирпичи в общий фундамент к общему поднятию развития наших производительных сил.
В отношении отказа от непроизводительных форм труда, сейчас идет пересмотр и ревизия всего наследства от периода вооруженной борьбы. Принцип хозяйственного расчета дает твердые основания для борьбы с теми хозяйственными извращениями, которые могли у нас вырасти на почве жестокой военной необходимости вчерашнего дня.
Но было бы ошибкой думать, что этот огромный процесс перевода на новые рельсы хозяйственной жизни Советской России может совершиться в один день. Конечно, этого быть не может в условиях русской действительности, где превалирует пространство и численность населения, — этот хозяйственный процесс будет длительным, а преобладающие формы мелкого полунатурального хозяйства должны придать всему этому периоду характер периода капиталистического первоначального накопления, свойственного крестьянским странам.
Эта сложность и длительность процесса несомненно осложняется целым рядом моментов той политической действительности, вне пределов которой нельзя, конечно, рассматривать хозяйственный процесс восстановления производительных сил Р.С.Ф.С.Р.
П. Маслов правильно отмечает, что трагизм капиталистического общества и его хозяина — буржуазии заключается в том, что для сохранения своей классовой власти у нас нет другого пути, как увеличения непроизводительных расходов на армию. К сожалению, в условиях современной действительности капиталистического окружения у первой пролетарской республики на пути к сокращению непроизводительных расходов стоит тоже такое препятствие. Пока мир не обеспечен прочно для Р.С.Ф.С.Р., последней приходится, конечно, мириться с непроизводительными расходами на Красную Армию. Это, конечно, минус для проблемы продукции сегодняшнего дня.
Но, если для буржуазно-капиталистического государства это есть обычное положение, то для пролетарского это — временная вынужденная необходимость, которая может отпасть с переходом хотя бы к милиционной системе вооруженных сил.
Другим моментом, чрезвычайно важным для разрешения проблемы продукции, является отказ от непроизводительных форм личного потребления для капиталистического общества выражающегося в роскоши для немногих. Пролетарское государство имеет возможность в общей массе положить этому предел, что мы имели возможность проверить на опыте нашей вынужденной системы сугубой уравнительности. Во всяком случае пролетарское государство имеет возможность стремиться в большей степени, чем капиталистическое, к наиболее производительному использованию своего дохода с точки зрения общественного хозяйства.
Таким образом, правильность намеченной линии и ряд соображений общего принципиального порядка говорят за то, что Советская Россия может и должна рассчитывать на возможность разрешения проблемы продукции.
В капиталистическом обществе процесс накопления идет обычно по линии развертывания производительных сил, сначала в области обмена и средств передвижения товаров, и только затем, во второй своей фазе, переходит в область производства.
Очевидно процесс первоначального накопления, который должно будет пережить наше хозяйство пойдет тоже по этой линии. Но уже сейчас не трудно предвидеть, что на ряду с сельским хозяйством и развертыванием торгового капитала, в общем развитии производительных сил страны должна занять соответствующее место крупная промышленность, которая, хотя и в растерзанном виде, но существует у нас.
Это тем более, что крупная промышленность должна явиться основной базой для пролетарской власти. На основе восстановления крупной промышленности пролетариат может рассчитывать на укрепление своих рядов новыми резервами, способными усилить его в борьбе за переустройство современного общества.
Крупная промышленность, и очень значительная в своей основной части — зданиях, машинах и инструментах существует. Хуже дело обстоит с т. н. переменным капиталом в виде сырья и рабочей силы, испытывающей продовольственные затруднения, т. е. по существу лежащие в том же недостатке сырья — хлеба. Отсюда и вытекает та связь и зависимость между производительными силами сельского хозяйства и крупной промышленности.
У нас процесс хозяйственного восстановления пошел одновременно по всем указанным выше направлениям. И если стимулированное к усилению производительности свободным оборотом сельское хозяйство должно реализовать недостающее нам сырье, то хозяйственный принцип самоокупаемости, расчета-выгоды и т. п. должен перевести нашу крупную промышленность к руководству принципами наибольшей экономии, т. е. наименьшей затраты для получения наибольших результатов.
Орудия и средства производства, которыми сейчас в крупной промышленности владеет в Советской России рабочий класс, являются одним из элементов, определяющих продукцию страны и развитие ее производительных сил. Другим элементом является живой труд пролетариев, от которых требуется не только производительный труд, но его интенсификация.
Ссылаясь на опыт капиталистического общества и на практику военного периода советского строительства, П. Маслов отмечает, что устранение конкуренции или соревнования, а равно стимула личной заинтересованности доказало неизбежность падения общей продуктивности и понижения средней производительности труда.
В этом отношении известная доля правды есть, но на наш взгляд основная причина падения производительности заключается в общей изношенности, как орудий и средств производства, так равно и живой силы, которая не в меру если так можно выразиться голодала, холодала и, конечно, была физиологически ослаблена в качестве движущей и производящей силы.
Только подкормив изголодавшихся рабочих, только приведя их, так сказать, в нормальное рабочее состояние можно думать об рационализации труда путем его уплотнения, интенсификации и т. п. Учитывая все это, Советская власть собственно и ставила себе главной задачей в труднейшие годы военных и продовольственных затруднений — подкормить рабочих, не дать им погибнуть от истощения, отсюда и появился тот классовый паек, который худо или хорошо но выполнил эту задачу.
Необходимость, вытекающая из медленного темпа развития революции на Западе, ставит нас в необходимость рассматривать проблему восстановления производительных сил в рамках Р.С.Ф.С.Р. находящейся в капиталистическом окружении. Но это отнюдь не будет теми национальными рамками, которые ставит себе П. Маслов, когда он говорит о «национальном капитале», о «национальном доходе» и т. п.
Р.С.Ф.С.Р. сейчас представляет огромную федерацию народов входивших ранее в Российскую империю. О национальной связности здесь мало приходится говорить, как и о каком-то едином национальном капитале, все это но более как условность. И если мы сейчас ставим проблему развития производительных сил России, то мы конечно имеем в виду всю федерацию, рамки которой могут быть сужены или раздвинуты в зависимости от обстоятельств.
С этой точки зрения для нас несколько иначе стоит вопрос о противопоставлении «национального капитала» иностранному капиталу как это делает П. Маслов, когда он говорит, что национальный капитал особенно в отсталой стране, накопляясь, реализуется в ней в виде орудий и средств производства, тогда как, иностранный капитал вывозит прибыль из эксплуатируемой им страны, чем разумеется задерживает ее развитие.
Старая колониальная политика европейского капитала давала возможность ставить вопрос таким образом потому, что европейский капитал в колониях не встречал на своем пути препятствий. Ни черный, ни желтый материки не могли конечно противопоставить силе этого капитала свою силу способную обуздать хищничество европейского капитала. Но разве может эта прошлая практика быть сравнением с той концессионной политикой на которую указывает П. Маслов? Конечно нет. Здесь в основе лежит другое соотношение сил. Р.С.Ф.С.Р. бедна, она нуждается в материализованном капитале в виде орудий производства; но она сильна и это знают все кому надлежит это знать.
Отсюда следует, что взаимоотношения иностранного капитала с объектом эксплуатации должны быть построены на иных основаниях чем это подсказывала бы старая практика. К сожалению здесь сейчас можно только строить предполагая, так как конкретного опыта пока еще нет. Но несомненно, что реальное соотношение сил направит разрешение этого вопроса именно в эту сторону.
Несмотря на замедлившийся темп западно-европейской революции для рабочего класса нет конечно оснований терять революционную интернациональную перспективу, которая может сулить расширение завоеваний пролетарской революции, значительно больше рамок нынешней Советской Федерации России, а это, конечно, заставляет под иным углом рассматривать концессионную практику иностранного капитала, которая вне национальных перегородок превращается в простое перемещение и приложение капитала там, где он будет более производителен.
Опыт советского строительства народного хозяйства не удовлетворяет П. Маслова. Пугает его главным образом обнищание и обострение социальных противоречий, которые мало благоприятствуют разрешению социальной проблемы, отожествляющейся в его понимании с проблемой продукции.
Он видит в капитализме положительные стороны за способность развертывания процесса производительного труда, накопления и продуктивность индивидуального труда. И если для П. Маслова возможна смена экономических форм, то она должна идти по линии более прогрессивной с точки зрения процесса продукции.
Но, когда он обращается к опыту русской пролетарской революции, то этой прогрессивности он не то, чтобы не допускает, а просто сомневается в ее возможности. И собственно нам кажется, что его сомнение не столько относится к русскому опыту, сколько к самой природе современной социальной проблемы.
Ему кажется, что в современном понимании социалистами и рабочими социальной проблемы, как средства значительно и немедленно улучшить положение рабочих при сокращении труда, неизбежно ведет к сокращению продукции и к падению производительных сил, т. е. как раз к обратным результатам, которые может себе ставить задача разрешения социальной проблемы.
Получается в своем роде порочный круг из которого экономист П. Маслов не видит выхода.
А отсюда невольно напрашивается мораль, что рабочему классу как будто бы невыгодно заниматься революциями, если он думает так же как П. Маслов серьезно заняться проблемой продукции. Выходит так, что проблеме продукции рабочий класс должен принести в жертву свои классовые интересы и неотъемлемое право на улучшение своего положении, т. е. продать за чечевичную похлебку теоретических измышлений Маслова свое революционное первородство.
Плесенью старого ревизионизма веет от такой новизны и работы П. Маслова. И опять некстати и насмешливо для русского пролетариата звучат сделанные им выводы. Русский пролетариат не отрицает проблемы продукции, он согласен, что ею нужно заняться для того, чтобы подвести основание под взятые им политические завоевания. Но задачу решает не путем отказа от революционной встряски, голода, холода, обнищания и тысячи других неприятных последствий всякой борьбы, а именно через борьбу со всеми ее последствиями: ибо в этой борьбе он видит основную предпосылку к разрешению социальной проблемы.
О книге Г. Сафарова «Колониальная революция»[49]
В. В—ян
Книга — с большими претензиями.
Автор перед тем, как приступить к изложению тех обобщений, которые делает он на основании опыта Туркестана, посвящает целую главу философии истории востока.
Сафаров вообще весьма расположен к философии (судя по двум его другим брошюрам), но вследствие ли того, что он при всей своей любви к ней — ее не изучал, либо вследствие других причин, по ему она никогда не дается.
Тут как и в других брошюрах своих у Сафарова масса примитивных и наивных ребячеств, не говоря уж об ошибках. Например, совершенно правильную мысль о том. что капитализм в колониях менее всего ставит себе задачей культуртрегерство, ведет экстенсивное хозяйство и грабит колонии — он расписывает в таких выражениях и с такими преувеличениями, что она становится местами прямо ложью.
Так, например, он утверждает, что в колониях «капитализм не вспахивал почвы для капиталистической фабрики» — это прямо не верно: капитализм не ставил себе задачей создавать условия возможности существования капиталистической фабрики, но помимо его воли, логикой вещей там, куда вступает капитализм и начинает хозяйничать — там водворяются рано или поздно законы капитализма, а тем самым против его желания почва оказывается вспаханной.
Эмпирические факты сегодняшнего состояния Индии — самой типичной колонии — тому прекрасное доказательство[50], да и Туркестан мог бы послужить хорошей иллюстрацией против Сафарова — но о Туркестане потом.
«Тот факт, что на востоке государственная власть» как туземная так и пришлая «выступает непосредственно, как экономический эксплуататор, имеет огромное политическое значение: никакая политическая революция здесь невозможна без революции экономической» (курсив мой. — В. В.).
Это типичный... бакунизм, как он был воспринят в 70-ых годах русскими анархо-славянофильствующими народниками хотя они, разумеется, не считали Россию колонией.
Если что и можно вывести из посылки Г. Сафарова, так это то, что этим странам до экономической революции недосягаемо далеко, ибо власть выступает непосредственно экономическим эксплуататорам, потому что в стране экономические отношения — первобытны, производство препримитивное. А раз это так, то «экономическая революция» может мерещиться людям воспитанным на традициях и учении Бакунина, а не Маркса.
На самом деле, социальная революция в стране, где «еще живы кое-где остатки родового коммунизма и патриархально родового быта»! Сафаров говорит «Первобытная мотыга — «кетмен» и первобытный плуг — «омач» еще до сих пор исчерпывают почти весь технический инвентарь сельскохозяйственного производителя в «Средней Азии» (12–13 стр.). «Целый ряд народностей востока еще не совершили своего окончательного перехода к земледелию (киргизы, арабы, племена Северной Индии и т. д.)».
Каково звучит при всем этом афоризм Г. Сафарова?
Если в нем и есть некая доля правды (или лучше было бы сказать возможность правды), то она облечена в такую форму, что стала ложью.
Я бы мог число примеров путаницы в философии истории востока умножить, но думаю и это достаточно: глава не представляет чего-то цельного, это плохая непереваренная компиляция и поэтому понять, особенно рабочему, все это весьма мудрено (скажем и понять-то там нечего)!
Еще менее он гарантирован от ошибок, когда раздражается и нервничает.
А это с ним случается очень часто с III главы, где он-говорит о Туркестане, как колонии.
Русские завоевали Туркестана. Шовинисту туркестанцу приличествует при каждом воспоминании об этом исторгнуть бездну проклятий.
Марксисту же исследователю надлежит хладнокровно и объективно изучить это явление. Сафаров думает иначе. Он думает, что в его задачу входит доказать, что полиция царского правительства — «высасывала жизненные соки», что купцы «хищники», чиновники — ташкентцы и т. д. и т. д. Это так часто и навязчиво выступает отовсюду, что чтение становится невозможно нудным.
Однако, преодолеем нудь.
В первой главе он писал, что колонии «оказались в стороне от технической революции, революционной ломки общественных форм и культурного прогресса» (стр. 3). Однако, когда он от философии перешел к эмпирии, к разбору туркестанских дел, то оказалось, что «приход русских в Туркестан вызвал настоящую революцию в его хозяйственных отношениях» (курсив мой. — В. В.) и дальше через страницу: «колониальный захват Туркестана русскими насильственно подвинул вперед переход коренного населения от феодализма и феодально-патриархального быта к торговому капитализму».
Не прав ли был я, когда говорил, что туркестанский опыт будет против самого Сафарова.
«классовом неравенстве» (курсив его. — В. В.) между нациями.
Во втором пункте тезисов Коминтерна имеется фраза, что коммунистическая партия должна отчетливо разделить нации на «угнетенных, зависимых и неравноправных» с одной стороны и «угнетающих, эксплуататорских, полноправных» — с другой.
Однако, эта совершенно правильная мысль как небо от земли далека от развиваемой Сафаровым идеи «классового» неравенства между нациями.
На самом деле.
Единственный вывод, который можно сделать из «Тезисов», это для победы над капитализмом необходимо «сближение пролетариата и трудящихся масс всех наций и стран для совместной революционной борьбы за свержение землевладельцев и буржуазии», в то время, как посылка Сафарова приводит к совершенно другому выводу. Мы сейчас увидим к какому, а пока разрешите привести выписку, доказывающую, что эти выражения у Сафарова не случайные, а обдуманы, и, как мы увидим несколько ниже, послужили немалой помехой практической деятельности Сафарова и его друзей и единомышленников.
«Так же как в капиталистическом обществе все развитие производительных сил совершается в виде усиления господства капитала над трудом, в колониях это развитие только увеличивало классовый (разрядка его. — В. В.) антагонизм, классовую противоположность между командующей нацией и нацией угнетенной». — Вот уж воистину сказали дураку богу молись, а он лоб расшиб себе от усердия; — сказал Коминтерн — признай существование наций угнетенных н командующих, а Сафаровиз излишнего рвения не только это исполнил но и... «лоб расшиб».
Читатель будет прав, если не удовлетворится этой выпиской: и мысль тут выражена коряво и речь мало связная, да и господь его ведает, быть может в экстазе философствования (а фраза взята именно из главы первой — стр. 4) сказал невпопад что надо.
Вот вторая выписка:
В хлопкоочистительные заводы всю рабочую силу поставляет туземное крестьянство, его беднота, оно и понятно — эти заводы тесно связаны с господствующей отраслью местного сельского хозяйства — хлопководством. Это весьма простой и понятный факт, явление далеко не колониальное — этим сопровождался всякий переход от мелко-крестьянской, кустарной промышленности к фабричной (вспомните текстильные фабрики Владимирского района!) и казалось бы если оно что и доказывает, так это то, что не прав Сафаров утверждая, будто капитализм в колониях не «вспахивал почвы для капиталистической фабрики», но логика для него вещь необязательная и он приходит к мысли о том, «как классовое неравенство между нациями переносится и в область промышленности» (разрядка его. — В. В.).
Если в этой путанице понятий есть какой либо смысл, то это тот, что в колониях рабочие метрополий такие же эксплуататоры туземного пролетариата — простите ошибся, нужно было сказать, «класса угнетенных народов» — как и «их» буржуазия разумеется вся симпатия и сочувствие Сафарова на стороне туземного «класса угнетенной нации», он иначе не говорит о них, как с величайшим уважением, усугубляя последнее тем, что тут же рабочих метрополий обзывает «аристократией».
«Тогда как туземный чернорабочий пролетариат (разрядка моя. — В. В.) все время испытывает давление избытка рабочих рук... европейская рабочая аристократия (не пролитариат! — В. В.) застрахована от этого самим своим положением» — гнев и расстройство нервов — плохие союзники исследователя!
Но попытаемся без Сафарова и его двух союзников разобраться в вопросе.
Несомненно, ташкентский железнодорожник намного отличается от сарта — чернорабочего, так же, как бакинский рабочий русский — от татарина либо перса. Чем? Прежде всего своим культурным уровнем и большей технической подготовкой.
Материально это выражается в высокой оплате его труда; кроме того у него еще одна отличительная черта — он организован. Он усиленно старается вовлечь в свою организацию туземцев — рабочих, но не может, что сильно вредит его работе и ослабляет мощь его организации.
Почему?
По весьма понятным причинам: этот самый полуфеодальный туземный крестьянин, вовлеченный в фабрику еще не стал пролетарием, он еще целиком в плену у крестьянской идеологии, он еще окончательно непролетаризован.
Этим хорошо пользуются идеологи господствующих классов туземных народов, усугубляя эту рознь, вызванную естественными причинами, искусственной агитацией против «русских вообще», «англичан вообще» — против «класса нация-угнетатель» как бы выразился (или должен был бы выразиться) Сафаров.
Посмотрите на наиболее кричащие примеры из Закавказской действительности. Баку самый яркий очаг революции на всем Российском юге, всю тяжесть революционной работы несли на своих плечах рабочие «аристократы» и несмотря на это сегодня и тут немало сафароподобных голосов; законная тяга этих рабочих «аристократов» к равным себе по развитию российским рабочим квалифицируется как колонизаторство.
Буквально то же самое с рабочими Туркестана: кто вынес на своих плечах революцию 1905 — 1907 годов? Железнодорожные рабочие. Правда Сафаров пытается умалить эту борьбу (стр. 53), но он тем обнаруживает лишь (при наивыгодных него для предположениях) малое знакомство с историей революции 1905 г. ни больше.
Кто вел неравную борьбу с наседающей со всех сторон контр-революцией в течение 1918–1919 гг.? Железно-дорожные рабочие.
Как единственный отряд интернационального пролетариата — железно-дорожные рабочие и образовали советскую власть и осуществили диктатуру пролетариата. Было бы сугубо пикантно, если туркестанские националисты сорганизовали бы пролетарскую диктатуру. Конечно, ошибки были неизбежны: клочек великой пролетарской семьи, окруженный со всех сторон кочевыми народами, осуществляет диктатуру пролетариата: вообразите только эту картину и вы поразитесь геройству, энтузиазму и организованности ташкентских рабочих.
Но это вы, читатели, не туркестанцы, а вот Сафаров не только не согласен, но даже совсем наоборот:
«Пролетарская диктатура здесь (т. е. в Туркестане. — В. В.) с первых же шагов (sic!), приняла типично колонизаторскую (!) внешность: русский рабочий взял на себя «управление народами Туркестана» (стр. 71).
Сафаров не может понять, что иною и не могла быть диктатура пролетариата в стране, где единственная организованная пролетарская масса — русские рабочие. Для того, чтобы этого не получилось и чтобы туземные силы пришли к власти, нужно было «распролетарить» диктатуру (да простит мне читатель). Этим делом и занялось второе, «пришлое» поколение россиян (опять россияне!) в лице уполномоченных центра.
Об этом повествует вся последняя глава и заключение. В этой повести есть интересные моменты и материалы, но не мало и ошибок, извращений и спорных положений. Он до слез возмущен тем, что русские переселенцы занимали земли кочевников под пашню. «Сгонялись не только удельные киргизские хозяйства, но и мелкие аулы. Сгонялись с насиженных мест, с кровью и потом политой и завещанной предками земли» (разрядка моя. — В. В.) Пущены в обращение самые убедительные аргументы: кровь, пот, «завещание предков», — особенно последний.
Но добро бы, если эти переселенцы принесли с собой в Туркестан более высокую земледельческую культуру: «Ничего подобного! Он явился сюда как хищник, и как хищник стал эксплуатировать все, что у него лежало под рукой».
Итак, если вам скажут, что русская земледельческая культура (оседлая) выше киргизской (кочевой и скотоводческой), не верьте, — это утверждает колонизатор.
Вероятно все из того же уважения к «завещаниям предков», Сафаров начал проведение коммунизма в Туркестане с того, что выгонял оседлых земледельцев, чтобы открыть дорогу стадам и табунам кочевников. Что и говорить, весьма последовательно (а известное дело, какое похвальное свойство последовательность); однако, в результате получилась картина весьма невеселая, но об этом в другой раз.
Я не думаю доказывать что-нибудь Сафарову (ученого — не учат!), я только думаю, что взявшись писать о «колониальной революции», следовало бы избегать манеры плохих чиновников, которые изображают дело так, будто все до них было катастрофически плохо, а с них начался рай.
Еще один маленький, но весьма характерный дефект: восклицательный и вопросительный знаки часто и в самых различных сочетаниях употребляются для усиления и оттенения мысли, замечания и т. д. Но и тут мера — хорошая вещь. Нельзя же испещрять всю книгу ими и требовать впечатления от них.
До каких курьезов доходит дело, видно из следующего: в географии имеется термин «Монгольский Туркестан», «Русский Туркестан» и т. д. Сафаров хладнокровно не может пройти мимо этого злосчастного «Русского Туркестана», чтобы после слова «Русский» не поставить либо восклицательный (!), либо вопросительный (?) знак, либо и того и другого вместе. Теперь всякий уважающий себя «антиколонизатор» должен исписать восклицательными и вопросительными знаками весь географический атлас (Японское (!?) морг,земля Франца-Иосифа (!!!), и т. д. и т. д.)
При всем том, книжку Сафарова читать следует, выпросив, разумеется, первую главу как в интересах читателя, так и автора, а также всю «философию» из других глав. Читать нужно не для того, чтобы по Сафарову «революцию» в Туркестане возвеличить в «колониальную революцию», а ни совершенно наоборот, — чтобы понять, какой революции не следует ожидать в колониях.
Но этот вопрос нас заведет очень далеко, а нам давно пора кончить.
В ближайших номерах в другой связи мы коснемся этого вопроса.
К вопросу об индустриализации Индии
А. Султан-Заде
Мировая война на время отвлекла внимание великих держав от своих колоний, одновременно ослабив их экономическое давление на них. Транспортные затруднения и переход промышленности на военную работу, сильно ограничили вывоз фабрикатов из метрополии и создали благоприятные условия для индустриализации колонии. Правда эти же обстоятельства часто являлись и помехой для ее развития, благодаря отсутствию достаточного кадра специалистов и средств производства, но несмотря на все эти трудности колонии сильно подтянулись в деле насаждения национальной промышленности. В этом отношении особенно большие успехи делала Индия. В этой жемчужине британской короны, почти все отрасли производства, как то: каменноугольная, железная, стальная, химическая, стекольная, текстильная и др. сделали за время войны колоссальный сдвиг вперед. Из них некоторые раньше совершенно не существовали, как например, химическая и судостроительные верфи для постройки судов, главным образом, для речного и прибережного плавания.
Особенно расцвели отрасли промышленности, связанные с военными потребностями. Так, в 1918 г. было сфабриковано 30 000 000 хаки и серых пледов и 49 000 000 ярдов бинтов и др. предметов. До войны эти продукты почти исключительно вывозились из Англии и в самой стране добывалось лишь около 610 000 ярд хаки и 32 000 серых пледов. Наконец, в 1918 г. изготовлено 20 000 000 пар сапог, т. е. почти в 20 раз больше чем до войны. Применение туземных дубильных веществ достигло небывалой высоты, учреждены новые кожевни и вызваны к жизни опытные станции для добывания дубильных веществ.
Индийские снабженческие органы распространили свою деятельность, помимо скупки всех предметов, необходимых для армии и железных дорог, также и на поддержку частных торговых фирм, желающих организовать фабрики и заводы, привлекали специалистов и опытных рабочих из Англии и проч.
В 1914 г. по официальному отчету, индийские фабрики обработали 4 312 000 кип джута, а в 1918 г. 5 447 000 кип, т. е. потребление увеличилось на 25%. Несмотря на повышение платы рабочим торговые запреты и общие повышения расходов джутовая индустрия Калькутты за это время сильно возросла. Число предприятий с 64 в 1914 году увеличилось до 76 в 1918 году, а вложенный в них капитал с 42 до 47 мил. долл.
Если индусы часто упрекают англичан в том, что они разрушили промышленность в Индии, превратив ее только в поставщика сырья в индустриальные центры Англии, то этот упрек особенно верен относительно текстильной промышленности. Раньше Индия не только была в состоянии удовлетворить свои внутренние потребности в мануфактуре, но еще в больших размерах вывозила. Но в последние годы перед войной ее снабжала этими товарами главным образом Англия. Несмотря на противодействие правительства и на 3^1^/~2~% налог на местное производство в пользу манчестерских и ланкаширских фабрикантов, за время войны текстильная промышленность в Индии сильно подвинулась вперед. Число ткацких машин увеличилось с 96 688 в 1914 году с общей стоимостью 274 388 550 фунт, стерлингов до 115 196 в 1918 г. со стоимостью 381 404 170 фунт. стерлингов.
В отношении развития угольной промышленности Индия имеет колоссальную будущность. Ее угольные запасы, равняющиеся 79 миллиардам тонн среди азиатских стран, стоят на третьем месте после Китая и Сибири. Благодаря развитию промышленности добыча угля сильно возросла: перед войной она составляла 16 мил. тонн, а в 1918 г. она увеличилась почти до 20 мил. тонн. Увеличилась и добыча железа, которая с 372 000 тонн в 1914 г. дошла до 492 000 тонн в 1918 г. Кроме угля и железа в Индии имеется все сырье и вспомогательные продукты, в которых нуждаются современные железная и стальная индустрия. Особенно много в ней марганцевой руды, большая часть которой экспортируется в европейские страны.
Благодаря колоссальным залежам каменного угля и железа, успешно развивается и стальная индустрия. Стальные фабрики в Тата к западу от Калькутты заложенные в 1907 году являются самыми крупными предприятиями этого рода в Индии. Во время войны они приобрели еще большее значение. В 1919 году они вырабатывали в день 175 тонн стали, а позднее 280 тонн. В начале войны там были установлены американские печи, дающие в день 600 тонн стали. Теперь там вырабатываются разные железные и стальные предметы, как например, полосы для пароходов, котлов, мостов, крыш, и товарные вагоны. Общество «Bengal Iron and Steel» вырабатывавшее раньше 120 000 тонн железа в год теперь вырабатывает свыше 17 000 стали в месяц. До войны имелось лишь две доменные печи, а в 1919 году работали пять крупных заводов, которые вырабатывали 357 000 тонн стали.
Параллельно с этим за время войны возрос и туземный капитал, вложенный в разные предприятия. В 1913–14 г. в Индии было 356 акционерных кампаний, занятых в промышленных предприятиях с капиталом в 675 000 000 рупий. В 1916–17 году число вновь образовавшихся обществ было 291 с капиталом 250 000 000 рупий. В следующем году образовалось еще 906 компаний, с основным капиталом в 3 000 000 000 рупий. В 1919–20 г. возникло втрое больше компаний с капиталом значительно превышающим предыдущий год.
В общем в Индии сейчас 50% потребности страны может удовлетвориться фабрикатами внутреннего производства. Мало того, в области текстильной промышленности в некотором смысле становится неприятным конкурентом Англии и Японии. Она до войны вывозила на 20 мил. рупий этих товаров, а в 1916–17 г. вывоз увеличился до 50 мил. Особенно увеличился вывоз крашеных тканей кустарного производства, которое вообще необычайно развилось как вследствие уменьшения импорта, так и вследствие его дороговизны.
Развитие промышленности и усиление туземной буржуазии выдвигают в порядок дня борьбу за национальное освобождение. В палате лордов во время дебатов об Индии (октябрь 1921 г.) лорд Чельмосфорд, бывший вице-король Индии произнес речь, где он, стараясь не поддаваться панике, тем не менее признал, что превосходство британской расы в Индии теперь оспаривается, против нее соединились все цвета кожи и религии. И действительно экономические интересы перевалируют перед всеми остальными факторами. Мусульманин и индус, до войны враждовавшие между собой, сейчас выступают совместно с требованием экономической и политической свободы. Нет никакого сомнения, что национальная буржуазия Индии при помощи вновь усилившихся кустарей, рабочих и крестьян, одинаково заинтересовано в освобождении Индии от иностранной кабалы, добьется в конце концов полного освобождения от ига английской тирании.
Трибуна
О курсах по изучению марксизма при Социалистической Академии
Партиец
Одновременно с потребностью поднять уровень марксистского развития массы членов партии, жизнь выдвинула настоятельную необходимость усиления теоретической подготовки и руководящих активных партийцев. С этой целью 10-й Съезд Р.К.П., по предложению т. Рязанова, вынес постановление об организации специальных курсов при Социалистической Академии Ц.К.Р.К.П., организуя эти «систематические курсы по теории, истории и практике марксизма», как они названы в постановлении Съезда, ставил условием для 50-ти кандидатов: 1) предпочтительность дооктябрьского партийного стажа; 2) не только практический опыт, но и проявление интереса к разработке программных и теоретических вопросов.
На курсы набирались, как видно, товарищи, имеющие не только значительный партийный опыт, но и «восприимчивые к теории», по выражению Энгельса. Здесь в течение двух лет, как научные сотрудники Социалистической Академии, в «регулярных занятиях по выработанной программе», они должны были обрести умение уже самостоятельно в дальнейшем продолжать теоретическую работу. Такие задачи ставились перед этой первой высшей марксистской лабораторией партии.
Пока что этой чрезвычайной важности первый опыт не совсем еще удался. Причины следующие: 1) слишком пестрый и разнородный состав научных сотрудников; 2) трудность привлечения нужных руководителей и 3) несколько беспорядочный характер и громоздкость программы и занятий.
В партийном отношении научные сотрудники в общем представляют весьма ценный и доброкачественный материал. Но по партийному и общему развитию, по наклонностям и запросам, среди них слишком много различных и даже противоположных элементов. Вот некоторые характерные цифровые данные о научных сотрудниках, которых сейчас на курсах 60 человек:
| 1. Партийный стаж | 2. Социальный состав | 3. Возраст | 4. Образование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 17 года | С 17 года | С 18 года | С 19 года | Рабочих | Интелиг. | До 20 лет | 21 г. – 25 л. | Старше 25 л. | Низшее и домашнее | Среднее и высшее |
| 14 | 19 | 20 | 7 | 15 | 45 | 3 | 27 | 30 | 10 | 50 |
В общем среди них на курсах можно наметить три основных группы:
Первая группа — это профессиональные партийцы, получившие хорошую партийную выучку на долгой практической работе. Сейчас, в связи с новым этапом революции, они задались целью изучить ряд основных (актуальных) теоретических вопросов, рассчитывая таким образом несколько восполнить свои пробелы в знаниях и подготовиться к дальнейшим самостоятельным теоретическим занятиям уже на практической работе. Это в большинстве своем старые дореволюционные члены партии, половина из них рабочие; таких — человек 20.
Вторая группа — это сравнительно молодые партийные товарищи с небольшой партийной выучкой. Они несколько далеки от внутренней жизни партии, мало интересуются актуальными проблемами. Больше питают склонность к академической научной работе, занимаются наукой «отвлеченно», как таковой. Таких — человек 10.
Третья группа — это преимущественно боевой молодняк и несколько старших товарищей, которым надо попросту подучиться и получить недостающее им общее и марксистское среднее развитие.
Долго топтались на месте и научные сотрудники, и руководители вместе с инициатором и основателем курсов Д. Б. Рязановым, пока на последних начались занятия. Намеченные на курсах занятия при таком положении вещей полностью начаться, понятно, не могли. Первый год решено было поэтому сделать подготовительным к намеченным курсам. Была избрана линия «на середняка»: метод занятий — средний между семинарским и лекционным, план — нечто среднее между предполагавшейся программой и таковой обычного факультета общественных наук. Задача — дать возможность восполнить знания в области политической экономии, исторического материализма, истории и истории общественной мысли России—Запада.
Понятно, что столь обширно намеченные занятия, рассчитаны на небольшой срок времени, не могут носить систематический и выдержанный характер и потому несколько сумбурны. Понятно также, что такого рода занятия при данном составе научных сотрудников приносят им отнюдь не максимальную пользу. Поэтому отрадно при этом отметить, что последние интенсивнейшим образом занимаются самостоятельно по 8–10 часов в день. Следует только пожелать, чтобы товарищи внесли в самостоятельные свои занятия возможно больше системы и расчета.
Следует также заблаговременно предупредить при определении состава курсов повторение имевших уже место осенью весьма неприятных инцидентов, вносящих, как показал опыт, неизбежное расстройство и сумятицу в ход занятий. Курсы должны быть в будущем году освобождены от захлестнувшей их «школьной стихии»; для чисто учебных целей есть ряд гораздо более подходящих учебных заведений, «курсы же по изучению марксизма», во исполнение постановления 10 Съезда Р.К.П., должны иметь более или менее однородный состав вышколенных и развитых партийцев, которым они должны особо приспособленной для этого системой занятий дать помимо интереса и уменье приступить «к разборке программных и теоретических вопросов» так, чтобы партия могла из их среды получить отнюдь не профессоров, а марксистски квалифицированных практиков, политиков, теоретиков. Иначе курсы не выполнят возложенных на них партией задач, превратятся в обычную партийную школу высшего типа и потеряют всякий смысл самостоятельного существования. Такой печальный финал курсов нанес бы большой ущерб насущным интересам партии. И надо поэтому надеяться, что руководители курсов при ряде имеющихся благоприятных условий не дадут этому случиться.
Надо заострять революционное оружие
А. Френкель
Большинство членов Р.К.П. мало задумывались над вопросами философии марксизма. Однако, без внимательного изучения философии Маркса и Энгельса нельзя быть действительным коммунистом. Не изучивший сущности материалистической диалектики имеет всегда обыкновение и «некую страсть» «дополнять» марксизм собственной или позаимствованной философской отсебятиной. Яд реакционного идеализма, обывательщина мещанского эклектизма отравляют и путают неискушенных в области философии марксистов.
Примеров подобного рода пересмотров, путаницы, «исправлений» история революционного движения дает очень много.
Не мало таких попыток было и среди русских марксистов. Пожалуй наш марксизм в значительной мере перещеголял западноевропейский.
Но параллельно с этим в рядах нашего марксизма развивалась и окрепла философия Маркса.
Наша марксистская философия имеет такого большого представителя в России, как Г. В. Плеханов. Он на русской почве создал лучшую литературу по философии марксизма. По ней учились, действовали и действуют основоположники коммунистической партии, по ней должно учиться коммунизму и все молодое поколение.
Об этом прекрасно пишет В. И. Ленин: «...нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы не изучать — именно изучать все, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма»[51].
Следует мимоходом отметить, что, обращая эти слова «к молодым членам партии», тов. Ленин говорит им по поводу «ошибок» таких ветеранов партии, как Бухарин и Троцкий. Иногда, как видно, и старые, испытанные члены партии грешат в политике, «шалят» на почве «уклонов» в области философии. Этот разительный и исключительный пример с тем большей настойчивостью должен подтвердить каждому коммунисту о неотложной необходимости тщательного изучения марксовского материализма.
Подлинным коммунистом, способным к победоносным боям и удачным отступлениям, к революционному подполью и государственному строительству можно стать только овладев и хорошо владея «основой основ», диалектическим методом марксизма, усвоив и впитав его в кровь и плоть свою.
Как бы смело ни разило революционное оружие пролетарского энтузиазма и энергии, победоносным и непобедимым оно становится только тогда, когда заострится материалистическою «душою» марксизма, когда материализм, действительно, становится точкой зрения коммуниста и пролетария его философии.
Надо тщательно изучать философию марксизма, точить и заострять свое революционное оружие: впереди еще много трудной и сложной работы, тяжелой и длительной борьбы.
Библиография
А. Тимирязев. — А. Эйнштейн. О специальной и всеобщей теории относительности
А. Эйнштейн. О специальной и всеобщей теории относительности (общедоступное изложение) 12-е издание (51–55 тысяч) 91 стр. 1921 г. Издание Фивега. Ueber die Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie (Gemeinvelrstänadlich) von A. Einsteian Zwöltte Auflage (51–55 Tausend) Vieweg 1921 г. Имеются три перевода на русский язык., один издан в Берлине, другой в Петербурге[52] и третий на днях выпускается Госиздатом.
Теория относительности знаменитого физика Альберта Эйнштейна привлекает к себе внимание настолько широких кругов обитателей земного шара, что без всякого преувеличения можно сказать: никогда еще ни одна научная теорема не находила столь живого отклика среди людей, стоящих далеко от науки и мало обыкновенно интересующихся ее текущими задачами. Этой теорией интересуются люди самых противоположных взглядов — самых противоположных складов мысли. Одни считают ее самым блестящим проявлением новой, свежей научной мысли, проводимой убежденным революционером в науке, в последние годы после войны открыто ставшим на сторону борющегося рабочего класса. Другие приветствуют эту теорию также как великую революцию в науке и главное ее достоинство видят в том, что она наносит «смертельный удар»... материализму! Т. е. будто бы подрывает в корне основы величайшего из революционных учений, связанных с именами Маркса и Энгельса.
Последняя категория «друзей революции» в науке в настоящее время встречается в большом изобилии на всем земном шаре. Люди этого толка, ненавидя революцию в общественной жизни, восторгаются ею в науке потому, что революция в науке для них равносильна уничтожению науки и восстановлению авторитета религии и находящихся на ее службе различных течений идеалистической философии.
Разберем, насколько это возможно, в краткой заметке, на чем основывается эта бесплодная попытка повести атаку на самые основы материализма. Прежде всего, однако, в чем же состоит принцип Эйнштейна? В основе его теории находится следующее положение:
Законы всех явлений природы не зависят от состояния движения изучающего их наблюдателя. На первый взгляд в этом утверждении нет ничего удивительного и непонятного. Представьте себе, что Вы сидите в вагоне равномерно идущего поезда и Вы роняете из рук какой-нибудь предмет на пол вагона: он упадет совершенно также и попадет в то же самое место пола, как-будто бы поезд и не двигался. Вы можете перекидываться мячиком с сидящим против Вас вашим соседом; мяч будет перелетать в ту и другую сторону так, как-будто поезд был неподвижен. Мы часто даже не замечаем движения поезда, если он идет без толчков — равномерно. Вспомните, например, когда на станции перед окном вагона, в котором Вы сидите, стоит вагон другого встречного поезда. Вы слышите свисток, замечаете движение, но не можете сразу решить, который из двух поездов пошел? Таким образом участие наблюдателя в равномерном и прямолинейном движении не влияет сколько-нибудь заметным образом на характер явлений, которые он наблюдает и изучает.
Дело становится гораздо труднее, если мы попытаемся распространить положение Эйнштейна на более сложные явления, как например, на измерение скорости света. Пусть, например, на платформе, расположенной вдоль железнодорожного пути, измеряют скорость света. Луч вышел из A и через некоторый,
Платформа
A 100 метров B
|-----------------------------------------|
50 метров 50 метров
|——————||——————|
C Поезд D C~1~ Поезд D~1~
очень малый промежуток времени приходит в B, пройдя всю длину платформы в 100 метров. Чтобы найти скорость света надо знать, сколько времени потребовалось свету, чтобы пройти эти сто метров. Пусть теперь скорость света измеряют с поезда, который за время, в течение которого свет прошел из конца в конец платформы, передвинулся из CD в C~1~D~1~. Когда луч света выходил из A, против A было последнее окно последнего вагона поезда. Когда луч света будет у другого конца платформы, там будет находиться переднее окно первого вагона (считая от паровоза). Для наблюдателя в поезде свет прошел всю длину поезда, которая на нашем чертеже в два раза меньше длины платформы. Таким образом, рассчитывая скорость света для себя, он найдет ее в два раза меньшей, чем наблюдатель, стоящий на платформе. Для одного свет пройдет, считая вдоль поезда, 50 метров, для другого за то же время — 100 метров. Как же быть теперь с принципом Эйнштейна, требующим, чтобы скорость света как и всякое другое явление в природе не зависело от движения наблюдателя? Выход один: надо допустить, что все часы в поезде и вообще все, чем можно измерить время, идет медленнее, т. е. само время течет медленнее для того, кто движется. Этим мы спасаем принцип Эйнштейна: действительно, раз пройденный светом вдоль поезда путь меньше, но зато и промежуток времени, отмеренный медленно идущими часами также стал меньше, тогда скорость может получиться та же самая, как и для наблюдателя на платформе![53]. Более обстоятельный и строгий разбор этого явления показывает, что для оправдания основного положения Эйнштейна необходимо помимо допущения об изменившемся ходе времени допустить еще, что в зависимости от скорости движения все предметы сжимаются по направлению движения, так что движущийся поезд должен быть немного короче неподвижного, правда, это укорачивание равно, как и замедление хода времени, согласно теории должно быть ничтожно малым даже для самых быстро движущихся аэропланов; И самое главное мы никогда не в состоянии этого проверить, потому что в движущемся вагоне и аэроплане все часы изменят свой ход и все аршины и метры укоротятся. Таким образом, эта теория очень хорошо застрахована от опытной проверки! Рассмотренная нами сейчас часть теории Эйнштейна, называемая «специальной теорией относительности», занимает почти две трети книжки Эйнштейна. Эта часть книги читается легко. В 1916 году Эйнштейн опубликовал свою «Всеобщую теорию относительности», где им сделана попытка распространить основное положение его теории на любой вид движения, в том числе и вращательное. Для этого приходится сделать еще один шаг, приходится отказаться от основ нашей геометрии, которую мы изучаем в наших школах и которая ведет свое начало от великого греческого геометра Эвклида. Этой геометрией мы ежеминутно пользуемся в наших практических расчетах и постройках вплоть до самых сложных технических сооружений и до сих пор никогда не имели случая раскаиваться. Чтобы отстоять свое положение о неизменности законов природы от состояния движения, изучающего их наблюдателя, Эйнштейну приходится заменить знакомую нам геометрию Эвклида одним из тех воображаемых построений, какие были созданы позднейшими геометрами, в том числе и Н. Лобачевским, и которые имеют большой теоретический интерес. Эйнштейн этим воображаемым построениям придает реальный смысл и опять так же, как и в специальной теории, указывает, что отступления от эвклидовой геометрии должны быть ничтожно малы, но по его теории они должны быть!
Есть ли, однако, необходимость, вынуждающая нас безоговорочно согласиться с этими допущениями, с которыми здоровый рассудок не может, по крайней мере, сразу примириться?
На это мы можем решительно ответить: нет! Все выводы из теории Эйнштейна, согласующиеся с действительностью, могут быть получены и часто получаются гораздо более простым способом при помощи теорий, не заключающих в себе решительно ничего непонятного — ничего сколько-нибудь похожего на те требования, какие предъявляются теорией Эйнштейна.
В этом отношении надо отдать полную справедливость Эйнштейну, в своей книжке он определенно указывает, что все, что вытекает из его теории, может быть получено независимым от его теории путем; он видит в этом особое достоинство своей теории, дающей то же самое, что и все остальные, но зато обладающей философским единством, которое свойственно только ей одной.
Вторая часть книги, посвященная всеобщему принципу относительности, изложена хуже: многое приходится читателю принимать на веру.
На чем же строят свои нападки на материализм сторонники и последователи Эйнштейна? (Надо заметить, что сам Эйнштейн, хотя и высказывает иногда мысли, идущие в разрез с философией материализма, но никакого активного похода против основ материализма не ведет).
Прежде всего, если для каждого наблюдателя в зависимости от его движения время идет определенным ходом, отличающимся от хода времени для других наблюдателей, двигающихся иначе, и если в зависимости от движения изменяются размеры предметов, то значит объективно вне нас существующего пространства и времени нет! Но ведь изменившийся ход часов, который мы не можем проверить, мы должны были придумать для того, чтобы навязать природе основное положение Эйнштейна и чтобы не впасть в противоречие с фактами!
Далее для той же цели мы должны подобрать определенное искажение реальной геометрии и приписать ей реальное существование. Из этого делают вывод: любая геометрия эвклидова или неэвклидова есть чистый продукт разума, независящий от опыта. Все эти системы геометрии существовали в сознании и вот из них Эйнштейн подобрал такую, которая теоретически ближе всего подходит к действительности, и геометрия Эвклида ничем не отличается от остальных.
Но этот довод устраняется крайне просто: все воображаемые системы геометрии в отличие от эвклидовой возникли после нее, как попытки построить системы, отличные от того, что есть: они не могли бы и возникнуть, не будь раньше нам известна геометрия Эвклида, которая подтверждается буквально на каждом шагу в нашей практической деятельности, подобно тому, как всякая фантазия — всякая сказка не могла бы возникнуть, если бы мы не знали той были, той действительности, которой она противополагается.
Наконец из того, что для оправдания принципа Эйнштейна о независимости законов природы от движения наблюдателя, человек подбирает определенным образом ход часов и ту или другую воображаемую геометрию объявляет реальной и заменяет ею практически нам необходимую эвклидову, делается вывод, что не сознание складывается под влиянием воздействия независимо от нас существующего мира, а, что наоборот, сознание предписывает этой реальной действительности свои законы!
Ошибки здесь в том, что, приписав природе произвольное допущение Эйнштейна, мы потом должны подыскивать такие новые допущение, который не дали бы нам возможности разойтись с фактами. Забыв при этом, что мы это вынуждены делать потому, что мы сделали произвольно первый шаг. И вот об этом своеобразном процессе подлаживания под действительность: шаг назад и шаг вперед, громогласно объявляют: сознание диктует бытию свои законы!
Отчего же в здоровой науке, где, как указывает тов. Н. Ленин, ученый «стихийно» становится материалистом возникают такие нездоровые течения? Ответ может быть один: вопросы, связанные с теорией относительности, касаются таких областей, где мы при наших технических средствах еще не можем решить дело лабораторными опытами. А там, где ученый-естествоиспытатель лишается своей единственной верной опоры, ум его очень легко может свихнуться.
Необходимо, однако, оговориться: в теории Эйнштейна, помимо теории относительности, много весьма ценного. Его попытка обосновать теорию всемирного тяготения имеет громадный интерес, но она непосредственно не связана с принципом относительности.
Во всяком случае книжка Эйнштейна представляет лучшее изложение теории относительности; она называется общедоступной, но читать ее может лишь тот, кто усвоил основы алгебры и геометрии, хотя бы в том объеме, в каком эти отрасли знания преподаются на рабочих факультетах.
В. Р. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Собрание сочинений, том III
К. Маркс и Ф. Энгельс. Собрание сочинений, том III, Гос. Изд. 1921 г., стр. 520.
В. Р.
Судьба собрания сочинений Маркса и Энгельса весьма поучительна. Книгоиздательство «Коммунист» еще в 1918 году объявило об организации специальной редакции для издания сочинений Маркса и Энгельса, причем тогда же было опубликовано примерное содержание каждого тома, каковых предполагалось выпустить «до 28 томов по 25–30 листов большого формата». Программа была самая широкая. «В это юбилейное издание войдут как все работы, появившиеся до сих пор в Германии и Англии отдельными изданиями, так и работы рассеянные по разным периодическим изданиям».
Но вот прошло уже четыре года, а из этой программы выполнена самая незначительная часть: изданы два тома «Капитала» (собр. соч., т. IV и V) и вот перед нами лежит третий том собрания сочинений — собрание исторических работ.
Нет бумаги! а на ведомственную макулатуру бумага есть? Ведь, если бы хоть на одну четверть сократить издание продуктов «чиновничьего усердия», то мы бы имели возможность издавать ни одного Маркса, но и всех классиков социализма и коммунизма!
Вот и те тома, которые лежат перед нами. Как они изданы? Из рук вон плохо: бумага целлюлозная — полугазетная (в IV и V томах) и газетная (в третьем томе), брошюровка отвратительная, без всяких подшивок — как развернешь, так книга вся и расползает, печать местами совершенно слепая — словом, как нарочно, сделано так, что с самого начала вызывает в читателе негодование.
Государственному Издательству нужно энергично взяться за издание, столь необходимое нашей рабочей интеллигенции.
Кстати несколько слов о редакции: в числе имен сотрудников издания вы не встретите Д. Б. Рязанова; это очень жаль, такой прекрасный знаток Маркса и Энгельса, как Д. Б. Рязанов, мог бы дать очень многое такого, чего вряд ли смогут дать перечисленные в списке авторы: вследствие чрезмерной занятости одних и сравнительно малой компетентности других.
А теперь несколько слов о третьем томе.
Как мы уже отметили выше, внешность крайне неряшлива: одна желтоватая обложка из оберточной бумаги что стоит! Но кроме чисто-технических недостатков имеется и ряд весьма заметных внутренних дефектов, на которые мы вкратце и хотели бы указать. Этот том составлен из пяти следующих статей:
К. Маркс — «Борьба классов во Франции 1848 — 1850 гг.»
К. Маркс — «"Восемнадцатое", брошюра Луи Бонапарта».
Ф. Энгельс — «Революция и контр-революция в Германии».
К. Маркс — «Перед судом присяжных в Кельне».
К. Маркс — «Разоблачения о Кельнском процессе коммунистов».
С первого же взгляда бросается в глаза отсутствие почему-то «собрания исторических работ Маркса и Энгельса», «Гражданской войны во Франции». Хотя по проспекту 1918 года она должна была быть включена.
Отсутствуют совершенно примечания, не отмечены ни годы появления статей, ни обстоятельства, вызвавшие их: при иных статьях имеются предисловия авторов, где в общих чертах дается ряд сведений, статью Ф. Энгельса — «Революция и контр-революция в Германии» снабдил предисловием редактор — тов. И. Степанов. Но все это совсем недостаточно. Затем — совершенно отсутствует регистр-указатель, хотя бы какой-нибудь. В Западной Европе даже самая на наш взгляд обыкновенная книга снабжается указателями, а мы выпускаем К. Маркса и Энгельса без намека на указатель!
Это очень трудно составить — конечно трудно, что и говорить; но ведь нельзя же из-за кое-каких затруднений так безбожно портить и обесценивать книгу. В том виде, в каком эти статьи преподнесены читателю, в третьем томе значительно затрудняется пользование ими. Нужно всемерно ускорить выпуск собрания сочинений Маркса н Энгельса. Госиздату следует требовать от своих техников и спецов (которые и в наши дни не разучились хорошо надавать книги) внимательного отношения к этому изданию ведь вся рабочая интеллигенция ждет не дождется выхода остальных томов!
В. Р. — Письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову
Письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову. («Дела и дни» — исторический журнал, 1921, книга II, печ. Гос. Изд.).
В. Румий
Во втором номере исторического журнала «Дела и Дни» появились двадцать два письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову. Они так характерны для Плеханова, что невольно приковывают к себе внимание читателя.
Они все относятся к периоду 1880–1883, т. е. к тому весьма интересному периоду, когда группа «Черный передел» во главе с Г. В. проделывала эволюцию от народничества к марксизму.
Разумеется, эти письма недостаточны, чтобы на их основании иметь детальное исчерпывающее представление о жизни и идейном развитии Плеханова и его товарищей в эту эпоху. Однако в приведенных письмах масса весьма ценных указаний и материала.
Здесь Плеханов — непримиримый и непреклонный — когда дело касается теории — выступает перед нами в первом же из опубликованных писем.
К объявлению «Об издании Русской Социально-Революционной Библиотеки», написанном Плехановым, Пащенко прибавил несколько слов о малороссийской литературе. В этом прибавлении Пощенко одобрительно отзывался о брошюре Липского, «Про те, як наша землья стала не наша»; в этой брошюре автор ее развивает мнение, будто «украинские крестьяне чувствовали бы себя лучше если бы паны на Украине были не польские и не русские, а свои же украинские». Это украинофильское мнение вопиюще противоречит основным положениям социализма. «И поскольку оно противоречит социализму, постольку эта и ей подобные брошюры не могут называться научными. Там, где нет социализма — нет науки. Вот почему там, где есть хоть одна строка, написанная мною, не может быть похвалы гг. украинцам». Он настаивает, чтобы в случае несогласия парижских товарищей выбросить эту «похвалу» — предали бы сожжению им написанное «объявление». И три раза в одном письме протестует он против того, что выдают «похвальный лист» украинофилам «за то, что они морочат голову украинского мужика». Это, повторяем, крайне характерно для Плеханова.
Эта же суровая последовательность и настойчивость прорываются в этих письмах не раз: объясняя Лаврову причины нежелания принять на себя звание редактора «Вестника Народной Воли» он между другими выставляет ту, что между ним и С. Кравчинским серьезная разница в воззрениях: «Он что-то в роде прудониста, я — не понимаю Прудона; характеры наши тоже не совсем сходны: он человек, относящийся в высшей степени терпимо ко всем оттенкам социалистической мысли, я готов создать из «Капитала» Прокрустово ложе для всех сотрудников «Вестн. Народн. Воли». Уже теперь, в начале 1882 года, Плеханов — совершенно законченный тип революционного «характера» — ортодокса до «фанатизма» и непримиримого до конца — каким мы знали его до его смерти, по крайней мере в области теории.
Как работал этот непреклонный «фанатик»?
В наши дни жизнь развертывается с такой головокружительной быстротой и все кругом нас творится и рушится с такой стремительной силой, что почти безотчетно этот процесс переносится в область умственного и научного труда.
Писать сегодня статью? читать лекцию? да ведь это же дело двух минут!
Потому-то теперь трудно разыскать глубоких и содержательных статей, слышать хорошую речь.
Не так работал Плеханов. Он пишет статью после основательного изучения вопроса. «Такова моя несчастная привычка, к каждой статье готовиться, как-будто я собираюсь писать диссертацию». После первой статьи о Родбертусе ему Михайловский предложил написать вторую статью о нем же. Он собирает все его сочинения, которых много «хотя и не волюминозны». Для этого он пишет П. Лаврову, собирается ехать в Берн, при всей своей бедности решается приобрести их у берлинских книгопродавцев в случае, если их не найдет в Берне: «не знаю удастся ли — достать; а без остальных сочинений я писать о нем не стану». Он думает рыться в газетах того времени, что бы найти материал о его деятельности как министра в 1848–50 гг.
Он и на самом деле работал к своим статьям так, как не работает для своей диссертации иной доцент. «Целые дни сижу я за своей статьей» — не всякому пишущему «статьи» знакомо такое настойчивое трудолюбие.
До сих пор не имеется достаточно материалов для определения процесса возникновения и развития марксистских идей в России до момента опубликования брошюры Плеханова «Социализм и политическая борьба». Обычно момент организации «Гр. Осв. Тр.» (1883 г.) берется за начало. Но разве Плеханов уже не был марксистом, когда готовился сделать из «Капитала» Прокрустово ложе для сотрудников «Вести. Нар. Воли»? А это было в начале 1882 года.
Письма эти крайне ценны, хотя и недостаточны. Они лишь чуть-чуть углубляют наш взор, не давая по этому вопросу исчерпывающих материалов. Очень интересно письмо под номером 15 (лето 1883 г.), где Плеханов подвергает критике «объявление об издании журнала «Вести. Нар. Воли». Тут впервые он формулирует идею «народного государства с прямым народным законодательством», идею, впоследствии (1884 г.) повторенную в «Проекте программы Гр. Осв. Тр.».
Яснее всего в этих письмах выступает его крайне стесненное, невероятное бедное материальное положение. Как ни был сдержан Плеханов, как он ни пренебрегал нуждой и не трудился, все же без помощи друзей, особенно Лаврова, обходиться не мог. Получив за статью 500 руб., «я должен уплатить свои долги, которых на мне больше, чем на русском государственном казначействе. Уплачивая же долги, я должен иметь в виду степень потребности в деньгах со стороны моих кредиторов, так как всех зараз уплатить мне невозможно».
В другом письме от 6 февраля 1882 года он пишет Лаврову:
«Извините, что пишу на carte postale[54] — не имею покупательной силы в данную минуту» (курсив мой. — В. Р.).
Покупательной силы на одно закрытое письмо!
П. Л. Лавров в это время много помогал Плеханову: ссуживал деньги, снабжал его материалами для работ, давал литературные работы и рекомендации. «Благодаря Вашей поддержке, я, быть может, получу возможность работать и развиваться, не имея в перспективе голодной смерти или задолжения без надежды уплаты, пишет он, «Вы (Лавров), Маркс и Чернышевский были любимейшими моими авторами, воспитывавшими и развивавшими мой ум во всех отношениях» — тут несомненно следует быть весьма осторожным, ибо, громадной степени это утверждение — плод большой вежливости Плеханова. То что Чернышевский был любимейшим писателем его и оказал большое влияние на развитие его — несомненно. Но на счет П. Лаврова — это можно принять весьма условно. Нам кажется, Плеханов был гораздо искренней впоследствии, когда оценивал ларвизм как «эклектизм на идеалистической подкладке» и находил, что «те из наших революционеров, которые основательно прошли эту школу и сроднились с употреблявшимся в ней методом мышления навсегда лишились способности понять учение Маркса». (Пред. к Туну — Изд. Пер. Сов. 1918 г., стр. 29).
Из этого беглого обзора читатель видит как много содержат в себе эти письма.
Нам кажется следовало бы поспешить с опубликованием писем Плеханова всем, у кого они имеются — они прольют на многие вопросы истории марксизма и нашей партии яркий свет и воссоздадут прекрасный образ непримиримого Г. В. Плеханова.
Еще несколько замечаний о датах писем. Некоторые из них без дат и Л. Дейч восстанавливая их по компетентному указанию Д. Б. Рязанова сделал ряд ошибок. В «Собрании сочинений», куда они войдут, даты нужно установить более точные.
В. Ш. — Гибриель Девиль. «Научный Социализм»
Гибриель Девиль. «Научный Социализм». Перевод Мещерякова. Москва. 1919 г.
Б. Ш.
Новое издание очерка Девиля, написанного еще в 1883 году, может вызвать некоторые недоумения. Однако мысли Девиля за 40 лет не потеряли своего интереса. Девиль говорит, что работа была предпринята «по любезному приглашению и при дружеском одобрении К. Маркса». И действительно очерк проникнут насквозь революционным духом Маркса.
Тактика рабочего класса в борьбе с капиталистическим обществом, первые шаги его в новом, неизбежно приближающемся, уже недалеком, обществе вот что занимает Девиля. В отвлеченных теоретических вопросах заметно сказывается его основной недостаток — некоторая «инертность» диалектики. «Мысль есть только интеллектуальное отражение реального движения вещей». «Весь ход человеческого прогресса был результатом применения насилия». Так схематизирует недостаточно гибкая мысль Девиля диалектику жизни. Он недооценивает значение государственного капитализма, который для него, «не является результатом естественного хода вещей». Поэтому же терпит он неудачу в попытке применить законы Дарвина к человеческому обществу.
Насилие, революция, разрушение буржуазного государства, диктатура — здесь полная четкость и уверенность у Девиля. Партия, хотя бы и меньшинство, — вождь класса на этом пути.
Самая жестокая, беспощадная критика парламентаризма, реформизма, буржуазных свобод. Блестяще скрывает он реакционность лозунга буржуазной свободы личности для пролетария.
С прозорливостью пишет он о первых победных шагах рабочего класса: «Мы стремимся не к установлению одним ударом общественного строя, план которого изобразили, а к замене капиталистического строя таким, элементы которого развиваются с каждым днем в недрах существующего. Но этот переворот обусловливается предварительным захватом политической власти». Крестьянство «рабочая партия может привлечь к коммунистическому строю только терпеливо выжидая, чтобы ход вещей совершил эту неизбежную экспроприацию». «Следовательно по отношению к крестьянству будут прибегать не к насилию, а к убеждению». Везде, написанное за десяток лет до Эрфутской программы, звучит борьбой современности. Дух революционного марксизма, проникающий книгу, дает не только правильную схему марксовского социализма, но и возможность более вдумчивому читателю сравнять свой опыт с предвидениями молодой марксистской мысли.
Б. Пинсон. — Франц Меринг. Исторический материализм
Франц Меринг. Исторический материализм. Издательство ВЦИК Советов Москва, 1918 г.
Б. Пинсон
Брошюра Ф. Меринга «Исторический материализм» представляет собой крайне удачную попытку в кратком, сжатом, хотя и не совсем популярном виде, передать сущность материалистического понимания истории, как философской системы, в основу которой положен диалектический метод Маркса и Энгельса.
В самом начале вскрывается классово-враждебное отношение буржуазии, ее идеологов и казенных ученых к историческому материализму, и вместе с тем справедливо отмечается, что до последнего времени, несмотря на все потуги, буржуазная критика не сумела с достаточной серьезностью подойти к этой сравнительно молодой философской школе.
Сам исторический материализм является продуктом исторического развития; только на известном этапе капиталистического развития можно было найти и точно установить «двигательные причины истории».
Этим этапом, как указывает Фридрих Энгельс, явился период развития промышленного капитализма, когда на политической арене рядом с конкурирующими между собой и борющимися за политическое влияние двумя классами — крупными землевладельцами и буржуазией — явился новый класс или третья сила, вызванная к жизни самим капитализмом — пролетариат.
Он обрушивается на дуализм, идеализм, на реакционную и невежественную попытку отделить дух от материи, на лицемерие буржуазных ученых, пытающихся извращением выводов науки доказать первородство и самостоятельность духа, чем, понятно, сохранить опору капиталистического общества — религию и церковь.
Меринг самым решительным образом отвергает какое бы то ни было целеставление в природе; в истории же человеческого общества напротив «действующие лица — это люди, одаренные сознанием, действующие под влиянием рассудка, или страсти и стремящиеся к определенным целям».
Так шаг за шагом сначала в полемике с одной группой «ученых», пытающихся извратить исторический материализм, затем в споре с идеологом феодализма Левернь-Погильеном, с одной стороны, и представителем буржуазной мысли Пауль Бартом, с другой, Меринг вскрывает всю беспочвенность нападок на материалистическое понимание истории, давая читателю ясное и почти исчерпывающее понятие об основных принципах философии материализма.
Резюмируя, Меринг доказывает, что исторический идеализм с его различными теологическими, рационалистическими, а также натуралистическими разветвлениями составляет историческую философию буржуазного класса, а исторический материализм — рабочего класса.
Меринг справедливо видит возможность расцвета, исторического материализма и тем самым превращение истории в строго выдержанную науку при торжестве пролетариата.
Мы горячо рекомендуем эту работу Меринга пролетариям и особенно пролетарской молодежи, столь много в последнее время задумывающейся над сложнейшими философскими проблемами и высказываем желание, чтобы эта книга была соответствующими органами размножена и, разумеется, технически лучше издана.
С. Гиммельфабер. — Б. И. Горев. «Материализм — философия пролетариата»
Б. И. Горев. «Материализм — философия пролетариата». Москва. Государственное Издательство. 1920 г., стр. 70.
С. Гиммельфабер (Семен)
Т. Горев в этой брошюре старается доказать, что «материализм — философия пролетариата», он ставит себе задачу писать для пролетариев и на понятном дли них языке для того, «чтобы сделать для них доступными те понятия, которые до сих пор казались достоянием лишь «избранных».
Сначала идет изложение предмета философии. Затем последовательно, в общих чертах, рассматривается генезис идеализма и философского материализма в древнее и новое время. Наиболее ярким местом в брошюре, имеющей пропагандистскую задачу, является «краткий и беглый обзор всех естественных наук (физики, химии, астрономии и геологии, общей биологии, а также физиологии и психологии), из которого явствует, что ,с точки зрения современной науки, вся природа материальна и едина, и в ней действуют повсюду одни и те же неизменные законы; что никакого особаго "духа", независимого от материи, и никакой "души", имеющей от тела отдельное существование, нет и быть не может; что никакого "бога" для объяснения всех "чудес" мира не требуется; и что наконец, действия простых законов вещества (главным образом закона сохранении энергии и закона выживания или сохранения наиболее приспособленных форм) вполне достаточно, чтобы объяснить развитие, эволюцию материи в течение бесконечного пространства веков, от ее простейшего, первичного состояния в туманных небесных массах до всего разнообразия вселенной, до бесчисленных миров с их солнцами и планетами и до человека с его разумом и самой наукой».
В самых общих чертах, вполне популярно, т. Горев разбирает, что такое материалистическое понимание истории, религии и нравственности.
Как мы уже указали, брошюра имеет чисто пропагандистскую задачу. Но местами он очень труден для начинающего читать серьезные книжки рабочего.
К числу больших достоинств брошюры относится то, что, не в пример многим популярным брошюрам, которые имеются у нас на книжном рынке, эта не смешивает два понятия: диалектический материализм (марксистскую философию) с историческим материализмом (марксистской социологией).
Брошюра написана понятным, для неискушенного читателя, языком, но не может претендовать на то, чтобы дать исчерпывающие и точные знания по данному вопросу. Она хороша тем, что показывает, что «великое учение Маркса и Энгельса, теория научного социализма, под знаменем которого вот уже 70 лет революционный пролетариат всего мира ведет борьбу за освобождение человечества от всякого рабства и угнетения, — это учение является глубоким и сложным», что необходимо каждому пролетарию начать изучать основательно марксизм.
Эту брошюру мы советуем всем, кто еще ничего или очень мало читал по диалектическому или историческому материализму, и которая, таким образом, будет служить как бы введением.
Остается указать на один недостаток, который не относится к автору, но к Госиздату. Печать настолько бледная, что на протяжении всей книжки попадаются до 5-ти страниц почти совершенно чистых. С этим недостатком необходимо начать самую серьезную борьбу, так как он отталкивает мало читавшего рабочего от дальнейшего чтения вообще и от госиздатских книг в частности.
В. Р. — А. Лабриола. «Исторический материализм и философия»
А. Лабриола. «Исторический материализм и философия». — «Библиотека Коммуниста», Госуд. Изд., московское отделение. М. 1922 г., стр. 52.
В. Р.
Сама по себе мысль дать слушателям районных школ и кружков необходимые руководства — прекрасная мысль, ее давно и настойчиво выдвигала жизнь, но одно дело — требования жизни, и совершенно иное — выполнение их Московским комитетом.
Московский комитет намеревается дать целую серию книжек, необходимых коммунисту; но всякая серия хороша лишь тогда, когда она подобрана по определенному плану, а по первым изданиям «Библиотеки» ни в коем случае нельзя предполагать существования такого плана. По «экономическому материализму» изданы Энгельса »Развитие социализма» и А. Лабриола «Исторический материализм и философия», а по экономике Каутского «Изложение учения К. Маркса» (экономическое учение К. Маркса), его же «Эрфуртская программа», П. Лафарг — «Капитал и труд», Энгельс — «Жилищный вопрос» и т. д. Я привел этот перечень чтобы читатель убедился в отсутствии плана. На самом деле, почему это ни с того, ни с сего учащемуся рабочему или члену партии в первую голову нужно поднести А. Лабриола, да еще в таком непрезентабельном виде? Во-первых, письма Лабриола к Сорелло совсем не популярны и требуют значительных комментариев; во-вторых, нужно было снабдить хотя бы маленьким предисловием и рассказать неискушенному читателю, кто есть Антонио Лабриола, ибо имеется еще и Артуро Лабриола — анархо-синдикалист, о котором член нашей партии может найти значительную литературу, не тепло отзывающуюся о нем, хотя бы у Плеханова; нужно было тщательно отредактировать перевод, чтобы не подносить рабочим брошюру со словами и выражениями на всех языках мира: «Omnis determinatio est negatio[55]» (выразился бы Спиноза)[56]; быть может Спиноза и выразился бы так, но от этого рабочим ни легче, когда они латынь не понимают, или еще на той же странице: «Метафизика sensudeteriori имеет некоторое сходство с мифологией» и т. д. Таких мест масса, корректура очень невнимательная, — словом, для рабочего читателя представляется крайне затруднительным преодоление брошюры.
Вероятно можно было бы найти не мало подходящих и первоочередных брошюр, в которых нужда огромная, но с «Эрфуртской программой», особенно если издание аналогичное, право же можно было подождать, как и с «Жилищным вопросом».
Теперь простое переиздание подцензурных переводов совершенно бесцельное занятие, но это сугубо ненужно, если эти переиздания предназначены рабочим.
Все старые брошюры, особенно классические, нужно переиздавать, но предварительно просмотрев и тщательно проредактировав, снабдив их предисловиями и соответствующими пояснениями.
А самое главное — нужно выработать строго продуманный план издания.
Внешность изданий М. К. оставляет приятное впечатление, при заботливой редакционной работе «Библиотека» может стать весьма полезной для членов партии и слушателей совпартшкол.
М. Павлович. — А. Е. Снесарев. Афганистан
А. Е. Снесарев. Афганистан. Гос. Изд. 1921, стр. 244.
Мих. Павлович
Автор книги не только изучил всю иностранную и русскую литературу по трактуемому им вопросу, но, что особенно важно, сам был в Афганистане прожил семь месяцев в Индии, проходил по разным углам Северного Индостана, был в глухих углах Восточной Бухары, жил в Палестине два года, был в Кашгарии и т. д. Можно сказать без преувеличения, что труд А. Е. Снесарева по своему содержанию и ценности сообщаемых им сведений представляет собой значительный вклад не только в нашу бедную русскую, но и в более богатую международную литературу об Афганистане.
Однако ценная работа проф. А. Е. Снесарева возбуждает в нас некоторые тревожные мысли. Автор рассматривает Ближний Восток как совокупность стран, заключающих в себе пути, ведущие на Индию, как территории подступа к Индии. Автор откровенно заявляет, что весь свой курс (ибо книга А. Е. Снесарева является стенографической записью его лекций, читанных на восточном отделении Академии генер. штаба) он строит на предположительном наступлении на Индию, как основной идее. Автор оговаривается, что он слывет в Индии за человека, который проповедует наступление на Индию во что бы то ни стало, и потому он считает своей обязанностью быть совершенно ясным. Автор ставит точки над i, и рассматривает весь Средний Восток под углом возможности осуществления огромной операции, направленной на Индию. На основании этого он и изучает страны Среднего Востока в перспективе возможности, хотя бы очень далекой, больших военных операций на Индию.
Исходя из этого предположения, он останавливается на Индии, как на конечном объекте этих операций, на прилегающих к ней странах, как на районах подступов к Индии и, наконец, на Туркестане, как на базе для выполнения операции. Автор уверяет своих слушателей, будто при таком приеме изложение получает известную связность и последовательность: устанавливается определенная система изложения и сложная тема значительно упрощается. При построении курса, — поясняет А. Е. Снесарев, — так или иначе нужно держаться какого-нибудь плана, иначе изложить столь сложную тему не представляется возможным, без основного стержня обойтись нельзя; этот основной стержень лекций — идея о вероятности войны с Индией. Эти рассуждения страдают явной натянутостью. Изложение А. Е. Снесарева нисколько не потеряло бы своей связности и последовательности, если бы автор ни одним словом не обмолвился о предположительном наступлении на Индию, и эта основная его идея — «центральный стержень» — попросту притянута за волосы в роли необходимого де элемента для научного изложения вопроса. Мы не говорим уже о том, насколько целесообразно в данный момент, когда мы стремимся к установлению самых мирных отношений с Англией, размахивать бумажным мечом «предположительного наступления на Индию», и давать козырь в руки английским джингоистам для кампании против сближения с Советской Россией. Конечно, Р.С.Ф.С.Р. ничего не потеряет от того, что проф. А. Е. Снесарева будут продолжать считать в Англии человеком, который и при Советской власти проповедует наступление на Индию во что бы то ни стало, но Советская республика много потеряет, если в Англии придут к заключению, будто взгляды А. Е. Снесарева имеют многих сторонников у нас.
Вообще, недостаток крайне ценного труда А. Е. Снесарева заключается в том, что он не внес никаких поправок в свой курс лекций. Совсем не так трудно было бы устранить все недочеты, неизбежно связанные с изложением вопроса в форме лекций, и ссылка на недостаток времени не убедительна.
Лекции читались осенью 1919 г. и весной 1920 г., а предисловие написано в конце ноября 1921 г. Очевидно, за полтора года можно было бы найти десять часов свободного времени, чтобы выбросить всю лирику, все повторения и устранить сомнительные, в роде цитированного выше, места, не имеющие отношения к научному изложению вопроса.
Лекции читались осенью 1919 г. и весной 1920 г., а предисловие написано в конце ноября 1921 г. Очевидно, за полтора года можно было бы найти десять часов свободного времени, чтобы выбросить всю лирику, все повторения и устранить сомнительные, в роде цитированного выше, места, не имеющие отношения в научному изложению вопроса.
Несмотря на эти недостатки, работа А. Е. Снесарева является ценным подарком для всех лиц, интересующихся зарубежным Востоком. Мы ждем с нетерпением появления следующих обещанных работ о Памире, Кашгарии, о Тибете, о Восточной Персии и об Индии, в полной уверенности, что они будут изданы в форме тщательно проредактированных самим автором трудов.
Нельзя не одобрить плана, какого держится автор в своем изложении. Приступая к описанию Афганистана, он указывает сначала на источники по изучению этой страны, выбирая из литературы самое существенное краткое, характеризует эти источники, а затем уже переходит к описанию страны, ее географического положения, ее поверхности (гор, долин, плоскогорий, рек, климата, этнографического устройства, хозяйства страны, организации ее вооруженных сил, стратегических пунктов Афганистана, путей сообщения и т. д.). Последнюю главу А. Е. Снесарев посвящает характеристике политического значения Афганистана, ее роли в англо-русских отношениях.
Будем надеяться, что и в своих последующих работах автор выдержит этот план, и освободив свои последующие труды от недочетов, которыми страдает разбираемая нами книга, обогатит нашу бедную литературу о Востоке капитальным вкладом.
Osvald Spengler. Der Untergang des Abenqlanles, B. I. Preussentum изд. Sozialismus. ↩︎
Данилевский в свою очередь заимствовал свою теорию у немецкого историка Гейнриха Риккерта (см. его соч. «Lehrbuch der Weltgeschichte in organisher Darstellung», Leipzig, 1857. ↩︎
Н. Я. Данилевский. Россия и Европа, 3-е издан. 1888 г., стр. 82. ↩︎
Там же, стр. 85 ↩︎
Курсив наш. ↩︎
И. Я. Даиилевский. Россия и Европа, стр. 88. ↩︎
Данилевский. Россия и Европа, стр. 120–121. ↩︎
Данилевский. Россия и Европа, стр. 114–115. ↩︎
Данилевский. Россия и Европа, стр. 91. ↩︎
Данилевский. Россия и Европа, стр. 120. ↩︎
Данилевский, стр. 113. ↩︎
Данилевский, стр. 113. ↩︎
Данилевский, стр. 169–170. ↩︎
Данилевский, стр. 170. ↩︎
Данилевский, стр. 144–145. ↩︎
См. стр. 72. ↩︎
Статья появляется на русском языке впервые. Была помещена в журнале «Le De venir Sozial» за ноябрь 1895 г. №8 ↩︎
Шатобриан. Исторические очерки. Предисловие. ↩︎
См. между тысячами других примеров, «Наблюдения» Мабли над историей греков и римлян, а также труды Гельвеция и Гольбаха. «Религия Авраама была по-видимому первоначально теизмом измышленным для того, чтобы преобразовать халдейские суеверия. А теизм Авраама был извращен Моисеем, который этим воспользовался для создания иудейских суеверий». «Systeme de la Nature», Лондон, вторая часть, стр. 186. «Чтобы реформа в Спарте не оказалась лишь временной, он (Ликург) проник так сказать до дна в сердце граждан, и задушил в нем зародыш любви к богатству». (Полное собрание соч. Мабпи, Лондон, 1789, 4-й том, стр. 20). ↩︎
— по преимуществу, главным образом, в яркой форме. — Р. Ф. ↩︎
Гизо. Опыт истории Франции. 10-е изд. Париж. 1860 г. стр. 73 (четвертый очерк), 4-е изд. очерков вышло в 1823 г. ↩︎
О феодальном строе, об учреждениях Людов. Св. и т. д., Периж, 1822 г., стр. 83. ↩︎
Об освобождении коммун. Это исследование, — первый набросок работы по истории третьего сословия был сделан в Courrier Francais 13 октября 1820 года. ↩︎
Первая записка об истории Франции напечатана в Courrier Francais 13 июля 1820 года. ↩︎
Ibidem. ↩︎
Гизо. Правительство Франции со времен Реставрации и нынешнее министерство. Париж, 1820 г. стр. 2–3. ↩︎
Ibidem, стр. 108. ↩︎
В приложении к двум первым изданиям цитируемой работы (предисловие третьего издания), стр. 15. ↩︎
Ibid., стр. 8. ↩︎
В «Censeur Européen» 2-го апреля 1820 г. ↩︎
«Du Gouverment de France» Etc., стр. 108. ↩︎
«Размышления над историей Франции», предшествующие «Рассказам из времен Меровингов», Париж, 1840 г., стр. 143. ↩︎
«Социальный мир» сделался также желанием Гизо. Если, после 1848 года он высказывается против Республики, то это объясняется только тем, что Республика не могла обеспечить этот пресловутый мир. «Само собой очевидно, что демократическая республика, начиная со своих первых действий, близка к тому, чтобы погрузить себя и ввергнуть нас в социальный хаос», говорил он в январе 1849 года. ↩︎
Le producteur, I кн., Париж, 1825 г. Considerations sur la baisse progressive du loyer des objets mobiliers et immobiliers, стр. 242–243. ↩︎
«Повышение стоимости труда невозможно без соответствующего падения прибыли». Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения, 1955 // Рикардо Д. Сочинения, т. I, с. 52. — Р. Ф. ↩︎
«Рикардо, — наивно замечает Анфантэн, — всегда подразумевает под прибылью — ренту капиталиста (Анфантэн хочет сказать: ссужающего капитал. — Г. П.) и говорит, что повышение цены труда уменьшает доход человека, который не работает». Ibid., стр. 545. ↩︎
«Одни благодаря своему уму, хорошему поведению создают себе капитал и вступают на путь благоденствия и прогресса. Другие, ограниченные, или ленивые, или развращенные, остаются в стеснительных и трудных условиях существования, основанного единственно на заработной плате». Гизо «О демократии во Франции», стр. 76. ↩︎
Le Globe, №183. ↩︎
«Десять лет исторических изысканий», том VI Полного собрания сочинений Огюстэна Тьерри. Предисловие. ↩︎
Очерки революции etc. Полн. собр. сочин. Огюст. Тьерри, том VI, стр. 66. ↩︎
Ibid. ↩︎
Гизо. История революции в Англии. В предисловии автор с большей проницательностью объявляет поверхностным и легковесным мнение, согласно которому революция в Англии была скорее политической, в то время как французская стремилась преобразовать и правительство и общество. «Направление ее, — говорит он, — было такое же, как и ее происхождение». Английская революция берет начало из изменений, происшедших в «социальном положении и нравах английского народа». Стр. 11–12 I-го тома (издание 1841 г.) и речь об истории революции в Англии. Берлин, 1850. ↩︎
«Сражайтесь храбро, — воскликнул он, обращаясь к своим друзьям, — убивайте всех, ибо если мы победим, мы все разбогатеем; что приобрету я, приобретете и вы; если я возьму землю, — вы будете ее иметь». (История завоевания Англии норманами. Париж, 1838, том I-й, стр. 352). С другой стороны, те, на кого нападали, говорили между собой: «мы должны сражаться, какова бы ни была для нас опасность, ибо дело не в том, что мы получим нового господина, а вовсе в ином. Герцог норманский отдал наши земли своим баронам, своим рыцарям, всем этим людям — и большая часть дала уже ему клятву; они все захотят иметь свою долю; герцог станет нашим королем, и сам будет склонен отдать им наше имущество», и т. д. Ibid., стр. 347. ↩︎
Странным Огюстэн Тьерри называет институт рода и старых британских племен. По Гизо — «всегда и везде были и будут существовать рантьеры предприниматели и наемные рабочие. Эти различия вовсе не случайные или специфические явления, присущие той или иной стране; это явления всеобщие, которые естественно воспроизводятся во всяком человеческом обществе. И чем ближе присматриваешься, тем более убеждаешься в том, что эти явления с одной стороны находятся в тесной связи и в глубокой гармонии с природой человека, которую нам дано познать, а с другой — с тайнами ее судьбы, которую дано нам только предвидеть» (О демократии во Франции, стр. 77 и 78). Не был ли прав Маркс, говоря, что буржуазные экономисты, как впрочем, и все теоретики этого класса, знают только два вида учреждений: искусственных, либо естественных, и что они в этом сходны с теологами, которые устанавливают так же два вида религий: всякая не их религия, — изобретение людей, в то время как их собственная исходит от Бога? (Нищета философии, стр. 113). ↩︎
Единственный важный пункт, на котором обычно сходятся современные историки всех наций — есть не что иное, как заблуждение. Они все прозвали века, которые протекли с IX до XII столетия — веками варварства, а на самом деле это были как раз те века, во время которых установились все те детальные учреждения, которые дали европейскому обществу решающее политическое превосходство над всеми обществами, ему предшестововавшими. «Memoire sur la gravitation universelle», в «Oeuvres de Saint-Simon et Enfentin». «Средневековье это поха, когда война была и должна была быть рассматриваема как первое средство процветания наций» «и где поместная собственность... была по происхождению природы своей чисто военной». «Organisateur», собр. соч. т. XX, стр. 81 и 83. ↩︎
Фигура речи. * — Р. Ф.* ↩︎
Минье. De la Feodalité, стр. 35 и особенно Гизо «Essais sur l'historie de France»: «изучение состояния земель должно, значит, предшествовать изучению состояния личностей, чтобы понять политические учреждения, нужно быть знакомым с различными социальными условиями и их взаимоотношениями. Чтобы понять эти различные социальные условия, нужно знать природу и отношения собственности» (стр. 75, 76, I-е изд.). Сравните с Сен-Симоном: «Закон, который образует собственность — самый важный из законов. Это тот закон, который служит основой социального строя». ↩︎
Издана в г. Чите 1921 г. ↩︎
«Опыт Туркестана» — Гос. изд. М. 1921 г. стр. 148. ↩︎
См. статью Султан-Заде «К вопросу об индустриализации Индии». ↩︎
Н. Ленин. Еще раз о профсоюзах, текущем моменте и об ошибках т. Троцкого и т. Бухарина. стр. 22. ↩︎
Перевод с V нем. изд. С. Вавилова, п. ред. А. Афанасьева, издание «Научное книгоиздательство», ПБ, 1921 г. ↩︎
В действительности осуществить измерение скорости света в той форме, как это у нас описано, невозможно. Это опыт воображаемый, он приведен только для того, чтобы выяснить более наглядно ход мыслей Эйнштейна. В теории относительности так поступают на каждом шагу. Вся книжка Эйнштейна переполнена описаниями воображаемых опытов подобных изложенному. ↩︎
Почтовая карточка, или посткарта — вид почтового отправления с письменным сообщением, не запечатанное в конверт, а выполненное на специальном стандартном бланке из плотной бумаги или картона. Тариф на пересылку почтовой карточки меньше, чем простого письма. — Р. Ф. ↩︎
«Всякое определение есть отрицание». — Р. Ф. ↩︎
Стр. 27. ↩︎