Исторический материализм
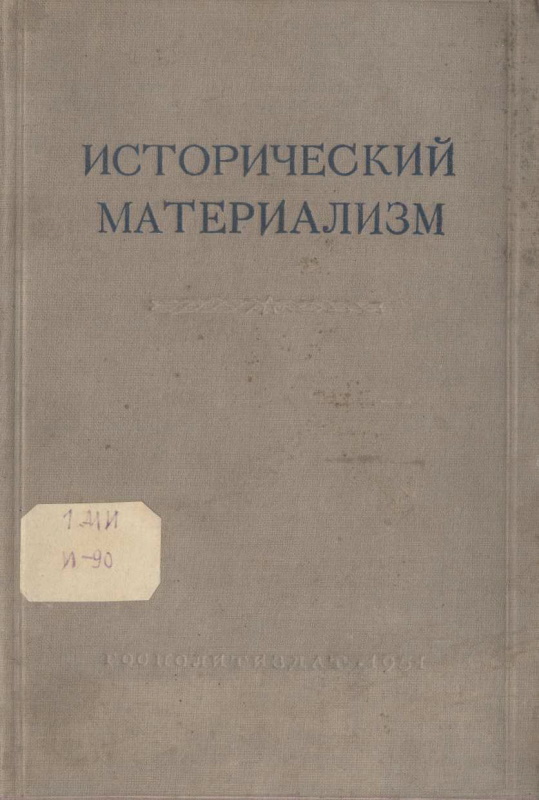
Предисловие
Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведений, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.
Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма. Авторский коллектив под руководством проф. Ф. В. Константинова работал над подготовкой этой книги в течение ряда лет. Главы книги в течение 1947 — 1949 гг. неоднократно обсуждались на секторе исторического материализма Института философии Академии наук с участием преподавателей основ марксизма-ленинизма и философии. Книга в целом подверглась обсуждению в Институте философии Академии наук СССР с участием философской общественности Москвы.
При написании книги авторы руководствовались гениальной работой И. В. Сталина «О диалектическом и историческом материализме», обобщающей историю столетней борьбы марксизма-ленинизма с его врагами и исторический опыт нашей эпохи; теоретические труды В. И. Ленина и И. В. Сталина представляют собой высший этап в развитии диалектического и исторического материализма.
Великая Октябрьская социалистическая революция и победа социализма в СССР явились проверкой истинности исторического материализма и его величайшим триумфом.
В наше время нельзя освещать общие социологические законы, относящиеся ко всем фазам общественного развития, не показывая того, как эти законы проявляются в условиях нового, социалистического общества. Поэтому значительная часть книги отведена освещению закономерностей развития советского социалистического общества.
Вполне сознавая, что книга еще не достигла необходимой для учебника краткости, сжатости изложения, чеканности формулировок, авторы все же стремились приблизить изложение книги к типу учебного пособия. Авторы и Институт философии ждут от читателей деловой, большевистской критики и предложений, которые помогли бы улучшить книгу.
Главы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 и 17 написаны профессором Ф. В. Константиновым; 6, 9, 10, 18 и часть главы 16 — доктором философских наук Г. Е. Глезерманом; глава 8 — профессором Г. М. Гак; глава 11 — доктором философских наук М. Д. Каммари; глава 12 — кандидатом философских наук Ф. Д. Хрустовым; глава 16 — членом-корреспондентом Академии наук СССР П. Ф. Юдиным. В подготовке книги к печати, в ее редактировании принимал участие Г. Е. Глезерман. Значительную помощь при подготовке рукописи к печати оказал П. А. Павелкин.
12/VII — 1950 г.
Москва.
АВТОРЫ
Глава первая. Исторический материализм как наука
1. Предмет исторического материализма
Каждая наука имеет свой особый предмет исследования. Так, например, политическая экономия изучает законы развития общественно-производственных, т. е. экономических, отношений людей. Эстетика как наука изучает закономерности развития искусства. Языкознание изучает законы возникновения и развития языка и т. д.
Каков же предмет, изучаемый историческим материализмом? Отвечая на этот вопрос, И. В. Сталин пишет:
«Исторический материализм есть распространение положений диалектического материализма на изучение общественной жизни, применение положений диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению истории общества» [1].
Исторический материализм является наукой о наиболее общих законах развития общества. Названные выше общественные науки (политическая экономия, эстетика, языкознание) изучают развитие тех или иных отдельных сторон общественной жизни, определенных видов общественных отношений. Исторический материализм в отличие от этих наук изучает законы развития общества в целом, во взаимодействии всех его сторон. Он дает ответ на вопрос о том, что определяет характер общественного строя, чем обусловливается развитие общества, от чего зависит переход от одного общественного строя к другому, например переход от капитализма к социализму. В отличие от гражданской истории, которая призвана отобразить во всей конкретности ход событий, совершавшихся в общественной жизни отдельных стран и народов, исторический материализм имеет своей задачей исследование общих законов исторического процесса.
Исторический материализм дает единственно верный, научный ответ на самые коренные, самые важные вопросы общественной науки, без выяснения которых нет возможности правильно объяснить развитие общественной жизни в целом и развитие любой из ее отдельных сторон.
В общественной жизни мы наблюдаем отношения экономические, политические, идеологические. Существует ли определенная связь между этими отношениями и каков характер этой связи? — вот один из вопросов, на который призвана дать ответ наука об обществе.
Есть ли в пестрой, многообразной, сложной и противоречивой смене исторических событий, во всем ходе развития общества внутренне необходимая связь, закономерность или же здесь, в общественной жизни, в отличие от природы царствуют случайность, хаос и произвол?
Человечество прошло длительный и сложный путь исторического развития: от первобытно-общинного строя, через рабство, феодализм и капитализм, к социализму, уже победившему на одной шестой части земного шара. Каковы движущие силы этого поступательного развития?
На все эти вопросы впервые дал научный ответ исторический материализм — наука, указавшая путь к сознанию истории как единого, закономерного процесса, взятого во всей его многосторонности и противоречивости. Исторический материализм представляет собой цельную и стройную научную теорию, объясняющую развитие общества, переход от одного общественного строя к другому. Вместе с тем он является единственно правильным, научным методом изучения каждой из отдельных сторон общественной жизни, методом исследования конкретных исторических явлений и в целом — истории стран и народов.
Исторический материализм служит научным методом для всех отраслей общественного знания. Экономист, правовед, искусствовед, историк, если они не опираются на теорию и метод исторического материализма, будут блуждать среди бесчисленных явлений общественной жизни, исторических событий, не умея за случайностями увидеть историческую закономерность, за частностями — целое, за деревьями — лес. Исторический материализм дает исследователю руководящую нить исследования, которая обеспечивает возможность свободно и сознательно двигаться в сложном лабиринте исторических фактов. Исторический материализм — это не схема, не сводка абстрактных положений, принципов, которые следует лишь зазубрить; нет, это вечно живая, творчески развивающаяся общественная теория и метод познания общественной жизни. К историческому материализму полностью относится то, что сказано И. В. Сталиным о марксизме в целом как о творческом, развивающемся учении. Критикуя начетчиков и талмудистов, рассматривающих марксизм как собрание догматов, И. В. Сталин указывает: «Они (т. е. начетчики и талмудисты — Ф. К.) думают, что если они заучат наизусть эти выводы и формулы и начнут их цитировать вкривь и вкось, то они будут в состоянии решать любые вопросы, в расчёте, что заученные выводы и формулы пригодятся им для всех времён и стран, для всех случаев в жизни. Но так могут думать лишь такие люди, которые видят букву марксизма, но не видят его существа, заучивают тексты выводов и формул марксизма, но не понимают их содержания.
Марксизм есть наука о законах развития природы и общества, наука о революции угнетённых и эксплуатируемых масс, наука о победе социализма во всех странах, наука о строительстве коммунистического общества. Марксизм, как наука, не может стоять на одном месте, — он развивается и совершенствуется» [2].
Исторический материализм, как наука о законах развития общества, служит не только методом познания общества, но и методом его преобразования, методом революционного действия. Он является надежным идейным оружием коммунистической партии — революционной партии рабочего класса. Руководствуясь теорией и методом исторического материализма, партия большевиков под руководством Ленина и Сталина привела рабочий класс и всех трудящихся России к победе над царизмом и капитализмом, к установлению социалистического строя. Исторический материализм вооружает борцов за коммунизм знанием законов развития общества, дает им силу ориентировки, ясность перспективы, позволяет правильно разобраться в обстановке, понять смысл событий и предвидеть их дальнейшее развитие.
Наша эпоха — эпоха крушения капиталистической системы, эпоха пролетарских революций и победы социализма сначала на одной шестой части земли, а затем и в других странах, — самая значительная и наиболее богатая событиями во всей истории. Ни одно из предшествующих поколений не было участником столь грандиозных, всемирно-исторического значения событий, не было свидетелем таких крутых исторических поворотов и таких быстрых темпов развития, какими ознаменована первая половина XX в.
В течение жизни одного поколения произошли две разрушительные мировые войны, развязанные империалистами. Под ударами революции рухнул реакционнейший царский режим в России, рухнули, не выдержав испытаний первой мировой войны, Австро-Венгерская и Турецкая империи. Самым великим, самым значительным событием всей мировой истории, её поворотным пунктом явилась победа Великой Октябрьской социалистической революции в России. Это событие знаменует собой наступление новой эры в истории человечества. Капиталистическая система перестала быть единой и всеобъемлющей. Ей противостоит ныне социалистическая система, одержавшая победу в СССР. Из второй мировой войны капиталистическая система вышла еще более ослабленной, а социалистическая система — усилившейся. Сильнейшая в Европе империалистическая держава — гитлеровская Германия разгромлена армией страны социализма. Некоторые капиталистические государства, игравшие большую роль в течение длительного времени, ныне перестали быть великими державами, оттеснены на второй план, попали в зависимость от США. Трещит, распадается некогда могущественная Британская мировая колониальная империя. От системы империализма отпали и отпадают одна страна за другой. В странах Юго-Восточной и Восточной Европы возник режим народной демократии. Великий китайский народ под руководством коммунистической партии Китая одержал победу над гоминдановской реакцией и американским империализмом. Во всех капиталистических странах нарастают и обостряются внутренние противоречия, поднимается новая волна социалистического рабочего движения. На Востоке, в Азии, полыхает пламя великого национально-освободительного антиимпериалистического движения. К активному историческому творчеству поднялись гигантские народные массы, руководимые коммунистическими партиями.
Все эти события подтверждают правильность идей марксизма-ленинизма, служат неопровержимым доказательством истинности открытых историческим материализмом законов общественного развития, необходимо ведущих к гибели капитализма и победе коммунизма. Ясное сознание этой необходимости воодушевляет трудящиеся массы на революционную борьбу и вселяет в них уверенность в победе великого дела рабочего класса.
Чтобы быть сознательным участником великой исторической борьбы за коммунизм, надо знать действительные причины и движущие силы исторических событий, надо знать законы общественного развития. Только марксистско-ленинская наука об обществе дает знание законов развития общества, возможность правильно ориентироваться в происходящих исторических событиях, понять их смысл и ясно видеть направление общественного развития, исторические перспективы.
2. Создание исторического материализма — величайшая революция в науке
Безраздельное господство идеализма в социологии и историографии до создания исторического материализма
Как науки о природе, так и науки об обществе имеют не только свою историю, но и предисторию. Предисторией современной научной гелиоцентрической теории Коперника в астрономии являлась геоцентрическая система Птоломея, современной химии предшествовала алхимия с ее поисками «философского камня». До возникновения исторического материализма в объяснении явлений общественной жизни, истории общества всецело господствовала своеобразная историческая «алхимия» — антинаучное, идеалистическое понимание истории и общественной жизни.
Идеалистический взгляд на историю, на общественную жизнь имеет многовековую давность. Он уходит своими корнями в рабовладельческое и феодальное общество. Историки античного общества Геродот и Фукидид, Плутарх и Светоний, идеологические авторитеты феодального общества Августин Блаженный и Фома Аквинский искали коренные причины исторических событий — политических переворотов, войн, падения и гибели одних государств и возвышения других — в божественной воле «провидения» или в действиях царей, королей, полководцев, причем действия этих лиц также объясняли «волей всевышнего», «провидения».
Буржуазная историография и социология возникли в борьбе с феодальной теологической историографией. Буржуазные философы, историки и социологи, в противовес феодальным церковным авторитетам, пытались дать «естественное» объяснение хода всемирной истории, общественной жизни. Но они искали и ищут эти «естественные» причины исторических событий, движущие силы истории в головах людей, в области сознания, в сфере идей.
Как указывал Ленин, прежние, домарксовские исторические теории имели два главных недостатка:
«Во-1-х, они в лучшем случае рассматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности людей, не исследуя того, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной закономерности в развитии системы общественных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени развития материального производства; во-2-х, прежние теории не охватывали как раз действий масс населения» [3]. Они рассматривали историю преимущественно как результат деятельности отдельных выдающихся людей.
Домарксовские теории не могли проникнуть в сущность исторического процесса, открыть закономерную связь явлений. Они неполно, отрывочно отражали лишь то, что можно наблюдать на поверхности событий.
На первый взгляд кажется естественным заключить, что главные, определяющие причины исторических событий надо искать в сознательных намерениях и целях людей, в их идеях, в побуждениях деятелей, стоящих во главе общественных движений, исторических событий.
Подавляющее большинство буржуазных социологов и историков так и поступало: они рассматривали историю как сознательный процесс. Такой идеалистический взгляд на общество, на ход всемирной истории был обусловлен классовой позицией буржуазных философов, социологов и историков как представителей господствующего, командующего эксплуататорского класса и логически вытекал из их идеалистического мировоззрения.
Идеалистического взгляда на историю придерживались не только буржуазные философы-идеалисты Беркли, Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг, Конт, Спенсер, Карлейль, народники Лавров, Михайловский и многие другие, но и буржуазные философы-материалисты. Ни английские материалисты XVII в. Бэкон и Гоббс, ни французские материалисты XVIII в. Дидро, Гольбах, Гельвеций не смогли распространить свои философские материалистические взгляды на познание общественной жизни. В объяснении истории они оставались идеалистами. Коренная причина общественных переворотов и войн заключалась, по их мнению, в изменении сознания, в изменении мнений людей, в деятельности законодателей.
Французские материалисты XVIII в., на первый взгляд, стремились дать строго научное, естественное объяснение общественных явлений. Они утверждали, что в обществе, как и в природе, все причинно обусловлено, связано необходимой цепью причин и следствий. Но они не видели коренных причин событий и на деле низводили историческую необходимость до степени случайности. Вот что писал Гольбах в «Системе природы»:
«Излишек едкости в желчи фанатика, разгоряченность крови в сердце завоевателя, дурное пищеварение у какого-нибудь монарха, прихоть какой-нибудь женщины — являются достаточными причинами, чтобы заставить предпринимать войны, чтобы посылать миллионы людей на бойню... чтобы погружать народы в нищету... и распространять отчаяние и бедствие на длинный ряд веков» [4]. Если в голове могущественного монарха зашалит какой-нибудь атом, то этого достаточно, говорит Гольбах, чтобы изменить судьбу целых народов.
Так история человеческого общества превращалась в цепь случайностей, в хаос ошибок, бессмысленных насилий и заблуждений. Эпоха средних веков рассматривалась французскими просветителями, в том числе и материалистами, как случайный перерыв после классической древности, как результат заблуждения, невежества и суеверия людей или как следствие дурного законодательства.
Отрицая врожденные идеи, но не понимая материальных причин развития общественного сознания, французские просветители ошибочно искали причину изменения идей в развитии разума, в распространении просвещения. Решающая же роль в распространении просвещения приписывалась ими законодателям и законодательству. Гельвеций утверждал, что, подобно тому как скульптор из дерева может создать бога и скамью, так и законодатель может по желанию образовать героев, гениев и добродетельных людей. В качестве примера Гельвеций ссылался на деятельность русского царя Петра Первого, цивилизовавшего, как он выражается, «московитов».
Чем же, по мнению французских просветителей, обусловливается направление деятельности законодателя? Степенью понимания «природы человека» и «истинного устройства общества», т. е. в конечном счете истинными или ложными идеями.
Немецкий буржуазный философ-материалист XIX в. Фейербах объяснял изменения в устройстве общества изменениями религии, религиозных взглядов.
Домарксовский материализм, как мы видим, страдал непоследовательностью: он был материализмом снизу, в объяснении природы, и идеализмом сверху, в объяснении истории общества. Когда дело доходило до объяснения истории общества, старый, домарксовский материализм изменял самому себе, оставался на позициях идеализма.
К идеалистическим взглядам французских просветителей XVIII в. на историю примыкают и исторические воззрения социалистов-утопистов: Сен-Симона, Фурье, Оуэна. С точки зрения утопических социалистов новый общественный строй — социализм должен был возникнуть не как следствие закономерного развития общества, не как результат классовой борьбы пролетариата, а как плод размышлений гениального ума о разумном, гармоническом устройстве общества, как результат деятельности правителей, просвещенных идеями социализма. Социализм мог появиться и пятьсот и тысячу лет назад, и если он не появился, то только потому, что тогда не нашлось гениального провозвестника нового общества. Фурье, исходя из идеалистического взгляда на историю, бросает упрек философам в том, что по их вине человечество в течение двадцати веков блуждало по извилистым дорогам истории, что они занимались не тем, чем нужно, — не направляли всей силы своего ума на открытие принципов идеального, разумного устройства общества. Написав проект нового, разумного, гармонического устройства общества, Фурье считал, что для осуществления нового общества достаточно лишь убедить стоящих у власти людей. Как и другие утописты, Фурье возлагал все свои надежды на мудрого законодателя, на филантропию [5], на всемогущую силу своего идеального плана.
Социалист-утопист Сен-Симон, опираясь на опыт французской революции XVIII в., стремился создать строгую общественную науку — «социальную физику». Эта наука, по мнению Сен-Симона, должна быть такой же точной, как естествознание. Она должна изучать факты прошлого для открытия законов прогресса.
Заслугой Сен-Симона является то, что он понимал историю Франции с XV в., в том числе и французскую революцию 1789 г., как историю борьбы «промышленников» (третьего сословия) с дворянством, т. е. с точки зрения борьбы классов. Основу господства дворянства в средние века и господства буржуазии в новое время Сен-Симон видел в нуждах производства. Но само изменение производства («промышленности», по его терминологии) Сен-Симон объяснял умственным развитием человечества. Вся история человеческого общества, по Сен-Симону, есть следствие развития знания, просвещения. Таким образом, и Сен-Симон подобно другим социалистам-утопистам не смог преодолеть идеализм.
Между тем сама жизнь опровергала идеалистическое воззрение на историю, как на сознательный процесс, будто бы направляемый волей, разумом, целью. Такие события конца XVIII в., как французская революция, приведшая к свержению абсолютизма, к господству якобинцев, а затем к торжеству бонапартистской диктатуры, наполеоновские захватнические войны, разгром армии Наполеона в России и последовавшее затем крушение его империи, — все это свидетельствовало о том, что в истории господствуют причины и силы, более могущественные, чем воля и желание отдельных людей, даже таких, как Робеспьер и Наполеон. Чрез случайности, выступающие на поверхности общественной жизни, пробивает дорогу историческая необходимость, не зависящая от воли и сознания людей. В сознании идеологов отживающих классов, терпящих крушение, эта историческая необходимость, закономерность нередко отражается как господство рока, судьбы, провидения, бога или мирового духа.
Аристократической реакцией на французскую революцию и материализм, на исторические взгляды французских просветителей явилась идеалистическая философия Гегеля, в том числе его философия истории. Подобно французским материалистам Гегель признавал в своей «Философии истории», что «разум правит миром». Но у Гегеля это не обыкновенный человеческий разум того или иного правителя, законодателя, а безликий, фантастический «абсолютный» разум. Этот мистический разум, «мировой дух», якобы и правит миром. Движение солнечной системы происходит по неизменным законам; эти законы, говорит Гегель, суть ее разум. Но ни солнце, ни планеты не сознают этих законов. Подобно этому, утверждает Гегель, и во всемирной истории, во всех ее событиях действует безликий, скрытый разум, направляющий народы по путям истории.
Во всемирной истории, говорит Гегель, достигаются еще и несколько иные результаты, чем те цели, к которым люди стремятся. Люди добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря их деятельности осуществляется еще и нечто такое, что содержалось в действиях людей, но не сознавалось ими и не входило в их намерения. Здесь, по Гегелю, проявляется скрытая сила «мирового духа». Так идея исторической необходимости, закономерности мистифицирована идеалистом Гегелем. Народы и государства выступают в «Философии истории» Гегеля как слепые орудия «мирового духа». Каждый «исторический» народ, по Гегелю, осуществляет особую идею, а эти идеи являются ступенями развития мирового духа. Народы, которые не укладывались в фантастическую систему «Философии истории» Гегеля (например, славяне), были отнесены им к «неисторическим» народам. Германский народ и прусскую монархию Гегель считал высшим проявлением абсолютного духа. Весь ход мировой истории, по Гегелю, направлен к созданию и торжеству прусской монархии. Так в философии Гегеля нашел себе выражение реакционный прусский национализм и шовинизм.
Вместо открытия действительных связей в истории Гегель привносил в нее фантастические связи извне, из области реакционной идеалистической философии. Мировая история превращалась Гегелем в осуществление «мировой идеи». Его философия истории проникнута мистикой и фатализмом и является в сущности замаскированной теологией. Деятельность «мирового духа», как рок, как судьба, тяготеет над людьми. «Философия истории» Гегеля проповедует религиозную идею о предопределении и представляет собой одну из наиболее реакционных частей всей его реакционной философии. Гегель, как и всякий идеалист, извращает действительную связь явлений, событий, переворачивает общественные явления с ног на голову. Вместо того чтобы общественные идеи, политические взгляды, теории, политические учреждения выводить и объяснять из условий материальной жизни общества, идеализм выводит ход общественной жизни, истории из развития сознания, философских и политических теорий.
Как показали Маркс и Энгельс, идеализм изображает реальное рабство трудящихся как идеальное, как рабство только в сознании, и уводит мысль эксплуатируемых от реальной борьбы в дебри фантазий, препятствует революционной борьбе угнетенных масс. Чтобы угнетенным массам подняться, им недостаточно «подняться в мыслях и оставить висеть над действительной, чувственной головой действительное, чувственное ярмо, которого не отгонишь прочь никаким колдовством с помощью идей. А между тем абсолютная критика (как именует Маркс школу младогегельянцев. — Ф. К.) научилась в Феноменологии Гегеля, по крайней мере, одному искусству — превращать реальные, объективные, вне меня существующие цепи в исключительно идеальные, исключительно субъективные, исключительно во мне существующие цепи и поэтому все внешние, чувственные битвы превращать в битвы чистых идей» [6].
Идеализм все дело преобразования общества сводит к деятельности идеологов, творцов новых общественных и философских идей. Что же касается масс, народа, то к ним идеализм относится с пренебрежением, рассматривая их как мертвую, инертную «материю», которая будто бы приходит в движение лишь в результате активности духа. Подобное представление о роли народных масс и идеологов Маркс назвал карикатурным завершением гегелевского понимания истории, которое в свою очередь является спекулятивным, чисто умозрительным выражением христианско-германской догмы о противоположности духа и материи, бога и мира.
Ныне идеализм является реакционным идеологическим оружием буржуазии против рабочего класса, против социализма. При помощи идеалистических ухищрений буржуазные идеологи дезориентируют массы, дают извращенную картину общественной жизни, превратное объяснение событий: войн, революций, нищеты и бедствий трудящихся капиталистических стран. Отвергая реальную классовую борьбу трудящихся за коренное изменение условий материальной жизни общества, идеализм, проповедуемый правыми социалистами, переносит борьбу в сферу идей, в область сознания, сея иллюзии, будто можно изменить условия жизни путем морального самосовершенствования, и обрекает прогрессивные силы трудящихся, рабочий класс на пассивность и прозябание, что соответствует классовым интересам буржуазии.
Маркс и Энгельс, создавая исторический материализм, подвергли идеализм уничтожающей критике. Эта критика была существенным условием революционного переворота, совершенного Марксом и Энгельсом в науке.
Первые шаги к открытию закономерности общественного развития
Чтобы открыть законы происхождения и развития животных и растительных организмов, потребовались тысячелетия, понадобились усилия многих ученых, многих великих умов. Еще бо́льших усилий потребовало открытие законов развития общества. Это открытие было совершено великими учителями рабочего класса Марксом и Энгельсом. Они дали ответ на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила, над разрешением которых она билась, но которые не могла раньше разрешить.
В подготовке предпосылок материалистического понимания общественных явлений известную роль сыграли учения английских экономистов конца XVIII — начала XIX в. — А. Смита и Д. Рикардо, создавших трудовую теорию стоимости, а также французских историков первой четверти XIX в. — Тьерри, Гизо, Минье, пытавшихся понять историю английской революции XVII в. и историю французской революции XVIII в. как выражение борьбы классов, борьбы буржуазии против дворян-помещиков. Однако ни английские экономисты, ни французские историки не могли понять источник существования классов и действительные причины борьбы между ними. Они не могли из факта борьбы классов в разных странах вывести закон классовой борьбы, имеющий значение для всех классовых антагонистических обществ, в том числе и для капиталистического общества.
Буржуазная общественная мысль в объяснении истории общественной жизни не смогла выйти за пределы собирания фактов классовой борьбы, изображения лишь отдельных сторон общественной жизни. «Домарксовская «социология» и историография в лучшем случае давали накопление сырых фактов, отрывочно набранных, и изображение отдельных сторон исторического процесса» [7].
Из всех мыслителей, разрабатывавших свои исторические взгляды независимо от Маркса и марксизма, ближе всего подошли к материалистическому пониманию истории великие современники Маркса — русские революционные демократы и материалисты Белинский, Герцен, Огарев, Чернышевский, Добролюбов и Писарев. Они были идеологами назревавшей русской крестьянской революции 40 — 60-х годов XIX в. Они пытались понять ход истории как закономерный объективный процесс и рассматривали народ как главную движущую силу исторического развития.
В своих произведениях русские революционные демократы подвергли едкой и меткой критике тех историков и социологов, которые видят в истории, в общественной жизни только действие случайностей, произвол исторических деятелей, королей, полководцев. «Великие исторические события, — писал Белинский, — не являются случайно или вдруг, сами из себя или (что всё равно) из ничего, но всегда бывают необходимыми результатами предшествовавших событий» [8].
Заслугой русских революционных демократов перед общественной наукой является то, что они пытались социальные революции, классовую борьбу понять как явления исторически необходимые, закономерные. Русские революционные демократы применяли диалектику к изучению истории общества и пытались вскрывать борьбу противоположностей, борьбу старого и нового, скачкообразность развития в самой истории. Диалектику Герцен назвал «алгеброй революции». Герцен, Огарев, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев связывали уничтожение крепостничества в России и наступление социализма с народной, крестьянской революцией. Они были идеологами крестьянской революции. От произведений Чернышевского, писал Ленин, веет духом классовой борьбы. Это же можно сказать и о произведениях Белинского, Добролюбова, Писарева.
Не в королях и полководцах видели великие русские революционные демократы движущую силу истории, а в народных массах и в борьбе классов. «В Афинах мы видим, — писал Чернышевский, — только эвпатридов и демос, в Риме только патрициев и плебеев; в новом обществе мы находим не два, а три сословия» [9]. В своих произведениях Чернышевский подверг критике капитализм, нащупывал его противоречия.
Чернышевский пытался вскрыть основы деления общества на классы или, как он выражался, на противоположные сословия. «По выгодам, — писал Чернышевский, — все европейское общество разделено на две половины: одна живет чужим трудом, другая своим собственным; первая благоденствует, вторая терпит нужду. Это разделение общества, основанное на материальных интересах, отражается и в политической деятельности» [10].
Чернышевский с классовой, партийной точки зрения пытался подходить и к анализу философских систем, экономических и политических теорий, а также произведений искусства.
«Политические теории, да и всякие вообще философские учения, — писал Чернышевский, — создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ» [11].
Особенно ценны заслуги Белинского, Чернышевского и Добролюбова в разработке вопросов эстетики, попытки применения диалектики и материализма к объяснению литературы и искусства. Они усматривали основу искусства и литературы в исторической жизни народа: «Так как искусство, — писал Белинский, — со стороны своего содержания, есть выражение исторической жизни народа, то эта жизнь и имеет на него великое влияние, находясь к нему в таком же отношении, как масло к огню, который оно поддерживает в лампе, или, еще более, как почва к растениям, которым она дает питание» [12].
Основоположники исторического материализма Маркс и Энгельс ставили Чернышевского и Добролюбова как ученых и революционеров-демократов чрезвычайно высоко. Чернышевского Маркс по праву называл великим русским ученым и критиком.
Однако, несмотря на свою гениальность, ни Белинский, Герцен и Огарев, ни Чернышевский, Добролюбов и Писарев, в силу отсталости тогдашних русских общественных отношений (капитализм и пролетариат в России еще только зарождались), не смогли подняться до материалистического понимания истории и преодолеть идеализм. Материалисты в объяснении природы, они лишь приближались к историческому материализму, но в основном стояли на идеалистических позициях в объяснении коренных причин исторического развития общества; главную причину исторического прогресса они видели в развитии идей, в развитии науки, просвещения.
Открытие материалистического понимания истории было возможно только на основе анализа обострившихся противоречий буржуазного общества, с позиций передового и последовательно революционного класса — пролетариата.
Возникновение исторического материализма
Создав исторический материализм, Маркс и Энгельс совершили величайшее открытие, которое составило эпоху в развитии научной мысли, означало подлинную революцию, превосходящую по своему историческому значению все перевороты в области других наук. Благодаря этому открытию история стала наукой.
Исторический материализм, как наука о законах общественного развития, сам является закономерным продуктом общественной жизни; он возник как отражение назревших потребностей развития материальной жизни общества, как результат развития классовой борьбы.
Найти ключ к объяснению развития общества в движении, развитии материального производства, взятого в его общей форме, а не в виде отдельных его отраслей (земледелия, ремесла и т. д.), оказалось возможным лишь тогда, когда в самой общественной жизни производство было уже значительно обобществлено. Это «обобществление» производства в пределах отдельных стран, а затем и в мировом масштабе впервые осуществил капитализм.
В противовес распыленному, раздробленному хозяйству мелких крестьян и ремесленников, пишет Ленин, «крупное капиталистическое хозяйство, по самой уже технической природе своей, есть обобществленное хозяйство, т. е. и работает оно на миллионы людей и объединяет своими операциями, прямо и косвенно, сотни, тысячи и десятки тысяч семей» [13].
Понять общественную жизнь, историю, как процесс смены одних общественных, политических форм другими, а не как нечто застойное, неподвижное, можно было только тогда, когда сама общественная жизнь вышла из малоподвижного состояния эпохи феодализма. Эпоха развития капитализма, особенно в конце XVIII и первой половине XIX в., представляла собой небывалый до тех пор процесс бурного развития как в области экономической, политической, так и духовной. Вслед за промышленным переворотом в Англии подобный же переворот происходил и в других европейских странах. На основе развития капиталистической экономики в Европе прокатилась волна буржуазных и буржуазно-демократических политических революций. В 30-х и 40-х годах XIX в. на политическую арену выступил новый общественный класс — пролетариат, который возник вместе с промышленной буржуазией как продукт крупного капиталистического производства.
В эпоху феодализма классы и классовые отношения были прикрыты сословными покровами, а борьба классов нередко протекала в форме борьбы за религиозные принципы. Так, например, крестьянство и городские народные массы Германии в XVI в. боролись против феодально-крепостнического гнёта под флагом борьбы против католицизма и католического духовенства во главе с папой, за «первоначальное христианство». Под флагом религиозной борьбы против католицизма вел свою национально-освободительную войну против немецкого национального гнета и крепостничества чешский народ (гуситское движение). В России классовая борьба угнетенных масс в XV — XVII вв. иногда шла в форме религиозного сектантского движения.
Эпоха капитализма упростила классовые отношения, обнажила экономические основы существования классов и классовой борьбы, обнажила действительные, реальные определяющие силы истории. Раньше, говорит Энгельс, исследование движущих причин истории было почти невозможно, вследствие того что связи их с их следствиями были крайне запутаны и завуалированы; с развитием капитализма решение этой загадки упростилось. «Со времени введения крупной промышленности, т. е. по крайней мере со времени европейского мира 1815 г., в Англии ни для кого уже не было тайной, что центром тяжести всей политической борьбы в этой стране являлись стремления к господству двух классов: землевладельческой аристократии (landed aristocracy), с одной стороны, и буржуазии (middle class) — с другой. Во Франции тот же самый факт дошел до сознания вместе с возвратом туда Бурбонов. Историки периода реставрации, от Тьерри до Гизо, Минье и Тьера, постоянно указывают на него как на ключ к пониманию французской истории, начиная со средних веков. А с 1830 г. в обеих этих странах рабочий класс, пролетариат, признан был третьим борцом за господство. Отношения так упростились, что только люди, умышленно закрывавшие глаза, могли не видеть, что в борьбе этих трех больших классов и в столкновениях их интересов заключается движущая сила всей новейшей истории, по крайней мере в указанных двух самых передовых странах» [14].
Родиной марксизма, в частности и исторического материализма, была Германия 40-х годов XIX в., а его творцами — вожди германского пролетариата Маркс и Энгельс. И это не случайно. К середине XIX в. центр революционного движения все более перемещался с Запада на Восток, в Германию, где назревала буржуазно-демократическая революция. Буржуазная революция в Германии должна была произойти при более зрелых экономических и политических условиях, при наличии более развитого пролетариата, чем буржуазные революции XVII в. в Англии и XVIII в. во Франции. При благоприятных обстоятельствах буржуазно-демократическая революция в Германии могла перерасти в революцию пролетарскую, социалистическую.
Исторический материализм явился теоретическим обобщением всей истории человеческого общества, развития производительных сил и смены производственных отношений, всего опыта классовой борьбы, социальных революций, развития духовной жизни общества. В теории исторического материализма обобщен опыт классовой борьбы революционного пролетариата.
Создание исторического материализма означало возникновение подлинной науки о законах общественного развития.
Исторический материализм явился научно-исторической основой коммунизма, теоретической основой политики, стратегии и тактики коммунистической партии.
Только идеологи рабочего класса, исторически призванного низвергнуть капитализм, заинтересованного в доведении классовой борьбы до конца, до полного уничтожения деления общества на классы и победы нового общественного строя — коммунизма, только идеологи этого класса могли совершить такой научный подвиг, как открытие исторического материализма.
Единство диалектического и исторического материализма
Великий переворот в общественной науке, каким явилось открытие исторического материализма, мог быть совершен лишь на основе высшего достижения философской мысли — на основе диалектического материализма.
Маркс и Энгельс создали диалектический материализм в результате обобщения всемирно-исторической практики и великих открытий в области естествознания, преодолев непоследовательность, ограниченность и односторонность старого, метафизического материализма, преодолев гегелевскую идеалистическую диалектику.
В отличие от всех прежних философских учений, являвшихся достоянием одиночек или небольших школ, диалектический материализм возник как теоретическое революционное знамя рабочего класса.
Коренной недостаток всего домарксовского материализма состоял в его созерцательности, в оторванности от практики. Старый материализм стремился лишь к тому, чтобы объяснить мир, тогда как перед пролетариатом встала задача не только объяснить, но и изменить мир, уничтожить капитализм, построить новое, бесклассовое, коммунистическое общество.
Действенность, революционная практическая направленность составляет самую существенную черту диалектического материализма. Эту действенность диалектический материализм мог приобрести и приобрел именно потому, что он был распространен на познание общественной жизни, последовательно применен к объяснению истории общества, к стратегии и тактике классовой борьбы пролетариата.
Говоря о диалектическом материализме как принципиально новом философском направлении, Энгельс отмечал: «Люди этого направления решились понимать действительный мир — природу и историю — таким, каким он сам дается всякому, кто подходит к нему без предвзятых идеалистических выдумок; они решились без сожаления пожертвовать всякой идеалистической выдумкой, которая не соответствует фактам, взятым в их собственной, а не в какой-то фантастической связи. И ничего более материализм вообще не означает. Новое направление отличалось лишь тем, что здесь впервые действительно серьезно отнеслись к материалистическому мировоззрению, что оно было последовательно проведено — по крайней мере в основных чертах — во всех рассматриваемых областях знания» [15].
Последовательное развитие и применение диалектического материализма требовало распространения его на познание общественной жизни.
«Углубляя и развивая философский материализм, Маркс довел его до конца, распространил его познание природы на познание человеческого общества. Величайшим завоеванием научной мысли явился исторический материализм Маркса. Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах на историю и на политику, сменились поразительно цельной и стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высокий, — из крепостничества, например, вырастает капитализм [16].
Диалектический материализм не был бы последовательным и революционным мировоззрением, если бы он не был распространен на познание общества, если бы он не был применен к стратегии и тактике классовой борьбы пролетариата. И, наоборот, исторический материализм был бы невозможен без диалектического материализма, без своей общефилософской, теоретико-познавательной основы.
Буржуазная социология и историография отрицают закономерность общественной жизни, истории общества или считают невозможным ее познание. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, распространив диалектический материализм на познание закономерностей общественной жизни, доказали полную возможность объективного, истинного познания общественной жизни, научного объяснения истории и создали исторический материализм — науку о законах общественного развития.
«Если мир познаваем и наши знания о законах развития природы являются достоверными знаниями, имеющими значение объективной истины, то из этого следует, что общественная жизнь, развитие общества — также познаваемо, а данные науки о законах развития общества, — являются достоверными данными, имеющими значение объективных истин.
Значит, наука об истории общества, несмотря на всю сложность явлений общественной жизни, может стать такой же точной наукой, как, скажем, биология, способной использовать законы развития общества для практического применения» [17].
Такую точную науку о законах общественной жизни, истории общества и создали Маркс и Энгельс, опираясь на ими же разработанный марксистский диалектический метод и марксистский философский материализм. Оценивая великий научный подвиг Маркса и Энгельса, Ленин писал:
«Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними, — так и Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства... возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс» [18].
3. Исторический материализм о законах общественного развития
Условия материальной жизни общества — источник формирования его духовной жизни, источник происхождения политических учреждений
Коренной вопрос философии, вопрос об отношении бытия и сознания, является коренным, главным вопросом и для общественной науки. Маркс и Энгельс, руководствуясь положениями философского материализма, впервые дали научный ответ на этот вопрос и в применении к обществу; они пришли к выводу, что не общественное сознание определяет собою общественное бытие, а, наоборот, общественное бытие определяет собою общественное сознание.
«Если природа, бытие, материальный мир является первичным, — пишет товарищ Сталин, — а сознание, мышление — вторичным, производным, если материальный мир представляет объективную реальность, существующую независимо от сознания людей, а сознание является отображением этой объективной реальности, то из этого следует, что материальная жизнь общества, его бытие также является первичным, а его духовная жизнь — вторичным, производным, что материальная жизнь общества есть объективная реальность, существующая независимо от воли людей, а духовная жизнь общества есть отражение этой объективной реальности, отражение бытия.
Значит, источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать не в самих идеях, теориях, взглядах, политических учреждениях, а в условиях материальной жизни общества в общественном бытии, отражением которого являются эти идеи, теории, взгляды и т. п...
Каково бытие общества, каковы условия материальной жизни общества, — таковы его идеи, теории, политические взгляды, политические учреждения» [19].
Как всякое великое открытие, это открытие Маркса гениально просто. В объяснении строения и развития общества Маркс исходит из простого жизненного факта: прежде чем заниматься политикой, наукой, искусством, религией, философией, люди должны есть, пить, одеваться, иметь жилище. Чтобы иметь эти жизненные блага, люди должны производить их. Способ производства материальных благ: пищи, одежды, обуви, жилища, топлива, орудий производства, образует главную силу в системе условий материальной жизни общества, определяющую существование общества, его структуру, его развитие.
Не те или иные идеи, взгляды, теории, а способ производства материальных благ является определяющей силой общественного развития, силой, обусловливающей структуру, физиономию общества, его общественные идеи, политические взгляды, теории и соответствующие учреждения.
Каков способ производства, господствующий в обществе, учит товарищ Сталин, таково в основном и само общество, таковы его идеи и теории, политические взгляды, политические и правовые учреждения. Так, например, при капитализме господствующий способ производства основан на частной собственности класса капиталистов на средства производства, на эксплуатации пролетариата капиталистами, на господстве буржуазии над рабочим классом. Соответственно господству буржуазии в сфере производства ей принадлежит господство во всех остальных областях общественной жизни — политической, правовой, идеологической. Независимо от различия политических форм (монархия, республика, фашистская диктатура) во всех капиталистических странах государство является орудием господства буржуазии. Все правовые нормы, все законы и правовые учреждения в капиталистических странах служат делу упрочения и защиты господства буржуазии над трудящимися массами.
Сообразно характеру способа производства формируется и духовная жизнь общества, идеи, теории, взгляды людей. Если в различные периоды истории общества были распространены и господствовали различные общественные идеи, взгляды, то это объясняется не свойством самих этих идей, взглядов, а различием условий материальной жизни общества. Общественные идеи, взгляды являются отражением условий материальной жизни общества. Так, например, в условиях капитализма, основанного на антагонизме классов и на национальном угнетении, процветает буржуазная идеология национальной и расовой исключительности. В условиях советского социалистического общества, где уничтожены национальное неравенство и эксплуатация человека человеком, проповедь национальной и расовой исключительности является преступлением и карается законом; здесь господствует идеология дружбы и равенства народов.
Изменение способа производства вызывает изменение общественных идей, теорий, политических учреждений. Возникновение новых общественных идей, взглядов, теорий, политических учреждений служит выражением и показателем происшедших изменений в условиях материальной жизни общества, в способе производства.
Базис и надстройка
До Маркса и Энгельса социологи не могли в сложном многообразии общественных явлений отделить главное, важное, существенное от второстепенного, неважного, несущественного. Исторический материализм из всей совокупности общественных отношений выделяет как определяющие те отношения, которые складываются между людьми в процессе производства. Производственные отношения образуют экономическую структуру общества, его реальный базис, а политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения составляют надстройку над этим базисом.
В знаменитом предисловии «К критике политической экономии» Маркс пишет, что совокупность «производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще». Развивая дальше это краеугольное теоретическое положение Маркса, И. В. Сталин в работе «Относительно марксизма в языкознании» так определяет экономический базис и надстройку общества:
«Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития. Надстройка — это политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения».
Специфическая особенность базиса, учит товарищ Сталин, состоит в том, что он обслуживает общество экономически. Специфическая же особенность надстройки состоит в том, что она обслуживает общество политическими, юридическими, эстетическими и другими идеями и создает для общества соответствующие политические, юридические и другие учреждения.
Между исторически определенным базисом общества и его надстройкой существует необходимая внутренняя связь. Тот или иной базис порождает, создает соответствующую ему надстройку. «Базис феодального строя имеет свою надстройку, свои политические, правовые и иные взгляды и соответствующие им учреждения, капиталистический базис имеет свою надстройку, социалистический — свою. Если изменяется и ликвидируется базис, то вслед за ним изменяется и ликвидируется его надстройка, если рождается новый базис, то вслед за ним рождается соответствующая ему надстройка» [20].
В результате Великой Октябрьской социалистической революции, в результате ожесточенной классовой борьбы рабочего класса и руководимых им непролетарских трудящихся масс против эксплуататоров, в результате усилий советского народа, руководимого партией Ленина — Сталина, «на протяжении последних 30 лет в России был ликвидирован старый, капиталистический базис и построен новый, социалистический базис. Соответственно с этим была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и иные учреждения новыми, социалистическими» [21].
В отличие от вульгарного материализма исторический материализм Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина считает, что те или иные общественные идеи, философские, эстетические и религиозные взгляды, политические и правовые теории и соответствующие им учреждения определяются в своем развитии, изменении не непосредственно состоянием производства, не непосредственно уровнем развития производительных сил, а экономикой, экономической структурой общества.
«Надстройка, — пишет товарищ Сталин, — не связана непосредственно с производством, с производственной деятельностью человека. Она связана с производством лишь косвенно, через посредство экономики, через посредство базиса. Поэтому надстройка отражает изменения в уровне развития производительных сил не сразу и не прямо, а после изменений в базисе, через преломление изменений в производстве в изменениях в базисе» [22].
Общественные идеи, политические, правовые, художественные, философские взгляды и соответствующие им политические, правовые и иные учреждения, возникнув как отражение общественного бытия, сами оказывают затем влияние на породившие их экономические условия, на общественное бытие, становятся активной, мобилизующей и преобразующей силой. При этом воздействие политических и идеологических надстроек на базис общества может быть двояким: новые, передовые идеи и учреждения облегчают и ускоряют разрешение назревших исторических задач; старые, отжившие, реакционные политические учреждения, идеи и теории тормозят развитие общества.
Таким образом, общественная надстройка является следствием, отражением базиса общества, но, возникнув, сама становится активной силой, оказывает обратное воздействие на породивший ее экономический базис. Этот сложный процесс диалектического взаимодействия совершается на основе определяющей роли экономического базиса, а в конечном счете, на основе развития материальных производительных сил общества.
«Надстройка порождается базисом, — пишет товарищ Сталин, — но это вовсе не значит, что она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, безразлично относится к судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись на свет, она становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый базис и старые классы.
Иначе и не может быть. Надстройка для того и создаётся базисом, чтобы она служила ему, чтобы она активно помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, отживающего свой век базиса с его старой надстройкой. Стоит только отказаться надстройке от этой её служебной роли, стоит только перейти надстройке от позиции активной защиты своего базиса на позицию безразличного отношения к нему, на позицию одинакового отношения к классам, чтобы она потеряла своё качество и перестала быть надстройкой» [23].
Примером величайшей активной роли надстройки может служить Советское социалистическое государство, советское право, передовые социалистические идеи, господствующие в СССР.
История общества есть история народных масс
Важнейшей проблемой общественной науки является вопрос о роли народных масс в истории. Открыв в способе производства материальных благ ключ к пониманию хода общественного развития, исторический материализм впервые научно объяснил решающую роль народных масс в истории. Так как история человеческого общества представляет собой прежде всего смену способов производства материальных благ, а главной силой производства являются производители материальных благ, трудящиеся, то история общества есть в сущности история народных масс, история народов, история трудящихся. Народ является главной движущей силой истории.
Социологи и историки до Маркса не могли разобраться в бесчисленных действиях миллионов людей, рассматриваемых ими как изолированные атомы или как силы, действующие по свободной воле. Единичные и бесконечно разнообразные, казалось бы не поддающиеся никакой систематизации, действия людей исторический материализм свел к действию больших масс, общественных классов, различающихся по их отношению к средствам производства, по их различному положению в системе общественного производства. Марксистская теория классовой борьбы явилась величайшим завоеванием общественной науки. «Что стремления одних членов данного общества идут в разрез с стремлениями других, что общественная жизнь полна противоречий, что история показывает нам борьбу между народами и обществами, а также внутри них, а кроме того еще смену периодов революции и реакции, мира и войн, застоя и быстрого прогресса или упадка, эти факты общеизвестны. Марксизм дал руководящую нить, позволяющую открыть закономерность в этом кажущемся лабиринте и хаосе, именно: теорию классовой борьбы» [24].
Буржуазные политики, социологи и историки видят в классовой борьбе пролетариата против буржуазии и капитализма нечто ненормальное, извне навязанное буржуазному обществу «зловредными агитаторами». На деле классовая борьба пролетариата против буржуазии и капитализма, как и классовая борьба эксплуатируемых против эксплуататоров в прошлые эпохи истории общества, являлась и является исторически неизбежной, закономерной, порождаемой антагонистическими способами производства. Только победа социалистического способа производства приводит к уничтожению социальных антагонизмов и возникновению морально-политического единства общества.
Применение исторического материализма к анализу законов движения капиталистического общества привело Маркса и Энгельса к выводу о неизбежности победы социализма и коммунизма через пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата.
Гениальную формулировку сущности исторического материализма дал Маркс в 1859 г. в «Предисловии» к своей знаменитой книге «К критике политической экономии»:
«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность таких производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче: от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются с ним. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления» [25].
Общественное развитие как закономерный процесс
Исторический материализм рассматривает каждое историческое событие, общественное явление не изолированно, а в связи с теми условиями, которые его породили, вызвали к жизни. Открыв в способе производства ключ к пониманию развития общества, Маркс смог установить закономерность общественной жизни, истории общества.
Пока историки, социологи видели главную причину общественного развития в развитии идей и в деятельности тех или иных выдающихся личностей, нельзя было открыть закономерность, необходимую внутреннюю связь в развитии общественной жизни: история выступала перед взором этих социологов лишь как проявление бесчисленных людских стремлений, воль, действий, сталкивающихся друг с другом, взаимно перекрещивающихся, словом, как проявление бесчисленных случайностей. Но наука — враг случайностей: задача науки состоит в том, чтобы за бесчисленными случайностями, действительными или кажущимися, открыть внутреннюю необходимую связь, закономерность. Иначе история превращается в хаос, в нагромождение бессмысленных ошибок и заблуждений.
Буржуазным просветителям XVIII в. феодализм казался историческим заблуждением, попятным движением по сравнению с античностью, потому что они не рассматривали феодализм в связи с породившими его историческими условиями. С точки зрения условий Франции XVIII в. или России XIX в. феодально-крепостнический строй стал явлением отжившим, противоестественным, неразумным. Но в условиях средних веков для всей Европы, как и для других народов земного шара, находившихся на этой же стадии развития, феодализм был явлением необходимым, закономерным, прогрессивным, а значит и «разумным».
Русские народники в конце XIX в. не считали капитализм в России закономерным, они объявили его явлением противоестественным, случайностью, ошибкой истории. Появление русского пролетариата они рассматривали как историческое недоразумение. В действительности капитализм в России в конце XIX в. был неизбежен и означал шаг вперед в историческом развитии, а пролетариат был необходимым результатом развития капитализма.
Буржуазные социологи и политики объявили случайным и противоестественным явлением такое великое историческое событие, как Октябрьская социалистическая революция. Это объясняется тем, что Великая Октябрьская революция и порожденный ею советский социалистический общественный и государственный строй противоречат интересам буржуазии и понятиям ее идеологов о «нормальном», «естественном» общественном строе.
Советский социалистический строй и в годы мирного развития и в годы Великой Отечественной войны убедительно доказал свою жизненную силу и превосходство над капитализмом. Теперь даже враги советского строя вынуждены считаться с ним как с неизбежным, естественным, закономерным и самым значительным фактором всей истории человечества.
Такое важное событие, как возникновение строя народной демократии в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, расценивается реакционными деятелями капиталистических стран, в том числе правыми социалистами, как явление противоестественное, «ненормальное». Почему? Потому что строй народной демократии означает разрыв с империализмом, переход на путь социалистического развития.
Буржуазия, ее идеологи и слуги считают нормальным и закономерным только капитализм с его частной собственностью на средства производства, анархией производства, кризисами, безработицей, эксплуатацией трудящихся, национальным угнетением, империалистическими войнами. Все, что противоречит этому, они объявляют «противоестественным», незакономерным. Причина этого — не просто заблуждение, классовая слепота идеологов буржуазии, а классовый интерес, страх перед надвигающимся крахом всей системы капитализма и торжеством сил социализма, мира и демократии.
Всякое общественное явление, учит исторический материализм, надо рассматривать в связи с теми условиями, в которых возникло это явление. Все зависит от условий, места и времени.
«Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь (α) исторически; (β) лишь в связи с другими; (γ) лишь в связи с конкретным опытом истории» [26].
Только конкретный, исторический подход к общественным явлениям делает возможным существование и развитие общественной науки.
История учит, что наблюдаемая нами связь и взаимообусловленность общественных явлений имеет не случайный, не единичный, а необходимый и всеобщий характер. Эта внутренняя необходимая связь общественных явлений, их взаимообусловленность и есть закономерность общественной жизни, закономерность развития общества. Национально-освободительные движения, социальные революции, классовая борьба, войны, смена одних общественных формаций другими — все это явления отнюдь не случайные, как их пытаются изобразить буржуазные социологи, а строго закономерные, вытекающие из развития условий материальной жизни общества.
Капитализм пришел на смену феодализму не случайно, а необходимо, закономерно. Его возникновение необходимо вызывалось определенными материальными условиями: товарное производство на известной ступени развития неизбежно порождает капиталистические отношения; это — закон экономического развития. Социализм приходит ныне на смену капитализму также не случайно, а закономерно.
Итак, взаимная связь, взаимообусловленность общественных явлений есть закономерность общественной жизни. В противоположность случайному, единичному, закон есть выражение всеобщности и повторяемости явлений. Там, где налицо определенные причины, они неизбежно вызывают определенные следствия.
Определенный общественный строй необходимо порождает определенные следствия. Чтобы устранить эти следствия, нужно устранить причину, их порождающую. Чтобы устранить безработицу, нищету масс, кризисы перепроизводства, империалистические войны, надо уничтожить капитализм.
Исторический закон выражает существенную, необходимую связь общественных явлений, связь, вытекающую из их внутренней природы. Общественный, исторический закон подобно законам природы выражает устойчивое в отношениях между явлениями, то, что с определенной правильностью, необходимой последовательностью повторяется. Но если в природе закон выступает как результат взаимодействия слепых, стихийных сил, то в обществе закон есть результат взаимоотношений и действий людей, одаренных сознанием и волей. Вместе с тем, как и законы природы, общественные, исторические законы выражают реальную, объективную связь явлений, существующую независимо от сознания людей и до сих пор, до социализма, действовавшую стихийно, подобно законам природы. Так, закон стоимости действует в тех обществах, где продукты труда приобретают форму товара, независимо от того, сознают это люди или нет, хотят они считаться с этим законом или не хотят. Закон стоимости обнаруживает свое действие при капитализме как стихийная сила.
Игнорирование людьми общественных законов всегда мстит за себя. Те, кто действует вопреки общественным законам, вопреки объективному направлению исторического развития, не достигают своих целей, терпят крах. Такова судьба эсеров и меньшевиков в России, не захотевших считаться с необходимостью пролетарской революции и диктатуры пролетариата. Такова судьба троцкистов, отрицавших возможность победы социализма в СССР. Таков провал Черчилля, задумавшего задушить Советскую Россию в 1919 г. Такова судьба гитлеризма, пытавшегося поработить или уничтожить Советский Союз и установить мировое господство фашистской Германии. Неизбежно потерпит крах и сумасбродная идея американских империалистов, стремящихся установить свое господство над миром.
Сила партии Ленина — Сталина, сила марксистских партий состоит в том, что они в своей практической деятельности, в борьбе за коммунизм опираются на законы общественного развития, на знание этих законов и сознательное использование их. Буржуазные социологи и историки XX столетия — такие, как Карл Федерн, Тревельян в Англии, Джон Дьюи, Богардус, Росс и их сторонники в США, Риккерт, Виндельбанд, Макс Вебер, Эд. Мейер в Германии, — с нудной настойчивостью пытались и пытаются отрицать существование объективной закономерности в истории. Они метафизически и идеалистически противопоставляют общественно-исторические события явлениям естественным и утверждают, что в отличие от явлений природы, которые регулярно повторяются, общественные явления носят будто бы лишь индивидуальный характер, не повторяются. Греко-персидские войны, битва при Аустерлице или под Полтавой, говорят эти социологи, были однажды и никогда больше не повторятся; следовательно, здесь нельзя говорить о законе, ибо закон есть выражение общего, т. е. того, что повторяется, что происходит всегда и везде, с определенной последовательностью [27].
Отрицание буржуазными социологами, историками и публицистами объективных законов истории общества диктуется им страхом перед неумолимой исторической необходимостью. Не могут признать идеологи буржуазии историческую неизбежность гибели капитализма и торжества сил социализма! А их софизмы, отрицающие закономерность развития общества, рассчитаны на то, чтобы подорвать уверенность рабочего класса в победе социализма, уверенность в возможности предвидеть ход событий и сознательно преобразовать общество.
Нельзя абсолютно противопоставлять общественные явления естественным, природным. Человеческое общество есть высшее звено в общей цепи развития материального мира. Оно представляет собой специфическую часть материального мира со своими особыми, только ему присущими законами движения, развития. Но, несмотря на качественное отличие общественных явлений от явлений природы, они также подчинены объективной закономерности.
И в природе, как и в обществе, нет абсолютно тождественных явлений. Нет двух листьев или двух животных особей данного вида, которые были бы абсолютно тождественны друг другу. Но это вовсе не мешает естествоиспытателям относить их к определенному виду животных и растений. То же и в обществе. Конечно, капитализм в США развивался несколько иначе, чем в Англии, в Японии иначе, чем во Франции; эти страны имеют некоторые своеобразные черты, особенности, связанные с историческими условиями их развития. Но все эти страны, несмотря на некоторые особенности и своеобразие, имеют между собой общее в коренном, в главном, что дает основание отнести их к одной общественно-экономической формации, именно — капиталистической.
Капиталистическое общество возникло в разных странах не одновременно. Но с возникновением буржуазии всюду, во всех странах развертывалась классовая борьба между буржуазией и дворянством за политическое господство. Во всех важнейших капиталистических странах эта классовая борьба завершалась антифеодальной революцией. Так было в XVII в. в Англии, в XVIII в. во Франции, в 1848 г. в Германии. Каждая из этих революций имела своеобразные неповторимые черты. Но все они были революциями антифеодальными, буржуазными.
Всюду, где возникает капитализм, неизбежно растет богатство на одном полюсе и нищета на другом, неизбежно развивается классовая борьба пролетариата против буржуазии. Таков закон капитализма. Всюду, где обостряются противоречия между пролетариатом и буржуазией, растет среди рабочего класса влияние идей марксизма-ленинизма, влияние марксистских партий.
«Дело заключается здесь не в более или менее высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих законах, в самих этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [28].
Следовательно, не только в природе, но и в общественной жизни имеет место повторяемость как одна из важнейших черт всякой, в том числе и общественно-исторической, закономерности.
Есть ли в обществе явления неповторяемые, индивидуальные? Конечно, есть. Аристотель неповторим. Древнегреческое искусство, основанное на мифологии, неповторимо. Но как бы ни были они своеобразны и индивидуальны, и философия Аристотеля и древнегреческое искусство подчинены общим закономерностям развития общества. Философские и общественно-политические взгляды Аристотеля были порождены условиями своего времени, общественными отношениями его эпохи. То же относится к древнегреческому искусству, пропитанному мифологией: возникновение его было бы невозможно, например, в век пара и электричества.
Итак, мы видим, что, несмотря на своеобразие общественно-исторических явлений по сравнению с явлениями природы, в обществе, в истории, как и в природе, господствует закономерность.
Недопустимость отождествления общественных законов с законами природы
Из этого, однако, отнюдь не следует, будто законы развития общества тождественны законам природы. Если недопустимо абсолютно противопоставлять общество природе, то столь же недопустимо и отождествлять их. Между тем буржуазная социология либо метафизически противопоставляет общество природе как нечто духовное, сверхъестественное, либо, наоборот, отождествляет законы общественного развития с законами развития природы, ищет ответа на социальные, исторические вопросы в будто бы неизменной, вечной биологической природе человека. Если субъективистские теории пытаются оторвать общество от природы, вырыть между ними пропасть, то биологические или иные натуралистические теории пытаются отождествить общественные явления с естественными, перенести на общество законы природы. Таким путем они стремятся оправдать капитализм и объявляют все его язвы и пороки — нищету трудящихся, безработицу и т. п. — непреложным, неустранимым результатом законов природы.
В социологии и политической экономии имеет распространение так называемый социальный дарвинизм. Дарвиновскую формулу «борьба за существование» социальные дарвинисты механически распространяют на общество. Зверский гнет капиталистов над рабочими, подавление забастовок рабочих буржуазным государством, империалистические войны и колониальный гнет социальные дарвинисты сводят к дарвиновской борьбе за существование, объявляют естественным биологическим законом. Эта сумасбродная, псевдонаучная, реакционная теория явилась основой расизма. Критикуя одного из авторов биологических теорий, автора книги «О рабочем вопросе» Ф. Ланге, Маркс иронически писал: «Г. Ланге сделал великое открытие. Всю историю можно подвести под единственный великий естественный закон. Этот естественный закон заключается во фразе «struggle for life», «борьба за существование» (выражение Дарвина в этом употреблении его становится пустой фразой), а содержание этой фразы составляет мальтусовский закон о населении, или, вернее, о перенаселении. Следовательно, вместо того чтобы анализировать эту «struggle for life», как она исторически проявлялась в различных общественных формах, не остается ничего другого делать, как превращать всякую конкретную борьбу во фразу «struggle for life», а эту фразу в мальтусовскую «фантазию о населении»! Нельзя не признаться, что это очень убедительный метод для напыщенного, прикидывающегося научным, высокопарного невежества и лености мысли» [29].
Движение общества подчинено своим, особым законам, не сводимым к законам природы. Животные в готовом виде пользуются тем, что природа произвела помимо их участия. Человек же при помощи труда изменяет природу, подчиняет ее своей власти, производит то, что сама природа не создает. Животные в борьбе с природой пользуются лишь своими естественными органами, тогда как человек пользуется созданными им орудиями производства. Развитие животных сводится к развитию их естественных органов, тогда как развитие человеческого общества связано прежде всего с развитием производительных сил. Поэтому нельзя переносить законы природы на общество.
Всякую попытку перенести понятия естествознания в область общественных наук Ленин рассматривал как пустую и антинаучную затею. Он подчеркивал, что «никакого исследования общественных явлений, никакого уяснения метода общественных наук нельзя дать при помощи этих понятий. Нет ничего легче, как наклеить «энергетический» или «биолого-социологический» ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие» [30].
Общественно-экономические формации
Открыв определяющую основу общественного развития в развитии способа производства материальной жизни людей, Маркс выработал понятие общественно-экономической формации как совокупности исторически определенных производственных отношений и возвышающихся над ними политических, правовых и идеологических надстроек. Характер каждой общественно-экономической формации определяется способом производства. История знает пять общественно-экономических формаций: первобытно-общинный строй, рабовладельческое общество, феодальное, капиталистическое и коммунистическое общество, первая фаза которого — социализм — создана в СССР. Вместе с изменением способа производства изменяются и действующие в данном обществе законы.
Общие и особые исторические законы
Действующие в обществе законы носят различный характер: одни из них присущи всем общественным формациям, другие свойственны лишь антагонистическим формациям, третьи представляют собой такие специфические законы, которые свойственны только данной общественно-экономической формации.
Например, закон об определяющей роли условий материальной жизни в развитии общества, или закон об определяющей роли производительных сил по отношению к производственным отношениям и об активном воздействии производственных отношений на развитие производительных сил, или закон об изменении общественной надстройки в результате изменения экономического базиса общества — эти законы имеют силу для всех общественно-экономических формаций; изменяется лишь форма проявления этих общих законов в каждой общественной формации в силу особых условий их действия внутри этих формаций. Конечно, общие законы существуют не сами по себе, а только в этих особых формах своего проявления. Они открыты Марксом и Энгельсом путем научного анализа развития всех исторически существовавших общественно-экономических формаций, выведены из того общего, что характерно для развития всех обществ. Законы борьбы классов, напротив, свойственны только антагонистическим общественным формациям, основанным на антагонизме классов. Этих законов не было в течение десятков тысяч лет существования первобытно-общинного строя; они перестают действовать с уничтожением классов.
Буржуазные социологи, критики исторического материализма, нередко заявляют, что законы классовой борьбы нельзя признать настоящими законами, раз они действуют не всегда и не везде, раз они не имеют свойства всеобщности. Но ведь и законы биологии начинают действовать лишь там и тогда, где и когда возникает жизнь, органический мир. Однако от этого они не перестают быть реальными, и никому из здравомыслящих биологов не придет в голову отрицать их всеобщность и реальность. Так и классовая борьба является законом, ибо действует всегда и везде, где существуют антагонистические классы. При этом, конечно, классовая борьба современного пролетариата отличается от классовой борьбы рабов или крепостных крестьян как по своим целям, так и по форме и средствам. Для всех антагонистических форм общества, для буржуазного общества, а также для переходного периода от капитализма к социализму борьба классов является решающей, главной закономерностью и движущей силой развития.
В отличие от общих законов, свойственных всем общественно-экономическим формациям, некоторые законы изменяются не только при переходе от одного общественного строя к другому, но даже в пределах одной и той же формации. «Законы развития капитализма, — пишет товарищ Сталин, — в отличие от законов социологических, имеющих отношение ко всем фазам общественного развития, — могут и должны меняться. Закон неравномерности при доимпериалистическом капитализме имел известный вид и результаты были у него соответствующие, при империалистическом же капитализме закон этот принимает другой вид и результаты у него получаются ввиду этого другие» [31].
Среди буржуазных социологов и экономистов есть немало таких, которые исторически ограниченные законы буржуазного общества возводят в степень вечных, незыблемых законов. Это вытекает из их ложного представления о капиталистическом обществе как якобы естественном, незыблемом, вечном, единственно возможном. Величайшая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они доказали исторически преходящий характер капиталистической общественно-экономической формации и господствующих в ней законов.
«Для нас, — пишет Энгельс о себе и Марксе, — так называемые «экономические законы» являются не вечными законами природы, но законами историческими, возникающими и исчезающими, а кодекс современной политической экономии, поскольку экономисты составили его объективно правильно, является для нас лишь совокупностью законов и условий, при которых только и может существовать современное буржуазное общество. Словом, это есть отвлеченное выражение и резюме условий производства и обмена современного буржуазного общества. Поэтому для нас ни один из этих законов, поскольку он выражает чисто буржуазные отношения, не старше современного буржуазного общества. Те законы, которые в известной мере имеют силу для всей предшествующей истории, выражают только такие отношения, которые являются общими для всякого общества, покоящегося на классовом господстве и на классовой эксплуатации» [32].
Победа социализма в СССР привела к тому, что в новом обществе утвердились и новые, специфические закономерности и движущие силы развития, свойственные только социалистическому обществу (необходимость планирования всего народного хозяйства, особая роль политических учреждений в развитии общества, социалистическое соревнование вместо конкуренции, критика и самокритика, морально-политическое единство общества вместо борьбы классов, дружба народов вместо национального гнета при капитализме, особая природа патриотизма и его особая роль в развитии общества и т. д.). Это целиком подтверждает положение исторического материализма о том, что каждая общественно-экономическая формация, подчиняясь общим законам развития общества, имеющим силу для всей истории общества, вместе с тем имеет свои особые законы возникновения и развития, свойственные только ей.
4. Историческая закономерность и сознательная деятельность людей
Общественное развитие есть естественно-исторический процесс
Все, что происходит в природе, происходит само собой, стихийно. Иначе дело обстоит в обществе, в истории. История делается людьми, одаренными сознанием и волей. Как истые метафизики буржуазные социологи не могут совместить признание этого факта с признанием объективной общественной закономерности. Многие из них утверждают, будто сознательная деятельность людей исключает возможность существования объективных, т. е. не зависящих от воли людей, исторических законов. По мнению этих социологов и историков, нельзя установить закономерность общественных явлений, потому что события зависят от воли выдающихся деятелей, от их каприза и других случайностей, а, стало быть, ход истории может в корне изменяться в зависимости от характера и направления деятельности законодателей, правителей, полководцев.
Однако в действительности тот факт, что в общественной жизни, в отличие от природы, действуют люди, одаренные волей и сознанием и ставящие перед собой определенные цели, отнюдь не исключает исторической необходимости, закономерности. При поверхностном взгляде на общество бросаются в глаза случайности, но при глубоком анализе видно, что сквозь бесчисленные случайности пробивает себе дорогу необходимость.
Направление общественного развития определяется не произволом людей, не их субъективными пожеланиями. Люди не могут по произволу выбирать себе общественный или политический строй. Их деятельность, их желания и воля определены условиями их материальной жизни, существующими производительными силами и производственными отношениями, принадлежностью людей к тому или иному классу, глубиной и остротой классовых противоречий, соотношением классовых сил и т. д. В этом и сказывается историческая необходимость.
Общественное развитие имеет свою необходимую внутреннюю логику, последовательность, объективную закономерность. Общественное развитие есть естественно-исторический процесс. Это значит, что законы, определяющие развитие общества, существуют реально, объективно, независимо от сознания и действуют с силой необходимости, определяя волю и сознание людей, причем во всех досоциалистических формациях эти законы действуют слепо, стихийно, подобно законам всемирного тяготения или геологическим законам, вызывающим геологические катастрофы, землетрясения.
«Общество, — говорит Маркс в предисловии к «Капиталу», — ...если оно напало на след естественного закона своего развития, — а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, — не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов...
Моя точка зрения состоит в том, что я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический процесс...» [33].
Развитие общества осуществляется через активную деятельность людей
Означает ли это, что, признавая необходимость исторического развития, мы считаем людей лишь пассивными участниками событий, вынужденными следовать стихийному ходу истории?
Буржуазные критики пытаются «уличить» марксизм в непоследовательности, во внутренних противоречиях. Марксисты признают историческую необходимость социализма и вместе с тем организуют партию социальной революции для осуществления социализма. Нужно выбирать что-нибудь одно: или историческую необходимость, или революционную деятельность, утверждают враги марксизма.
Английский буржуазный социолог Карл Федерн в книге «Материалистическая концепция истории» пишет: «Если бы социализм должен был появиться согласно закону, то не было бы необходимости требовать его. Если бы социализм был действительно неизбежен и следующей стадией в эволюции общества, то не было бы необходимости в социалистической теории и еще менее в социалистической партии. Никто не основывает партии, чтобы осуществить весну и лето».
Легко заметить, что критики марксизма сознательно запутывают вопрос, смешивают разные процессы. Наступление весны и лета не зависит от деятельности людей. Смена времен года происходила и до существования человечества. Но исторические события без участия людей, без их деятельности невозможны. Историческая необходимость осуществляется не помимо деятельности людей, а через их деятельность.
Необходимость смены общественного, например капиталистического, строя означает, что самими условиями своей жизни массы побуждаются к борьбе за установление нового строя. В ходе общественного развития изменяются условия материальной жизни людей. Эти изменения приводят к тому, что общественные, политические порядки, отжившие свой век, становятся невыносимыми. И тогда у передовых классов возникает более или менее ясное сознание необходимости уничтожить старый строй и создать новый строй, опирающийся на те материальные условия, которые созрели для него в недрах старого общества. Капиталистическое общество, пишет И. В. Сталин, устроено так, что в нем «существуют два больших класса: буржуазия и пролетариат, и между ними идёт борьба не на жизнь, а на смерть. Жизненные условия буржуазии вынуждают её укреплять капиталистические порядки. Жизненные же условия пролетариата вынуждают его подрывать капиталистические порядки, уничтожить их. Соответственно этим двум классам и сознание вырабатывается двоякое: буржуазное и социалистическое. Положению пролетариата соответствует сознание социалистическое» [34]. Чем шире в массах распространяется сознание необходимости уничтожить капиталистический строй и желание заменить его новым, высшим общественным строем, тем быстрее произойдет эта смена.
Признание исторической необходимости, объективных законов общественного развития отнюдь не ведет к квиэтизму, к пассивности, как лживо утверждают буржуазные критики исторического материализма. Наоборот, именно марксистская общественная теория, рассматривающая общественное развитие как строго закономерный процесс, будит историческую активность рабочего класса, поднимает прогрессивные силы, мобилизует и организует их для сознательного исторического творчества, для борьбы за уничтожение капитализма и строительство коммунизма.
В познании закономерностей общественного развития рабочий класс и его партия черпают уверенность в своей победе над буржуазией. Познание общественных законов, исторической необходимости дает возможность рабочему классу, марксистской пролетарской партии предвидеть неизбежный ход общественного развития и организовать свою деятельность на основе этих законов и в соответствии с предвидением хода и направления общественного развития.
Когда рабочий класс еще находится вне руководства марксистской партии и вследствие этого еще не знает законов общественного развития, его борьба носит стихийный характер, и результаты этой борьбы плачевны. Это видно на примере английского тред-юнионизма. Другое дело, когда рабочий класс руководится марксистской партией, когда он вооружен знанием законов классовой борьбы против капитализма: тогда он кратчайшим путем и с наименьшими жертвами приходит к цели, к социализму. Это доказала победоносная борьба русского рабочего класса.
Познание законов общественного развития и овладение ими
Для всех досоциалистических общественных формаций характерно стихийное действие общественных законов подобно действию законов природы.
С переходом от капитализма к социализму осуществляется скачок из царства слепой необходимости в царство свободы. Это не следует понимать в том смысле, что «отменяется» закономерность, историческая необходимость. Нет, ее отменить нельзя. Но она перестает уже действовать как стихийная, слепая, чуждая человеку сила.
Необходимость слепа, пока она не познана. Свобода означает познанную необходимость и возможность подчинить ее действие целям человека. «Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, — пишет Энгельс, — а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека, — два класса законов, которые мы можем отделять один от другого самое большее в нашем представлении, отнюдь не в действительности. Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения, тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз должна была бы подчинить себе. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы (Naturnot-wendigkeiten) господстве над нами самими и над внешней природой, она поэтому является необходимым продуктом исторического развития» [35].
Например, пока биологическая наука не знала законов наследственности и изменчивости организмов, люди были в полной зависимости от чисто стихийных процессов возникновения новых видов. С тех пор как мичуринская биология раскрыла природу наследственности и ее изменчивости, мичуринцы ставят задачу сознательного преобразования флоры и фауны земли.
То, что здесь сказано о законах природы, относится и к законам исторической, общественной деятельности людей. Историческая необходимость, будучи познана, сама становится под контроль социалистического общества.
«Общественные силы, — пишет Энгельс, — подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, изучили их действие, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с помощью их достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам... Раз понята их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой электричества в молниях грозы и укрощенным электричеством в телеграфном аппарате и дуговой лампе, та же разница, что между пожаром и огнем, действующим на службе человеку» [36].
Экономическую основу социалистического общества составляет социалистический способ производства, при котором все народное хозяйство носит плановый характер и планируется вся общественная деятельность. При социализме развитие общества подчинено сознательной деятельности людей и направляется социалистическим государством.
Это не значит, что тем самым отменяется необходимость в ходе общественного развития, объективно существующая закономерность. И при социализме новое поколение людей, вступая в жизнь, застает уже готовые, не ими созданные производительные силы и производственные отношения. Чтобы иметь возможность дальше развивать эти производительные силы, каждое новое поколение должно исходить из того, что создано предшественниками. Каждый шаг в развитии социалистического общества обусловлен достигнутым уровнем социалистического производства и производительности труда. Социалистическое общество не может перескочить по произволу от первой фазы коммунизма ко второй. В последнем счете его развитие, постепенный переход к коммунизму зависит от успехов в развитии производительных сил. Но развитие социалистических производительных сил осуществляется людьми, сознательными строителями коммунизма, на основе познанных экономических законов и составляемых в соответствии с ними научно обоснованных планов. Следовательно, развитие социалистического общества в последнем счете также определяется развитием производительных сил, но эти производительные силы отныне развиваются уже не стихийно, а сознательно, планомерно.
Никогда еще в истории общества сознательная деятельность людей, передовые идеи и политические учреждения не играли такой значительной и решающей, мобилизующей, организующей и преобразующей роли, как в условиях социалистического общества. Постепенный переход от социализма к коммунизму обеспечивается руководящей, направляющей и организующей деятельностью социалистического государства и коммунистической партии, их политикой, опирающейся на научное знание законов общественного развития, законов строительства коммунизма, на сознательное использование этих законов.
5. Крах современной буржуазной социологии
Как только классовая борьба пролетариата приобрела для капитализма угрожающие формы, пишет Маркс, «пробил смертный час для научной буржуазной экономии. Отныне дело шло уже не о том, правильна или неправильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой» [37].
Эта характеристика может быть целиком отнесена и ко всей современной буржуазной социологии. Все современные буржуазные социологи, в том числе и социологи из лагеря правых социалистов, вроде Блюма и Реннера, Ласки и Шульца, — это жалкие софисты и сикофанты, прислужники класса капиталистов, враги рабочего класса, враги социализма.
Главная цель и содержание всех современных буржуазных социологических теорий заключается в защите капитализма и в борьбе против социализма. Основной политический и теоретический смысл всех «социологических» трактатов буржуазных «ученых» сводится к доказательству незыблемости, вечности капитализма, к оправданию величайших преступлений капитализма — империалистических войн и колониальной разбойничьей политики, эксплуатации трудящихся и национального гнета, к проповеди человеконенавистничества, национальной и расовой исключительности, обскурантизма, мистики, мракобесия, к защите фашистского варварства и других злодеяний империалистической реакции.
В качестве примера наиболее циничного оправдания злодеяний империализма можно указать на многочисленные расистские учения, «теоретически» оправдывающие и «обосновывающие» национальный гнет. Система капитализма, в особенности монополистического капитализма — империализма, построена на национальном неравенстве и порабощении. Господствующая в этом обществе буржуазная идеология проникнута идеями расовой и национальной исключительности. Реакционные буржуазные социологи-расисты — Ляпуж, Гобино, Летурно, Х. Чемберлен, Аммон, Вольтман, Гумплович, — подвизавшиеся во второй половине XIX в., и целая орава их современных последователей в США, Англии, Германии, Франции и Японии старались и стараются доказать, будто народы мира делятся на «высшие» и «низшие» расы. Сторонники расовых теорий утверждают, что ключ к пониманию исторических судеб народов нужно искать в особых расовых свойствах народностей и наций.
Почему многие народы Азии и Африки по уровню технико-экономического развития стоят ниже народов Европы и Северной Америки? Расисты объясняют это расовыми особенностями тех и других народов. Одни народы будто бы неспособны к самостоятельному экономическому, политическому и культурному развитию и в силу этого самой природой обречены на положение колониальных рабов. Другие в силу будто бы присущих им расовых свойств предназначены к владычеству. Немецкие фашисты считали, что немецкая нация, немецкая буржуазия предназначена самой природой к роли властителя, гегемона всего мира. Расисты из лагеря англо-саксонских стран (США и Англия) в свою очередь считают, что именно буржуазия наций, говорящих на английском языке, призвана господствовать во всем мире. На этой позиции стоят консерватор Черчилль и «демократ» Трумэн, «республиканец» Ванденберг и фашист Мосли, лейборист Бевин и фашист Дж. Дьюи.
На место классовой борьбы как движущей силы истории расисты выдвигают «борьбу рас». «Борьба за существование» различных рас между собой, война не на жизнь, а на смерть — вот вечный закон, говорят расисты.
Марксизм-ленинизм теоретически давно уже разбил эти бредни реакционных буржуазных социологов. История показывает, что те народы (например, китайцы, индусы), которых расисты относят к «низшим» расам, являлись носителями передовой культуры еще в то время, когда предки англичан, американцев, немцев, французов находились в состоянии варварства.
Нынешняя отсталость колониальных народов объясняется не биологическими причинами, не вымышленной империалистами «расовой неполноценностью», а империалистическим гнетом и господством феодальных и капиталистических отношений. Освободившись от гнета феодалов и иностранных империалистов, создав народную республику, китайский народ начал ускоренное экономическое и культурное развитие. Ряд народов России — якуты, буряты, казахи, башкиры, таджики, узбеки были в условиях царизма не только угнетены, но и обречены на вымирание. Напротив, в условиях социализма они переживают небывалый в их истории расцвет. Все это служит лучшим опровержением реакционных расовых теорий.
Одним из важнейших результатов Октябрьской социалистической революции является то, что она нанесла смертельный удар по реакционным теориям, разделяющим народы на «низшие» и «высшие» нации и расы. Социалистическая революция показала на деле, что «освобождённые неевропейские народы, втянутые в русло советского развития, способны двинуть вперёд действительно передовую культуру и действительно передовую цивилизацию ничуть не меньше, чем народы европейские» [38].
Теории расовой и национальной исключительности являются антинаучными и архиреакционными. Они заимствованы из арсенала идеологов античного рабовладельческого общества и используются для того, чтобы оправдать классовый гнет внутри капиталистических стран и империалистическую политику военных захватов и национально-колониального гнета, подобно тому как в рабовладельческом обществе они служили оправданием рабства.
Крайняя реакционность, эклектика, беспринципность и невежество — характерные черты современных буржуазных социологов и буржуазной социологии. Буржуазные социологи видят главную свою задачу не в открытии действительных закономерностей и движущих сил общественного развития, а в отрицании возможности познать общественные закономерности или же в отрицании самого существования этих закономерностей.
Глава официальной исторической школы в Англии Тревельян жалуется, что человеческой жизни недостаточно, чтобы познать все факты, относящиеся к истории общества, а поскольку мы не можем изучить все факты, история не может считаться наукой. Здесь сказывается бессилие историка-идеалиста, блуждающего среди бесчисленных событий и отчаявшегося постигнуть их внутреннюю связь. Идеолог буржуазии чувствует отвращение к объективной закономерности, которая внушает ему и его классу страх и ужас.
Этим же страхом проникнута уже упоминавшаяся книга английского агностика и неокантианца, врага марксизма, Карла Федерна «Материалистическая концепция истории» (1939 г.). Он пишет: «Если бы мы могли охватить все существующие факты и понять все причинные связи в настоящем и прошлом — это потребовало бы божественного разума, — то мы могли бы объяснить все прошлые события и предсказать будущее. Наш интеллект слишком неразвит, и мы можем охватывать умом ограниченное число фактов и не в состоянии даже объяснить прошлое». Объявляя такие научные понятия, как «феодализм», «капитализм», «социализм», «революция», «закономерность» и т. п., фикциями, пустыми словами, Федерн сводит задачу социологии к голому описанию фактов, впадая в самый пошлый субъективизм.
Подобную же субъективистскую точку зрения разделяет значительная часть американских социологов: Дж. Дьюи, Э. Росс, Богардус, Т. Беккер и др.
Буржуазная социология пытается скрыть от народных масс язвы и противоречия капитализма. Источник безработицы, нищеты и других народных бедствий буржуазные социологи видят не в капиталистическом способе производства, а в развитии техники, в распространении марксизма, в утрате «общезначимости духовных ценностей», как выражается американский социолог Энджел.
Измельчание, вырождение и упадочничество буржуазной социологии видны уже из самих названий многих сочинений буржуазных социологов. Вот названия некоторых социологических сочинений, вышедших за последние годы в США: У. Уоллис «Мессии и их роль в цивилизации», М. Боуэн «Церковь и социальный прогресс», Дж. В. Л. Кассерли «Провидение и история» и т. п.
Буржуазная социология потерпела полнейший крах, банкротство по всем линиям как насквозь лживая и реакционная, поверхностная и ничтожная. Это вынуждены признать и сами столпы буржуазной социологии. Дж. Дьюи в книге «Проблемы человека» пишет: «Даже наиболее дальновидные люди не могли предвидеть всего каких-нибудь пятьдесят лет тому назад ход событий. Люди широкого мировоззрения, питавшие надежды, увидели, что действительный ход событий направлен в противоположную сторону».
Да, буржуазным деятелям не дано предвидеть ход событий. Великий Ленин писал об идеологах буржуазии: «...Нельзя рассчитывать правильно, когда стоишь на пути к гибели» [39].
Нарастание кризиса всей системы капитализма и неодолимый рост коммунистического движения идеологи буржуазии расценивают как «закат Европы», закат «западной цивилизации», «западной культуры». Буржуазные социологи пишут о «наступающих сумерках», о «крушении надежд». Бессильные понять и объяснить происходящее, они все чаще и чаще прибегают к аналогии с далеким прошлым. Перед их взором маячат тени и призраки погибшего древнего Рима.
Теоретик английской лейбористской партии Гарольд Ласки в книге «Вера, разум и цивилизация» (1944 г.) писал, что теперешний мир глубочайшим образом потрясен в своих основах. «Почти так же, как при закате Римской империи, рушатся наши ценности. Научные достижения, материальный прогресс, огромное расширение горизонта в связи с ростом знаний — все это вместе взятое не могло сохранить в нас чувство доверия к будущему». Как верные холопы буржуазии, Ласки и ему подобные пытаются отвлечь трудящиеся массы от революционного решения назревших исторических задач. Их цель, как и цель всей буржуазной социологии, спасти капитализм от гибели, дезориентировать массы, сбить их с пути, отвлечь от революционной борьбы против прогнившего капитализма.
В противоположность буржуазной социологии исторический материализм дает знание законов развития общества и указывает массам единственно верный революционный путь разрешения назревших исторических задач. Только исторический материализм выдержал испытание времени, проверку всемирно-исторической практикой. Ход истории за сто с лишним лет существования марксизма целиком подтвердил полную истинность исторического материализма. Применение его к исследованию новых фактов, новых социальных явлений эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи победы социализма в СССР увенчалось блестящими успехами.
Рост влияния коммунистических, марксистских партий во всех странах мира, победа народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, победа национально-освободительного движения в Азии и в особенности победа антифеодальной и антиимпериалистической революции в Китае подтвердили гениальные прогнозы Ленина и Сталина, прогнозы, сделанные на основе исторического материализма. Все дороги в наш век ведут к коммунизму. Этому учит исторический материализм.
6. Развитие исторического материализма Лениным и Сталиным
Подобно философскому материализму, принимающему новый вид с каждым составляющим эпоху открытием даже в естественно-исторической области (не говоря уже об истории человечества), исторический материализм также не остается неизменным, он развивается, обогащаясь новым опытом классовой борьбы и строительства коммунизма.
Великие всемирно-исторические события нашей эпохи, новые закономерности общественного развития получили научное отражение и обобщение в гениальных трудах Ленина и Сталина. Эти труды знаменуют собой новый, высший этап в развитии марксизма, в них развит ленинизм как марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи победы социализма на одной шестой части земли.
Чтобы в полной мере оценить великую роль Ленина и Сталина в развитии исторического материализма, следует иметь в виду, что между эпохой Маркса и Энгельса и эпохой Ленина и Сталина лежит полоса господства II Интернационала в рабочем движении, полоса ревизионизма и оппортунизма.
К 90-м годам XIX в. марксизм одержал решающую победу в рабочем движении над различными домарксистскими формами социализма, а также и над пестрым сборищем идеалистических направлений в социологии и историографии. После этого даже враги рабочего класса стали заигрывать с марксизмом, жонглируя и прикрываясь марксистской терминологией, вытравляя, однако, главное из марксизма — учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата. Выражением этого поветрия среди буржуазной интеллигенции явился так называемый катедер-социализм (Зомбарт и другие в Германии, Струве, Булгаков и прочие «легальные марксисты» в России). Это буржуазное направление, на словах признавая экономическое учение и общественно-исторические взгляды Маркса, в корне извращало их, приспособляя марксизм ко вкусам и потребностям буржуазии. С точки зрения катедер-социалистов общественное развитие представляет собой плавный, эволюционный, стихийный процесс смены одних экономических и социальных форм другими. Классовая борьба, историческая революционная инициатива масс исключаются ими из исторического процесса как явление «анормальное», «болезненное», незакономерное. Дух фатализма, объективизма насквозь пронизывает воззрения катедер-социалистов.
Внутри рабочего движения отражением буржуазного влияния явились бернштейнианство в Германии, «экономизм» и меньшевизм в России — течения, ревизовавшие марксизм, враждебные ему. Ревизионисты в Германии и в России выступили против научно-философских основ марксизма, против диалектического материализма, а также против научно-исторических основ марксизма — против исторического материализма. Эти враги марксизма третировали марксову диалектику как гегельянщину, отрывали общественную теорию Маркса от общефилософских основ, от диалектического материализма. Борьба ревизионистов против материалистической диалектики была одновременно борьбой против революционной сущности общественной теории Маркса.
Вслед за Бернштейном с его печально знаменитым лозунгом: «Движение — все, цель — ничто» немецкие и русские ревизионисты марксизма стали проповедовать теорию стихийности в рабочем движении. Вместо революционной, сознательной деятельности пролетарских масс, активно творящих историю под руководством своего авангарда — партии, оппортунисты проповедовали приспособление к стихийному экономическому процессу, самотек.
Эта фальсификация марксизма разоружала, дезориентировала пролетариат и его партию как раз в ту эпоху, когда капитализм перерос в империализм, вступил в полосу нисходящего развития, когда пролетарская революция встала в порядок дня и от социалистической сознательности, организованности, сплоченности и революционной активности пролетариата стало зависеть решение вопроса о свержении капитализма, о победе социализма.
В России в начале XX в. на очередь дня встала буржуазно-демократическая революция, которая при благоприятных условиях могла перерасти в революцию социалистическую. Это перерастание зависело прежде всего от степени классовой сознательности, организованности, единства пролетариата, от теоретической и политической зрелости его партии, от ясности понимания ею назревших исторических задач. Вот почему в этих условиях после разгрома идеалистов-народников перед Лениным и Сталиным встала первоочередная задача борьбы против теории стихийности в рабочем движении, против теории мирного врастания капитализма в социализм, против теории самотека, принижавшей революционно-преобразующую, творческую, сознательную деятельность масс.
В борьбе с оппортунизмом «экономистов» и меньшевиков Ленин и Сталин, отстаивая философские основы общественной теории Маркса, в дальнейшей разработке исторического материализма основное внимание сосредоточили на всестороннем обосновании значения революционной деятельности и исторической инициативы масс, на разработке вопроса о роли субъективного фактора в истории: роли социалистической сознательности пролетариата, передовых идей и передовой марксистской теории, величайшей роли марксистской пролетарской партии, передовых политических учреждений в развитии общества.
Для характеристики ленинского понимания исторического материализма в высшей степени показательны следующие строки из статьи В. И. Ленина «Против бойкота»:
«Марксизм отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс, — а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами» [40].
На основе обобщения нового исторического опыта, опыта международного рабочего движения и прежде всего исключительного по своему богатству и международному историческому значению опыта большевизма Ленин и Сталин творчески обогатили исторический материализм, развили его дальше, подняли на новую, высшую ступень.
Ленин открыл закон неравномерности экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма и на этой основе создал новую теорию социалистической революции, учение о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране и о невозможности одновременной победы социализма во всех странах.
Ленин открыл советскую власть как наилучшую форму диктатуры пролетариата. Ленин и Сталин всесторонне разработали теорию советского социалистического государства, учение о фазах его развития и функциях, о его организующей и преобразующей роли в строительстве коммунизма.
Ленин и Сталин на основе практики борьбы за социализм в СССР всесторонне разработали марксистскую теорию по вопросу о путях и средствах уничтожения эксплуататорских классов и уничтожения классовых различий вообще.
Ленину и Сталину принадлежит историческая заслуга создания марксистской теории национального и колониального вопроса. На основе этой теории полностью разрешён национальный вопрос в СССР, полностью уничтожены национальный гнёт и национальное неравенство во всех областях общественной жизни, возникли новые, еще невиданные в истории социалистические нации, достигнуты братское сотрудничество и дружба народов, создано могущественнейшее многонациональное социалистическое государство.
Ленин и Сталин создали учение о пролетарской партии нового типа, партии ленинизма; они в полной мере раскрыли ее вдохновляющую, организующую, мобилизующую и преобразующую роль в социалистической революции, в завоевании и укреплении диктатуры пролетариата, в строительстве социализма и коммунизма.
Ленин и в особенности товарищ Сталин разработали теорию развития советского социалистического общества и перехода от социализма к коммунизму. В этой теории дана гениальная характеристика новых движущих сил и закономерностей развития социалистического общества, характеристика нового соотношения политики и экономики, стихийности и сознательности.
Нет ни одной проблемы исторического материализма, которая не нашла бы дальнейшей разработки и развития в трудах величайших корифеев науки — Ленина и Сталина.
Исторический материализм получил свое дальнейшее гениальное творческое развитие особенно в таких классических трудах Ленина, как: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве», «Материализм и эмпириокритицизм», «Карл Маркс», «Марксизм и ревизионизм», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция», «О нашей революции» и др., и в трудах И. В. Сталина: «Коротко о партийных разногласиях», «Анархизм или социализм?», «Марксизм и национальный вопрос», «Вопросы ленинизма», «Краткий курс истории ВКП(б)», «Марксизм и вопросы языкознания».
В «Кратком курсе истории ВКП(б)» в разделе «О диалектическом и историческом материализме» товарищ Сталин дал целостный итог всего столетнего развития диалектического и исторического материализма, итог борьбы марксизма с его многочисленными врагами и высшее обобщение всемирно-исторического опыта, в частности обобщение величайшего опыта победоносного строительства социализма в СССР, теоретический анализ и открытие новых закономерностей и движущих сил развития победившего социалистического общества. Исторический материализм получил в этом труде свое высшее и всестороннее развитие.
В работе «О диалектическом и историческом материализме» И. В. Сталин всесторонне показал, что исторический материализм есть распространение диалектического материализма на область общественной жизни, на познание общества, истории общества. Раскрывая и анализируя основные черты марксистского диалектического метода и марксистской философской материалистической теории, товарищ Сталин показывает, какое великое значение имеет применение марксистского диалектического метода и материалистической теории к познанию общества и к практической деятельности партии рабочего класса.
Внутренняя связь и взаимообусловленность явлений, раскрываемая марксистским диалектическим методом, выступает в применении к обществу, в историческом материализме как учение о закономерности общественной жизни; категории движения и развития, отрицания старого и рождения нового, неодолимости нового в применении к познанию общества означают, что общественные порядки, политические и правовые идеи и учреждения нельзя рассматривать как неизменные, застывшие, вечные. В обществе, как и в природе, всегда что-нибудь отмирает и что-нибудь вновь рождается, новое вступает в борьбу со старым, пробивает себе дорогу и побеждает. Великий Сталин указал, что марксистские партии, чтобы не ошибиться в политике, должны смотреть вперед, а не назад, ориентироваться на новое, передовое, растущее, а не на старое, отживающее.
В противовес плоским и пошлым буржуазным теориям, в том числе лейбористским и другим оппортунистическим, реформистским учениям о медленном, постепенном, эволюционном процессе развития общества без революционных скачков, без перерывов постепенности, материалистическая диалектика в ее применении к обществу означает, что социальные революции есть явление не случайное, а закономерное. Переход от капитализма к социализму, освобождение рабочего класса и всех трудящихся от капиталистического рабства может быть осуществлено не путем реформ, как учат правые социалисты, а путем революции, в результате насильственного уничтожения капиталистического строя. Отсюда вытекает важнейший практический вывод для марксистских партий: «Чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформистом» [41].
Марксистская диалектика учит, что развитие происходит через раскрытие внутренних противоречий, через столкновение противоположных сил на базе этих противоречий, через преодоление этих противоречий путем борьбы. В применении к обществу это означает, что борьба старого и нового, классовая борьба пролетариата против капитализма есть явление неизбежное, закономерное. Следовательно, учит исторический материализм, надо не замазывать противоречия капитализма, а смело вскрывать их и разрешать революционным путем, не тушить классовую борьбу, а доводить ее до конца. «Значит, чтобы не ошибиться в политике, — учит товарищ Сталин, — надо проводить непримиримую классовую пролетарскую политику, а не реформистскую политику гармонии интересов пролетариата и буржуазии, а не соглашательскую политику «врастания» капитализма в социализм» [42].
В классических трудах И. В. Сталина получили дальнейшее развитие все основные проблемы исторического материализма. В его трудах дан всесторонний анализ системы условий материальной жизни общества, раскрыта решающая роль способа производства в развитии общества, показан внутренний механизм развития производства (характеристика трех особенностей производства); товарищ Сталин дальше развил краеугольное положение исторического материализма о базисе и надстройке, о мобилизующей, организующей и преобразующей роли передовых идей и передовых учреждений в развитии общества.
Благодаря сталинскому труду «О диалектическом и историческом материализме» исторический материализм стал еще более острым теоретическим оружием революционного рабочего класса, его марксистской партии. Благодаря этому труду внутренняя связь между теорией исторического материализма и практической борьбой рабочего класса за коммунизм стала еще более осязательной, прозрачно ясной.
К работе «О диалектическом и историческом материализме» непосредственно примыкает гениальный труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В этом труде даны не только основы научного языкознания, но и разработана дальше важнейшая проблема исторического материализма — о базисе и надстройке. Этот труд представляет собой новый великий вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма.
7. Партийность исторического материализма
Буржуазные социологи усердно ратуют за так называемый объективизм, за «внеклассовый», «надпартийный» характер науки. Открыто признать буржуазно-партийный характер своей «науки» они не могут, ибо это значит открыто признать, что их теория служит эксплуататорскому меньшинству общества против трудящегося большинства. Но обострение классовых противоречий между пролетариатом и буржуазией, между социализмом и капитализмом заставляет буржуазных социологов выступать открыто за капитализм против социализма. Тем самым идеологи буржуазии наглядно разоблачают свой «объективизм» и на деле показывают, что они и шагу не могут сделать, не принимая в расчет интересов буржуазии.
Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин никогда и ни от кого не скрывали партийности марксизма-ленинизма. И исторический материализм они с самого начала создавали и развивали как глубоко партийную науку, которая является теоретической основой коммунизма, теоретическим оружием рабочего класса и его коммунистической партии. Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин всегда вели непримиримую, беспощадную борьбу против всех врагов марксизма, против малейших отступлений от исторического материализма в сторону идеализма или вульгарного материализма. За словесными ухищрениями, софистикой и схоластикой они отчетливо различали борьбу партий в философии, борьбу, которая в последнем счете выражает тенденцию, идеологию и интересы враждебных классов общества. Ленин писал:
«Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями по сути дела, прикрываемой гелертерски-шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, являются материализм и идеализм» [43].
Ход исторического развития противоречит коренным интересам современной буржуазии. Буржуазия и ее идеологи все более понимают это и потому в своих корыстных интересах, чтобы утвердить гибнущий капитализм, беззастенчиво извращают действительность, подтасовывают факты. Буржуазная партийность ведет к субъективизму, к произволу в исторической науке, в социологии.
Партийность пролетарская, коммунистическая идейность, наоборот, обеспечивает наиболее глубокое, наиболее объективное, беспристрастное и всестороннее познание действительности, законов общественной жизни. Только рабочий класс, интересы которого совпадают с объективным ходом исторического развития и который является последовательно революционным классом, заинтересован в объективном, т. е. истинном, познании. Вот почему подлинная научность и большевистская, коммунистическая партийность совпадают.
Ленин и Сталин всегда защищали последовательный материализм, который только и способен дать истинное, самое точное и глубокое познание как природы, так и общественной жизни, истории общества. Противопоставляя буржуазному объективизму Струве марксистский материализм, Ленин писал:
«Объективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. Объективист говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист говорит о том классе, который «заведует» данным экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия других классов. Таким образом, материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необходимость... С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» [44].
В современных условиях, когда мир раскололся на два лагеря — лагерь социализма и демократии, возглавляемый Советским Союзом, и лагерь империалистической реакции, фашизма и поджигателей войны во главе с США, — пролетарская большевистская партийность и интересы подлинной науки требуют, чтобы тот, кто изучает общественные явления, рассматривал их с точки зрения борьбы трудящихся за мир и демократию, за коммунизм.
Исторический материализм дает марксистским партиям возможность срывать все и всяческие маски с врагов рабочего класса, с врагов мира, демократии и социализма, обнаруживать за словесной шелухой, за псевдоученой «социологической» схоластикой своекорыстные интересы и цели буржуазии.
Единство науки и практической деятельности, связь теории с практикой является путеводной звездой для всех марксистских партий. В этом их сила, их преимущество перед врагами. Марксистско-ленинская наука о законах общественного развития — исторический материализм — дает возможность видеть не только то, что имеет место сегодня, но и то, что будет завтра, научно предвидеть ход событий, направление развития.
В марксистско-ленинской науке об обществе большевистская партия черпает уверенность, обретает ясность перспективы, находит теоретическое оружие для борьбы за коммунизм, за торжество коммунистического прогресса.
Величие открытий Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина состоит в том, что они пробудили, просветили, организовали и привели в движение новую гигантскую историческую силу — рабочий класс, призванный свергнуть капитализм и построить коммунизм на всей земле, во всех странах. И эта революционная сила под руководством коммунистической партии и ее вождей Ленина и Сталина уже коренным образом перевернула мир общественных отношений на одной шестой части земного шара, построила социализм в СССР; эта сила потрясает ныне основы капитализма на всем земном шаре.
Исторический материализм существует больше ста лет. Он испытан и проверен в огне великих классовых битв пролетариата. Исторический материализм был и остается самым острым теоретическим оружием марксистских партий, возглавляющих борьбу рабочего класса против капитализма. Руководствуясь теорией исторического материализма, партия большевиков успешно решала и решает великие исторические задачи строительства коммунизма.
Глава вторая. Условия материальной жизни общества
Как показано в предыдущей главе, общественные идеи, общественные теории, политические взгляды, формы государства и права не могут быть выведены и объяснены ни из самих себя, ни из действий отдельных личностей или из так называемого «народного духа», ни из «абсолютной идеи», ни из свойств той или иной расы.
Источник возникновения, изменения, развития общественных идей, теорий, политических взглядов, форм государства и права коренится в условиях материальной жизни общества.
Что же такое условия материальной жизни общества, из чего они складываются и каковы их отличительные черты? К условиям материальной жизни общества относятся: 1) окружающая человеческое общество географическая среда, 2) народонаселение, 3) способ производства материальных благ.
1. Географическая среда
Географическая среда как одно из условий материальной жизни общества
В понятие «условия материальной жизни общества» входит прежде всего окружающая общество природа, географическая среда. Какую же роль в развитии общества играет географическая среда? Географическая среда является одним из необходимых и постоянных условий материальной жизни общества, и она, несомненно, оказывает влияние на развитие общества. Та или иная географическая среда составляет естественную основу процесса производства. В известной мере, особенно на ранних ступенях развития общества, географическая среда накладывает отпечаток на виды, отрасли производства, составляя естественную основу общественного разделения труда. Там, где не было животных, пригодных к приручению, не могло, разумеется, возникнуть и скотоводство. Наличие в данной местности ископаемых руд, минералов определяет возможность возникновения соответствующих отраслей добывающей промышленности. Но, чтобы эта возможность превратилась в действительность, для этого, кроме естественных богатств, необходимы соответствующие общественные условия, соответствующий уровень развития производительных сил прежде всего.
Маркс делит внешние, природные условия жизни общества на два больших разряда:
Естественное богатство средств существования: плодородие почвы, обилие рыбы в водах, дичи в лесах и т. д.
Естественное богатство источниками средств труда: водопады, судоходные реки, дерево, металлы, уголь, нефть и т. д.
На низших ступенях развития общества первый вид естественных богатств, на высших — второй вид имеет наибольшее значение, в производственной жизни общества.
Для первобытного общества с его примитивной техникой водопады, судоходные реки, залежи угля, нефти, марганцовой или хромовой руды не имели жизненного значения, не оказывали влияния на развитие условий его материальной жизни. Днепровские пороги, водная энергия Волги существовали многие тысячелетия, а стали они важнейшей естественной основой энергетических ресурсов общества лишь на высоких ступенях развития общества, когда в СССР победил социализм.
Благоприятные географические условия ускоряют развитие общества, неблагоприятные географические условия замедляют его. Какая же географическая среда наиболее благоприятна и какая менее благоприятна для общественного развития? Какие природные условия замедляют и какие ускоряют общественное развитие?
На этот вопрос нельзя дать ответа, пригодного для всех исторических эпох развития общества. Как и к решению всех других вопросов, здесь должен быть конкретный, исторический подход. Одна и та же географическая среда играет различную роль в различных исторических условиях.
В странах тропического климата окружающая человека природа необычайно щедра. При небольших затратах труда она давала первобытному человеку необходимые для питания средства. Но слишком расточительная природа, говорит Маркс, ведет человека, как ребенка, на помочах. Она не делает его собственное развитие естественной необходимостью. «...Я не могу представить себе большего проклятия для народа,— пишет один автор, цитируемый Марксом в «Капитале»,— как быть брошенным на клочок земли, где природа сама производит в изобилии средства жизни и пищу, а климат не требует или не допускает значительных забот об одежде и защите от непогоды...» [45].
Суровая, однообразная и бедная природа крайнего севера, полярных и околополярных стран, зона тундр также была сравнительно неблагоприятна для общественного развития первобытных людей. Она требовала от человека неимоверной затраты сил, чтобы сохранить только саму жизнь, и оставляла мало времени и сил для всестороннего развития способностей. Как в тропиках, так и в околополярных странах общественное развитие происходило крайне медленно. Обитатели этих стран долго оставались на низших ступенях исторического развития.
Историческим фактом является то, что наибольшая власть человека над природой, наибольшие успехи в развитии производительных сил и в общественном развитии в целом были достигнуты не в тропических странах и не на крайнем севере, не в тропических лесах и гнойных пустынных просторах Африки и не в суровой холодной тундре, а в той части земного шара, где естественные условия общественного производства наиболее разнообразны, диференцированны. Именно эти условия окружающей человека географической среды в свое время оказались наиболее благоприятными для развития производства и для общественного развития в целом.
«Не тропический климат с его могучей растительностью, а умеренный пояс был родиной капитала,— пишет Маркс.— Не абсолютное плодородие почвы, а ее дифференцированность, разнообразие ее естественных продуктов составляет естественную основу общественного разделения труда; благодаря смене тех естественных условий, в которых приходится вести свое хозяйство человеку, это разнообразие способствует умножению его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда. Необходимость общественно контролировать какую-либо силу природы в интересах хозяйства, необходимость использовать ее или подчинить ее при помощи сооружений крупного масштаба, возведенных рукой человека, играет решающую роль в истории промышленности. Примером может послужить регулирование воды в Египте, Ломбардии, Голландии и т. д. или в Индии, Персии и т. д; где орошение искусственными каналами не только доставляет почве необходимую для растений воду, но в то же время приносит вместе с илом минеральное удобрение с гор. Тайна хозяйственного расцвета Испании и Сицилии при господстве арабов заключалась в искусственном орошении» [46].
Критика географического направления в социологии
Не являются ли природные условия, географическая среда той определяющей силой, от которой в последнем счёте и зависит развитие общества, его форма, структура физиономия?
Сторонники географического направления в социологии и историографии считают, что именно географическая среда — климат, почва, рельеф местности, растительность—непосредственно или через пищу или род занятий влияют на физиологи то и психологию людей, определяют их наклонности, темперамент, стойкость, выдержку, а через них и весь общественный, политический строй общества».
Французский просветитель XVIII в. Монтескье считал, что нравы и религиозные верования людей, общественный и политический строй народов определяются прежде всего особенностями климата.
Наиболее благоприятным для общественного развития Монтескье считал умеренный климат северных стран и наименее благоприятным жаркий климат. В своем сочинении «О духе законов» Монтескье писал: «Чрезмерные жары подрывают силы и бодрость... холодный климат придает уму и телу людей известную силу, которая делает их способными к действиям продолжительным, трудным, великим и отважным». «В северных странах организм здоровый, крепко сложенный, но неуклюжий» находит удовольствие во всякой деятельности» У народов этих стран «мало пороков, не мало добродетелей и много искренности и прямодушия». «Малодушие народов жаркого климата почти всегда приводило их к рабству, между тем как мужество народов холодного климата удерживало их в свободном состоянии», — таковы рассуждения Монтескье.
Но как же объяснить то, что в одних и тех же климатических условиях, в одной и той же стране, но в различное время существовали различные общественные и политические порядки? Климат Италии со времени Гракхов, Брута и Юлия Цезаря до наших дней почти не изменился, а какую сложную экономическую и политическую эволюцию пережили древний Рим и Италия! Монтескье чувствует, что климатом этого объяснить нельзя. И он, путаясь, прибегает к обычному идеалистическому «объяснению»: политические и другие общественные изменения он объясняет законодательством, свободной деятельностью законодателя.
Английский социолог Бокль в своей книге «История цивилизации в Англии» предпринял попытку дать более развернутое объяснение хода всемирной истории свойствами географической среды. В отличие от Монтескье Бокль считал, что не только климат, но и особенности почвы, пищи, а также общий вид окружающей природы (ландшафт) оказывают определяющее влияние на характер народов, на их психологию, на склад их мышления и на общественный и политический строй.
Грозная, величественная природа тропических стран с частыми землетрясениями, извержениями вулканов, бурями, грозами, ливнями, пишет Бокль действует на воображение людей и порождает страх суеверие и обусловливает большое влияние «суеверного сословия» (духовенства) в жизни общества. Природа же таких стран, как Греция, Англия, наоборот, способствует, по Боклю, развитию логического мышления, научного познания. Значительную роль духовенства и распространенность суеверий в Испании и Италии Бокль объясняет землетрясениями и извержениями вулканов, часто происходящими в этих странах.
Но ведь в условиях той же природы на территории Италии жил в древности материалист Лукреций, в эпоху Возрождения — Леонардо да Винчи, насмешливый антиклерикал автор «Декамерона» Боккачио, мужественный борец за науку против католического мракобесия Джордано Бруно. Чем же объяснить различие в мировоззрении людей, живущих в одних и тех же географических условиях? На этот вопрос нельзя дать ответа, исходя из позиций Бокля, из позиций географического направления в социологии.
Бокль пытался особенностями климата и сезонностью земледельческих работ объяснить психологию и особенности характера народа, якобы определяющие общественный строй. Так, сравнивая Норвегию и Швецию с Испанией и Португалией, Бокль говорит, что трудно найти большее различие, чем то, какое существует в законах, обычаях и религии этих народов. Но в условиях жизни этих народов он отмечает и нечто общее: как на севере, так и на юге из-за особенностей климата невозможна непрерывная земледельческая деятельность. На юге непрерывности земледельческих занятий мешает летняя жара и сухость погоды, а на севере — суровость зимы, непродолжительность дня, а в некоторое время года и отсутствие света. Вот почему, пишет Бокль, эти четыре нации, при всем несходстве их в других отношениях, одинаково отличаются слабостью и непостоянством характера.
Как видим, о характере северных народов Бокль высказывает мнение, противоположное мнению Монтескье. Это показывает, что выводы сторонников географического направления в социологии крайне произвольны.
С позиций Бокля и других сторонников реакционного географического направления в социологии невозможно объяснить, почему в одной и той же стране, в одно и то же время существуют противоположные классы с различной психологией, с противоположными идеалами. Политический смысл насквозь антинаучной теории Бокля состоит в том, чтобы оправдать колониальное господство английской буржуазии, подвести идеологическую базу под это господство. В наше время реакционные взгляды представителей географической школы в социологии служат затушевыванию действительных причин, вызывающих разделение общества на классы, оправданию колониального гнета и империалистического порабощения народов. Географические воззрения Бокля смыкаются с изуверской расовой теорией, которая наделяет колониальные народы якобы «извечными» свойствами, обрекающими их на рабское положение, а англо-саксов (английскую и американскую буржуазию, конечно, прежде всего) — «естественными» свойствами повелевать, господствовать.
Географическое направление в социологии имело своих представителей и в России. Сюда относятся известный историк С. М. Соловьев (автор многотомной «Истории России»), Лев Мечников (автор книги «Цивилизация и великие исторические реки»), отчасти историк В. О. Ключевскии.
Историк С. М. Соловьев пытался объяснить своеобразие развития России, её государственный строй, характер и склад ума русского народа условиями географической среды Восточно-Европейской равнины. Противопоставляя Западную и Восточную Европу, он писал:
«Камень, так называли у нас в старину горы, камень разбил Западную Европу на многие государства, разграничил многие народности, в камне свили свои гнезда западные мужи, и оттуда владели мужиками; камень давал им независимость; но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность; все прочно, все определенно, благодаря камню».
Иначе, по Соловьеву, обстоит дело на великой восточной равнине Европы, в России. Здесь «... нет камня: все ровно,— пишет он,— нет разнообразия народностей,— и потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных гнезд, не живут они особо и самостоятельно, живут дружинами около князя и вечно движутся по широкому беспредельному пространству... При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей, нет таких особенностей, которые бы действовали сильно на образование характера местного народонаселения, делали для него тяжким оставление родины, переселение. Нет прочных жилищ, с которыми тяжело было бы расставаться... города состоят из кучи деревянных изб, первая искра — и вместо них куча пепла. Беда впрочем невелика... новый дом ничего не стоит по дешевизне материала,— отсюда с такою легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село... Отсюда привычка к расходке в народонаселении и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять».
Так из особенностей географических условий Восточной Европы Соловьев выводит крепостной строй и характер государства в России. Но такое объяснение и противопоставление России Западу совершенно несостоятельны. В действительности и страны Восточной и страны Западной Европы, несмотря на своеобразие их природных условий, прошли через феодально-крепостнический строй, через господство абсолютизма. А это значит, что социальный и политический строй общества складывается независимо от естественных условий и его невозможно вывести из особенностей географической среды.
Неверны также и рассуждения Соловьева о роли камня в Западной Европе и дерева в Восточной Европе. До XI—XIX вв. не только в России, но и во Франции, Германии, Англии и Фландрии в деревнях и в городах постройки были по преимуществу деревянные. Даже Лондон в начале XIII в. был деревянным городом.
Один из видных представителей географического направления в социологии, Лев Мечников пытался объяснить развитие общества ролью воды, влиянием рек и морей. В книге «Цивилизация и великие исторические реки» Л. Мечников писал: «Вода оказывается оживляющим элементом не только в природе, но и истинной двигательной силой в истории... Не только в геологическом мире и в области ботаники, но и в истории животных и человека вода является силой, побуждающей культуры к развитию, к переходу из среды речных систем на берега внутренних морей, а оттуда к океану».
Взгляды Мечникова, его деление истории человечества на речные, средиземноморские и океанические цивилизации являются ненаучными.
Г. В. Плеханов допустил грубейшую теоретическую и политическую ошибку, когда пытался сблизить взгляды Мечникова со взглядами Маркса и Энгельса. Между историческим материализмом и географическим направлением в социологии нет ничего общего. Больше того: они враждебны друг другу. Географическое направление, как одна из разновидностей реакционных буржуазных социологических учений, в корне противоречит марксизму
В эпоху империализма географическое направление, подхваченное идеологами реакционной буржуазии, было использовано и используется для оправдания агрессивной политики империалистов США, Англии, Германии и Японии. В фашистской Германии это направление выступало под названием «геополитики». Гитлеровцы возвели «геополитику» в ранг государственной «науки». Эта лженаука представляет собой своеобразную помесь расистской «теории» с географическим направлением в буржуазной социологии и выражает собой крайнюю степень тупоумия и интеллектуального вырождения современной реакционной буржуазии. Сторонники этой бредовой «геополитической» псевдонауки (Гаусгофер и др.) утверждают, что политика каждого государства определяется его географическим положением. Открыто защищая разбойничью, захватническую политику империализма, они пытались «обосновать» сумасбродные претензии германского фашизма на мировое господство. Основное в этой «геополитической» мешанине — требование так называемого «жизненного пространства для немецкой нации» — означало требование колоний, стремление к порабощению других народов и прежде всего народов страны социализма — СССР. В этом—главное политическое существо фашистской «геополитики».
Сторонники этой реакционной теории стараются завуалировать реальные внутренние и внешние противоречия общественной жизни капиталистических стран, порождаемые вовсе не «отсутствием жизненного пространства», а империализмом. Безземелье и малоземелье миллионов крестьян и батраков в капиталистических странах является результатом сосредоточения большей части и лучшей земли у кучки земельных магнатов, крупных землевладельцев. Это — результат не «географической обездоленности наций», а следствие экономического развития капитализма, а также пережитков феодализма.
После разгрома гитлеровской Германии, которая была главной реакционной силой в Европе, роль вдохновителя и главаря мировой реакции и претендента на мировое господство занял империализм США. Империалистические аппетиты американской буржуазии безграничны. Не только западное, но и восточное полушарие она стремится превратить в объект своей безудержной экспансии и эксплуатации. Турцию и Грецию, весь Ближний и Дальний Восток, Европу и Африку реакционные идеологи американского империализма объявляют «жизненным пространством» США. В соответствии с этим во всех частях света создаются американские военно-морские и военно-воздушные базы. Устами своих идеологов американская буржуазия требует уничтожения национальных границ, национального суверенитета народов. Для обоснования этой разбойничьей политики широко используется «геополитика».
Когда-то древний Рим в знак своего торжества над побежденными народами вместе с драгоценными трофеями и рабами захватывал также и изображения богов, которым поклонялись эти народы. Изображения богов помещались в Пантеоне Рима. Но времена меняются, изменяются вкусы. Американская, буржуазия вывезла из Германии в США наряду с золотым запасом и драгоценностями, награбленными гитлеровцами у народов Европы, также и смердящую «теорию» геополитики. Фашистская геополитика гальванизируется и ставится на службу американскому империализму.
Реакционная буржуазная «социология», пытающаяся объяснить строение и развитие общества свойствами географической среды, подвергнута убийственной критике И. В. Сталиным в его работе «О диалектическом и историческом материализме».
Товарищ Сталин дал глубоко научное объяснение действительной роли географической среды в развитии общества. Географическая среда является одним из необходимых и постоянно действующих условий материальной жизни общества, но она относительно неизменна, постоянна; ее естественные изменения совершаются в сколько-нибудь значительных размерах в течение десятков тысяч и миллионов лет, а коренные изменения общественного строя совершаются значительно быстрее, в течение тысяч и даже сотен лет. Поэтому такая относительно неизменная величина, как географическая среда, не может служить определяющей причиной изменения и развития общества.
Факты говорят о том, что в условиях одной и той же географической среды существовали различные общественные формы. Над Грецией времен Перикла высилось то же голубое, безоблачное небо, сияло то же солнце, что и над Грецией времен упадка.
«На протяжении трех тысяч лет в Европе,— пишет И. В. Сталин,— успели смениться три разных общественных строя: первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, а в восточной части Европы, в СССР сменились даже четыре общественных строя. Между тем за тот же период географические условия в Европе либо не изменились вовсе, либо изменились до того незначительно, что география отказывается даже говорить об этом...
Но из этого следует, что географическая среда не может служить главной причиной, определяющей причиной общественного развития, ибо то, что остается почти неизменным в продолжение десятков тысяч лет, не может служить главной причиной развития того, что переживает коренные изменения в продолжение сотен лет» [47].
Воздействие общества на природу
Буржуазные социологи географической школы рассматривают человеческое общество как нечто пассивное, лишь подвергающееся воздействию географической среды. Но это — в корне ложное представление о взаимоотношении общества и природы. Отношение между обществом и природой исторически изменяется вместе с развитием общественных производительных сил.
В отличие от животных общественный человек не просто приспособляется к природе, к географической среде, а через производство приспособляет природу к себе, к своим потребностям. Человеческое общество постоянно преобразует окружающую его природу, заставляет ее служить человеку, господствует над ней.
Развивая общественное производство, люди орошают пустыни, изменяют естественное плодородие почвы, при помощи каналов соединяют реки, моря и океаны, перемещают растительные и животные виды с одного материка на другой, изменяют животные и растительные виды в соответствии со своими потребностями и целями. Человечество переходит от использования одного вида энергии к другому, подчиняя своей власти все новые и новые силы природы. От использования энергии прирученных животных общество поднялось к использованию силы ветра, воды, пара, электричества. А теперь мы стоим накануне величайшего из всех технических переворотов — использования внутриатомной энергии в производстве. В широких размерах внутриатомная энергия может быть использована для мирных целей только в условиях социализма.
Развитие производительных сил общества приводит к ослаблению зависимости производства от наличия или отсутствия в данной местности тех или иных естественных богатств. Уже капитализм с его мировой экспансией, мировым рынком, международным капиталистическим разделением труда, порабощением колониальных народов давно вышел за местные географические условия развития промышленности. Империалистический капитализм все доступные ему части земного шара превратил в арену своей хищнической эксплуатации. Так, хлопчатобумажная промышленность Англии развилась на основе привозного индийского и египетского хлопка, выращиваемого колониальным полурабским трудом. Испанская или малайская железная руда перерабатывается на заводах Англии, индонезийская нефть и нефть стран Ближнего Востока захвачена империалистами США, Англии, Голландии и вывозится далеко за пределы Индонезии и стран Ближнего Востока. Благодаря открытию способа добывания синтетического каучука и бензина ослабла зависимость производства этих продуктов от наличия растений каучуконосов и залежей нефти. Производство пластмасс и широкое использование их для производства многих предметов, в том числе и орудий труда, также расширило источники сырья и уменьшило зависимость производства от местных естественных источников сырья.
Масштабы и характер воздействия общества на географическую среду изменяются в зависимости от степени исторического развития общества, от развития производительных сил, от характера общественного строя.
С уничтожением капитализма хищническое расточение естественных богатств заменяется их планомерным использованием социалистическим обществом для нужд трудящихся. Используя свои богатейшие природные ресурсы, Советский Союз на основе диктатуры рабочего класса и социалистического способа производства в кратчайший срок превратился из страны отсталой в технико-экономическом отношении в первоклассную индустриальную державу, в страну самых высоких темпов экономического развития.
Разнообразие естественных богатств Советского Союза, несомненно, оказало и оказывает благоприятное влияние на развитие его производительных сил. И. В. Сталин в 1931 г. в речи «О задачах хозяйственников» говорил, что для развития хозяйства:
«Прежде всего требуются достаточные природные богатства в стране: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок. Есть ли они у нас? Есть. Есть больше, чем в любой другой стране. Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране. Руда, уголь, нефть, хлеб - чего только нет на Урале! У нас имеется в стране все, кроме разве каучука. Но через год-два и каучук мы будем иметь в своем распоряжении [48]. С этой стороны, со стороны природных богатств, мы обеспечены полностью [49].
Однако объяснять быстрое развитие производительных сил СССР только (или главным образом) благоприятными природными условиями было бы глубочайшей ошибкой. Те же природные богатства были и в старой России. Но они не только не использовались, но даже были мало известны, не разведаны. Широкая и планомерная научная разведка недр на огромной территории нашей страны впервые организована лишь в условиях советского строя. Только в советскую эпоху народы СССР по-настоящему узнали, какие великие, несметные сокровища заключаются в недрах нашей земли. Природные богатства России сами по себе заключали только возможность быстрого экономического развития. Но эта возможность в условиях старой России с ее полукрепостническими пережитками, с царизмом, с хищниками-капиталистам и не могла превратиться в действительность Она превратилась в действительность лишь в условиях советского социалистического строя.
Богатейшие залежи минералов на Урале, в Сибири, Средней Азии, на юге и в Заполярье поставлены Советским государством на службу народу. В горных районах и в степях, среди дремучих лесов и в полупустынях по плану Советского социалистического государства, под руководством большевистской партии построены новые города и поселки, новые предприятия шахты, фабрики, заводы. Сельское хозяйство за годы советской власти далеко продвинулось на север. Многие сельскохозяйственные культуры, которые раньше возделывались только в средней полосе или на юге европейской части страны, перемещены на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию. Грандиозный сталинский план борьбы против засухи и за обеспечение устойчивых высоких урожаев путем создания в лесостепных и степных районах страны лесозащитных полос, водоемов, а также путем внедрения в сельское хозяйство всех достижений агробиологической науки обеспечивает в еще более гигантских масштабах преобразование природы, подчинение ее сил власти общества, Такой план мог быть принят только в условиях социализма. Его осуществление не только повысит урожайность полей, предохранит почву от истощения и улучшит ее, но изменит и климат. Строительство гигантских гидростанций на реке Волге свидетельствует о том, что по мере осуществления постепенного перехода от социализма к коммунизму планы и практика подчинения сил природы обществу становятся все более и более грандиозными.
Советские гидротехники разрабатывают величественные планы изменения течения великих сибирских рек: Обь и Енисей потекут на юго-запад, могучие воды этих рек будут использованы для производства электроэнергии, для орошения пустынных районов Средней Азии, богатых солнцем, но страдающих от недостатка влаги. Вдоль нового русла этих рек возникнут новые фабрично-заводские центры, богатейшие районы сельского хозяйства. Осуществление этих проектов при современном уровне науки и техники вполне возможно.
Так в условиях социализма осуществляется планомерное изменение географической среды; течения рек, почвы, ее плодородия, климата и даже рельефа местности. Став хозяевами своих собственных общественных отношений, люди в условиях социализма по-настоящему становятся хозяевами могущественных сил природы.
Успехи экономического и культурного развития СССР, в частности его окраинных восточных республик, разбивают в прах империалистические географические теории, объясняющие современную экономическую и культурную отсталость колониальных стран особенностями их географической среды.
Главная причина экономической и культурной отсталости стран Востока — Индии, Индонезии, Полинезии, Ирана, Египта и других—за последние два-три века — это колониальный и полуколониальный гнет, ограбление этих стран капиталистическими метрополиями.
«Для нынешнего положения Индии,— пишет Пальм Датт,— характерны две особенности. Первая – богатство Индии: ее естественные богатства, обилие ресурсов, потенциальные возможности для полного обеспечения всего населения Индии и даже большего количества населения, чем Индия насчитывает сейчас.
Вторая — нищета Индии: нищета подавляющего большинства ее населения...» [50].
Экономический и культурный прогресс капиталистических стран осуществлялся ценой закабаления, зверской эксплуатации и истощения колоний. Эксплуатация колоний является сейчас одним из источников силы империалистических государств. В колониальных странах империализм искусственно задерживает, тормозит развитие туземной тяжелой промышленности, консервирует отсталые, допотопные экономические формы и политические учреждения.
Когда Индия и Индонезия полностью сбросят империалистическое иго и станут политически и экономически вполне свободными, они покажут, какого высокого развития могут добиться независимые страны при тех же географических условиях.
Китайский народ, возглавляемый коммунистической партией, уже сбросил империалистическое иго, установил в стране режим диктатуры народной демократии, приступил к осуществлению революционного преобразования экономики, успешно проводит антифеодальную аграрную реформу. Ближайшее будущее покажет, какой невиданный экономический расцвет, какое всестороннее использование природных богатств страны способен обеспечить освобожденный китайский народ.
Географическое направление в социологии и историографии пытается внушить колониальным народам мысль о примирении с их рабской участью, обрекает их на пассивность. Оно стремится оправдать колониальное рабство, пытается снять с империалистических держав вину за отсталость колониальных стран и перенести эту вину на природу, географическую среду.
Марксизм разоблачил эти учения как ложные, показал их теоретическую несостоятельность и их реакционное классовое содержание. А невиданные в истории темпы развития, экономический и культурный расцвет социалистических советских республик, расположенных в различных природных условиях, практически опровергли лженаучные теории географического направления в социологии и целиком подтвердили истинность исторического материализма.
Итак, мы видим, что географическая среда представляет одно из необходимых и постоянных условии материальной жизни общества. Она ускоряет или замедляет ход общественного развития. Но географическая среда не является и не может являться определяющей силой общественного развития.
2. Рост народонаселения
Критика буржуазных теорий о значении роста народонаселения в развитии общества
В систему условий материальной жизни общества наряду с географической средой входит также рост народонаселения, большая или меньшая его плотность. Люди составляют необходимый элемент условий материальной жизни общества. Без известного минимума людей материальная жизнь общества невозможна.
Не является ли рост народонаселения той главной силой, которая определяет характер общественного строя и развитие общества?
Буржуазные социологи и экономисты — сторонники биологического направления — пытаются найти в росте народонаселения ключ к пониманию законов и движущих сил общественной жизни. Так, например, по мнению английского буржуазного социолога XIX в. Спенсера, рост народонаселения, вызывая изменение условий существования людей, заставляет их по-новому приспособляться к окружающей среде, изменять общественные порядки.
Французский буржуазный социолог Жан Стецель пишет: «Ничуть не будет преувеличением сказать, что демография в широкой степени управляет социальной жизнью».
Русский буржуазный историк и социолог М. Ковалевский в своем труде «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» утверждал: «Формы народного хозяйства не следуют друг за другом в произвольном порядке, но подчинены известному закону преемства. Важнейшим фактором их эволюции является в каждый данный момент и в каждой данной стране рост населения, большая или меньшая его густота...»
Как мы видим, и Спенсер, и Стецель, и М. Ковалевский видят в росте народонаселения коренную причину, побуждающую общество к развитию, толкающую его вперед. При этом росту народонаселения приписывается определяющее влияние и на самую структуру общества.
Другие представители буржуазной социологии, также считая рост народонаселения определяющим фактором, рассматривают его, однако, в качестве силы, тормозящей развитие общества. Эти социологи и экономисты пытаются объяснить противоречия капитализма, рост пауперизма, безработицы, войны и другие пороки капитализма чрезмерным ростом народонаселения.
Так, например, английский экономист конца XVIII и начала XIX в. поп Мальтус провозгласил «закон», согласно которому рост народонаселения будто бы происходит в геометрической прогрессии, а средства существования увеличиваются лишь в арифметической прогрессии. В этом «несоответствии» роста народонаселения и средств существования Мальтус усматривал причину голода, нищеты, безработицы и других бедствий трудящихся.
Книга Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» вышла в 1798 г., в разгар промышленного переворота в Англии, когда шел быстрый процесс разорения ремесленников, росла нищета, безработица, а на фабриках и заводах рабочие подвергались безудержной эксплуатации. Книга Мальтуса своим острием была направлена против французской революции 1789—1794 гг. и вместе с тем служила интересам английской буржуазии; ханжески, на словах сочувствуя угнетенным, Мальтус на деле «теоретически» оправдывал растущую нищету и безработицу в Англии. Мальтус пытался снять ответственность за нищету и безработицу с капитализма и переложить ее на природу
«Человек, появившийся на свет, уже занятый другими людьми,— писал Мальтус,— если он не получил от родителей средств для существования, на которые он вправе рассчитывать, и если общество не нуждается в его труде, не имеет никакого права требовать для себя какого-либо пропитания, ибо он совершенно лишний на этом свете. На великом пиршестве природы для него нет прибора. Природа приказывает ему удалиться и, если он не может прибегнуть к состраданию кого-либо из пирующих, она сама принимает меры к тому, чтобы её приказание было приведено в исполнение».
В качестве единственного средства избавления от нищеты и безработицы Мальтус ханжески проповедывал трудящимся «воздержание» от брака и деторождения.
Маркс в «Капитале» подверг реакционную теорию Мальтуса уничтожающей критике. «Большой шум, вызванный этим памфлетом,— писал Маркс о книге Мальтуса,— объясняется исключительно партийными интересами... «Принцип населения», медленно вырабатывающийся в XVIII веке, потом с трубными звуками и барабанным боем возвещенный среди великого социального кризиса как несравненное противоядие против теории Кондорсе и других, был с ликованием встречен английской олигархией, которая увидела в нем великого искоренителя всех стремлений к дальнейшему человеческому развитию» [51].
Маркс доказал, что при капитализме развитие производительных сил, технический прогресс используется буржуазией против рабочих, сопровождается выталкиванием рабочих из производства. Вследствие этого образуется относительное перенаселение, огромная резервная армия, армия безработных. Это относительное перенаселение мальтузианцы выдают за абсолютное перенаселение, якобы представляющее закон природы.
Развитие производительных сил в XIX и XX вв. свидетельствует о том, что вопреки так называемому «закону» Мальтуса производительные силы и общественное богатство растут быстрее, чем народонаселение. Но плоды растущей производительной силы труда присваиваются буржуазией. Поэтому причины нищеты масс, безработицы, голода кроются в системе капитализма, а не в законах природы.
Несмотря на то что жизнь, практика давно уже полностью опровергли реакционную теорию Мальтуса, идеологи империалистической буржуазии продолжают использовать ее для оправдания противоречий и язв капитализма и даже в качестве обоснования внешней империалистической экспансионистской политики. Неомальтузианские теории на американской почве приобрели еще более циничные и отвратительные формы.
В 1948 г. в США вышла книга фашиста Вильяма Фогта «Путь к спасению». Фогт пишет: «Человечество находится в тяжелом положении. Мы должны понять это и перестать жаловаться на экономические системы, погоду, невезение и бессердечных святых. Это будет началом мудрости и первым шагом на нашем длинном пути. Вторым шагом должно быть уменьшение рождаемости и восстановление ресурсов». Фогт заявляет, что природные ресурсы ограничены, а рождаемость чрезмерна. Один из разделов его книги называется «Слишком много американцев». Из 145 млн. населения США, пишет Фогт, 45 млн. являются лишними. Источник бедствий Китая в период хозяйничания там американского империализма Фогт видит не в империалистическом гнете, а в перенаселенности. «Самой страшной трагедией для Китая, — пишет людоед Фогт,— сейчас было бы снижение смертности населения... Голод в Китае, пожалуй, не только желателен, но и необходим».
Европу Фогт считает также перенаселенной. В качестве условия предоставления так называемой «помощи» по «плану Маршалла» Фогт предлагает американцам предъявлять европейским странам требование: отказаться от национального суверенитета и проводить мероприятия по сокращению рождаемости, стерилизацию. А самым желательным средством для сокращения населения Фогт и автор предисловия к его книге, американский финансист, поборник атомной войны, Барух считают войну и эпидемии. Так выглядит сегодня мальтузианская теория, поставленная на службу американскому империализму.
Крайняя реакционность идеологов американской буржуазии, шарлатанский характер их «теорий» особенно обнаруживаются, когда они начинают жаловаться на то, что в других странах население растет быстрее, чем в США. Так, например, холоп реакционной американской империалистической буржуазии Лэндис в духе фашистских геополитиков и расистов кричит об опасности для США со стороны так называемых «плодовитых народов». Лицемерные вопли об опасности со стороны «наиболее плодовитых народов» — это империалистическая дымовая завеса, призванная прикрыть разбойничьи замыслы Уолл-стрита; это старые приемы, применявшиеся гитлеровцами.
Империалистическая буржуазия всемерно использует мальтузианство во внешней политике для оправдания ужасающей отсталости и нищеты в колониях. Английский буржуазный экономист-эксперт В. Энсти пишет: «Где индийский Мальтус, который выступил бы против массового появления индийских детей, опустошающих страну?» Ему вторит Л. Ноулз: «Индия будто призвана иллюстрировать теорию Мальтуса. Ее население увеличилось до невероятных размеров, когда прирост не сдерживается войной, эпидемией или голодом».
Пальм Датт в своей книге «Индия сегодня» на основе огромного количества неопровержимых данных разбивает в прах эти неомальтузианские бредни, с помощью которых английские буржуазные экономисты пытаются оправдать ужасающие последствия двухсотлетнего хозяйничания английского империализма в Индии. П. Датт доказал, что вопреки мнению мальтузианцев рост продовольствия в Индии превышает рост населения но продовольствие и другие блага достаются империалистам. Вследствие ужасающей смертности населения прирост народонаселения в Индии значительно ниже, чем в Англии и Европе Так, в настоящее время Индия насчитывает населения 389 млн человек, а в конце XVI в. насчитывалось 100 млн. Следовательно, в течение трех веков оно увеличилось лишь в 3,8 раза. Население же Англии и Уэльса в 1700 г. составляло 5,1 млн. человек, а в настоящее время достигло 40,4 млн., т. е. за период в два с половиной века оно увеличилось в 8 раз. Так рушится легенда о «чрезмерном» приросте народонаселения в Индии. Рушится и неомальтузианская реакционная теория, объясняющая ростом народонаселения нищету масс, голод, безработицу, порождаемые капитализмом.
В рассуждениях мальтузианцев, так же как и других буржуазных социологов, приписывающих росту народонаселения главную роль в общественной жизни, нет ни грана науки. Мальтузианская «теория» служит лишь идеологическим прикрытием и оправданием империалистической реакции.
Марксизм-ленинизм о значении роста народонаселения в развитии общества
В работе И. В. Сталина «О диалектическом и историческом материализме» дана глубокая и уничтожающая критика буржуазных теорий, объясняющих развитие общества ростом народонаселения. Товарищ Сталин указывает, что рост народонаселения, взятый сам по себе, не может объяснить ни строения общества, ни того, почему, скажем, феодальное общество сменилось именно капиталистическим, а не каким-либо другим, почему на смену капитализму приходит именно социализм.
«Если бы рост народонаселения являлся определяющей силой общественного развития, более высокая плотность населения обязательно должна была бы вызвать к жизни соответственно более высокий тип общественного строя. На деле, однако, этого не наблюдается... Плотность населения в Бельгии в 19 раз выше, чем в США, и в 26 раз выше, чем в СССР, однако США стоят выше Бельгии с точки зрения общественного развития, а от СССР Бельгия отстала на целую историческую эпоху, ибо в Бельгии господствует капиталистический строй, тогда как СССР уже покончил с капитализмом и установил у себя социалистический строй.
Но из этого следует, что рост народонаселения не является и не может являться главной силой развития общества, определяющей характер общественного строя, физиономию общества» [52].
Товарищ Сталин дал глубоко научное определение действительного значения роста народонаселения для развития общества. Рост народонаселения, несомненно, влияет на развитие общества, облегчает или замедляет его, но не является и не может являться главной причиной, определяющей структуру общества, развитие общества.
В зависимости от конкретных исторических условий рост народонаселения, его большая или меньшая плотность, может ускорять или замедлять развитие общества. От большей или меньшей плотности и быстроты роста населения в известной мере зависит, при прочих равных условиях, военная мощь той или иной страны, возможность освоения ею новых земель, даже темпы экономического развития. Чтобы полностью освоить, например, несметные богатства Сибири и Дальнего Востока, в этих краях нужен значительный прирост населении, увеличение его плотности. В условиях социалистического строя это ускорит еще больше темпы нашего развития, увеличит размеры народного богатства.
В СССР, где все трудятся, рост населения — это прирост трудящихся, основной производительной силы, именно поэтому прирост населения у нас ускоряет развитие нашего общества.
Рост народонаселения отнюдь не является независимым от общественных условий биологическим фактором: он сам ускоряется или замедляется в зависимости от характера общественного строя и от степени его развития. Маркс установил в «Капитале», что каждому исторически определенному способу производства свойственны свои особые законы народонаселения. В условиях капитализма темпы развития производительных сил сдерживают рост народонаселения, влияют на него понижающим образом. В условиях социализма развитие производительных сил всемерно стимулирует рост народонаселения.
Это особенно ярко показало развитие Советского Союза. По довоенным данным, Советский Союз с населением 170 млн, человек давал больший естественный прирост населения, чем вся капиталистическая Европа, насчитывавшая 399 млн. Это — прямой результат социалистического общественного строя, избавившего трудящихся от кризисов, безработицы и нищеты. В речи на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 г. товарищ Сталин говорил: «У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно улучшилось, что жить стало лучше, веселее. Это, конечно, верно. Но это ведёт к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Смертности стало меньше, рождаемости больше, и чистого прироста получается несравненно больше. Это, конечно, хорошо, и мы это приветствуем» [53].
В условиях социалистического строя рост народонаселения значительно ускоряется, и это в свою очередь способствует ускоренному развитию социалистического производства.
Капитализм как реакционная система, ставшая тормозом развития человечества, разоблачает себя уже и тем, что ставит преграды росту народонаселения. «Человечество,— писал Энгельс,— могло бы размножаться быстрее, чем это может требоваться современному буржуазному обществу. Для нас это является лишним основанием, чтобы объявить это буржуазное общество препятствием развитию, таким препятствием, которое должно быть устранено» [54].
3. Способ производства — определяющая сила общественного развития
Производство материальных благ – жизненная основа общества
Что же является определяющей силой общественного развития, главной причиной, обусловливающей строение общества и переход от одного общественного строя к другому?
Исторический материализм учит, что главной определяющей силой развития общества является способ добывания средств к жизни, способ производства материальных благ: пищи, одежды, обуви, жилищ, топлива, орудий производства, необходимых для того, чтобы общество могло жить и развиваться.
Чтобы жить, пишет И. В. Сталин, люди должны иметь пищу, одежду, обувь, жилище, топливо и т. д. Чтобы иметь эти необходимые жизненные блага, нужно их производить. А для производства материальных благ нужны орудия производства, уменье их производить и уменье пользоваться этими орудиями в борьбе с природой. Производство материальных благ составляет жизненную основу общества.
Человек выделился из животного царства и стал собственно человеком благодаря производству. В этом смысле Энгельс говорит, что труд создал самого человека. Животные пассивно приспособляются к внешней природе. Они в своем существовании и развитии целиком зависят от того что дает им окружающая природа. В отличие от них человек, человеческое общество ведет активную борьбу с природой, при помощи орудий производства приспосабливает ее к своим нуждам. Используя силы внешней природы, человек создает необходимые для своего существования продукты, материальные блага, которые в самой природе не встречаются в готовом виде. Людей можно отличать от животных по их сознанию, по членораздельной речи и другим признакам. Но сами люди начинают отличаться от животных лишь тогда, когда они начинают производить орудия производства и необходимые для своей жизни материальные блага.
Производя необходимые для своей жизни средства, люди тем самым производят и свою материальную жизнь [55]. Существование и развитие человеческого общества поэтому всецело зависят от производства материальных благ, от развития производства. Производство, труд — это «условие существования людей, вечная, естественная необходимость: без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая жизнь» [56].
Основные моменты процесса труда
Процесс производства в его простой, общей для всех ступеней развития человечества форме Маркс определяет как целесообразную деятельность для создания потребительных стоимостей, как процесс, в котором человек своей деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой.
«Для того чтобы присвоить вещество природы в известной форме, пригодной для его собственной жизни, он (человек.— Ф. К.) приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в последней способности и подчиняет игру этих сил своей собственной власти» [57].
В отличие от инстинктивной деятельности животных человеческий труд – это целесообразно направленная, планомерная деятельность. Труд свойственен только человеку.
Паук, пишет Маркс, совершает операции, напоминающие операции ткача, а пчела постройкой своих восковых ячеек может посрамить некоторых архитекторов. «Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, т. е. идеально. Работник отличается от пчелы не только тем, что изменяет форму того, что дано природой: в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как за кон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» [58].
Но не только целесообразностью отличается процесс труда; труд предполагает как свое необходимое условие создание и применение орудий производства.
Процесс труда, процесс производства включает в себя следующие три момента: 1) целесообразную деятельность человека или сам труд; 2) предмет, на который действует труд; 3) орудия производства, при помощи которых человек действует.
Процесс производства возник тогда, когда люди начали создавать орудия производства. До создания орудий производства, хотя бы самых примитивных, вроде заостренного камня - ножа или палки, приспособленной для нападения на зверей или для сбивания плодов и т. п., человекоподобный предок еще не выделялся из животного царства. Выделение из мира животных и превращение обезьяноподобного предка в человека совершились благодаря созданию орудий производства. При помощи орудий производства — этих искусственных органов — человек как бы удлинил естественные размеры своего тела, стал подчинять природу себе, своей власти. Производство и употребление орудий производства составляют «специфически характерную черту человеческого процесса труда» [59].
Орудия производства— это предмет или комплекс предметов, которые рабочий помещает между собой и предметом труда и которыми он воздействует на предмет труда. Человек пользуется в процессе труда механическими, физическими и химическими свойствами тел, для того чтобы в соответствии со своей целью заставить одни тела воздействовать на другие.
К орудиям производства Маркс относит прежде всего механические средства труда, совокупность которых он называет «костной и мускульной системой производства». В эпоху феодализма такими средствами труда служат железный плуг, ручные орудия, ткацкий станок и др. В эпоху капитализма получают широчайшее распространение всевозможные машины и системы машин.
К орудиям производства Маркс относит и такие предметы, как трубы, бочки, корзины, чаны, сосуды и т, д., служащие средством хранения предметов труда. Маркс называет их «сосудистой системой производства». В химической промышленности эти орудия играют важную роль. Но в целом они наименее показательны для характеристики уровня развития производства.
В зависимости от изменения орудий производства изменяется и рабочая сила, люди, приводящие в движение эти орудия. Поэтому исторически определенные орудия производства являются мерилом развития человеческой рабочей силы. Современное машинное производство предполагает соответствующую ступень развития людей, трудящихся, производителей материальных благ, способных благодаря своему производственному опыту и навыкам к труду производить эти машины и приводить их в движение, управлять ими. Ясно, например, что первобытный человек или неграмотный крепостной крестьянин были не в состоянии пользоваться машиной, приводить ее в движение.
Вот почему орудия труда служат показателем достигнутой обществом ступени развития производства, а вместе с тем и самих общественных отношений. «Такую же важность, как строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда» [60].
Производительные силы
«Орудия производства, при помощи которых производятся материальные блага, люди, приводящие в движение орудия производства и осуществляющие производство материальных благ благодаря известному производственному опыту и навыкам к труду, — все эти элементы вместе составляют производительные силы общества» [61].
Вульгарные материалисты (механисты) отождествляли производительные силы с техникой, с орудиями производства. Такое определение производительных сил односторонне, узко, неправильно. Оно игнорирует важнейшую производительную силу — рабочих, трудящихся.
Орудия производства сами по себе, в отрыве от людей, не представляют производительных сил общества.
«Машина, которая не служит в процессе труда, бесполезна. Кроме того она подвергается разрушительному действию естественного обмена веществ. Железо ржавеет, дерево гниёт... Живой труд должен охватить эти вещи, воскресить их из мертвых, превратить их из только возможных в действительные и действующие потребительные стоимости» [62].
Орудия производства создаются людьми, обладающими производственным опытом и навыками к труду. Поэтому люди, приводящие в движение орудия производства и производящие материальные блага, представляют важнейший элемент производительных сил. Значение этого положения исторического материализма раскрыл Ленин в ходе социалистической революции в России. После четырех лет империалистической войны и трех лет гражданской войны промышленность, железнодорожный транспорт и сельское хозяйство России были сильно разрушены. В стране не хватало хлеба. Рабочий класс голодал. Ленин писал в 1919 г., что в этих условиях главная задача — спасти рабочий класс, спасти трудящихся — важнейшую производительную силу. Если мы спасем рабочий класс, мы все восстановим и приумножим, указывал он. Практика социалистического строительства доказала правоту великого Ленина. Советский народ не только восстановил унаследованные от прошлого фабрики, заводы, шахты, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, но и совершил гигантский скачок от экономической отсталости к социалистическому прогрессу.
Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в районах СССР, подвергшихся вражеской оккупации, сотни городов, тысячи сел и деревень, фабрики, заводы, шахты, электростанции, железнодорожный транспорт, колхозы, совхозы, МТС были разрушены. Многие районы гитлеровцы превратили в зону пустыни. Казалось, многие десятилетия понадобятся, чтобы восстановить разрушенное. Но опыт показал, что в течение трех лет социалистическая промышленность достигла по валовой продукции довоенного уровня, а теперь уже превзошла этот уровень. Разрушенная врагом промышленность восстановлена на еще более высокой технической основе, чем та, которая была до войны. Сельское хозяйство и по урожайности и по валовому сбору превысило довоенный уровень.
Тём самым вновь подтверждено важнейшее положение исторического материализма о том, что рабочий класс, трудящиеся есть важнейшая производительная сила.
Иногда в понятие «производительные силы» включают не только орудия производства и рабочую силу, но и предметы труда (сырье, материалы). Но для этого нет оснований. Дело в том, что предметом труда в широком смысле является и окружающая нас природа, на которую воздействуют люди в процессе производства. В горной промышленности — это железная руда, залежи каменного угля, в рыболовстве — это рыба в водах и т.п. Поэтому включать в производительные силы предмет труда было бы неправильно; это значило бы ввести в понятие производительных сил часть географической среды.
Конечно, из этого вовсе не следует, будто мы, не включая предметы труда в производительные силы, сбрасываем их со счета, не придаем им значения в производстве. Все предмета труда, в том числе и подвергшиеся уже воздействию труда (например, полуфабрикаты — хлопок, пряжа), вместе с орудиями производства составляют средства производства.
Производительные силы выражают собой активное отношение общества к природе, к предметам и силам природы, используемым обществом для производства материальных благ.
Производственные отношения
Вторую необходимую сторону способа производства составляют производственные отношения людей. Люди, занимаясь производством, становятся не только в определенные отношения к природе, но и друг к другу. Производство материальных благ всегда, на всех ступенях развития человечества является общественным производством. Человек есть существо общественное. Он не может жить вне общества, вне производственной связи с другими людьми. Люди не могут заниматься производством обособленно, независимо друг от друга. Робинзон и «робинзонады» — это плод фантазии литераторов или буржуазных экономистов. В действительности люди всегда занимались производством не в одиночку, а группами, обществами. Поэтому в производстве люди становятся друг к другу в определенные, не зависящие от их воли отношения, производственные отношения.
«В производстве, — говорит Маркс, — люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство» [63].
Исторически существовавшие и существующие производственные отношения между людьми могут быть или отношениями сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации людей, или же отношениями, основанными на господстве и подчинении, или переходными отношениями от одной формы к другой.
Так, например, в условиях рабства, феодализма и капитализма производственные отношения имеют форму отношений господства и подчинения, отношений эксплуататоров и эксплуатируемых. Производственные отношения, выражающиеся в господстве одного класса над другим, основаны на частной собственности на средства производства и на отделении этих средств производства от непосредственных производителей.
Напротив, в условиях социалистического общества, где уже уничтожена частная собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком, производственные отношения между людьми являются отношениями товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи свободных от эксплуатации людей.
Истории известны также переходные отношения от одной формы производственных отношений к другой форме. Так, переходной формой производственных отношений являлись отношения, складывавшиеся при разложении первобытнообщинного строя. Как переходную ступень от первобытнообщинного строя к нарождавшемуся в его недрах классовому обществу можно, например, определить экономические отношения гомеровской Греции, изображенные в «Одиссее». В эпоху становления классового общества переходными являлись отношения, складывавшиеся в сельской общине (марка у германских племен, вервь у славян), пришедшей на смену прежней родовой общине. Характерной чертой сельской общины было то, что в ней наряду с частной собственностью существовала и общинная собственность. По выражению Маркса, сельская община была «переходной фазой ко вторичной формации, т. е. переходом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности» [64].
Переходные производственные отношения имеют место также в период перехода от капитализма с его отношениями господства и подчинения к социализму с его отношениями товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Однако к переходной форме производственных отношений нельзя относить все пять экономических укладов, существовавших в переходный период от капитализма к социализму в СССР. Нельзя отождествлять переходный период с переходной формой производственных отношений. Среди пяти экономических укладов переходного периода в СССР существовал ведь и капиталистический уклад, который вовсе не являлся переходной формой от отношении господства и подчинения к отношениям сотрудничества и взаимопомощи, а был одной из форм отношений господства и подчинения. Не является переходной формой и социалистический уклад, ибо он с самого начала покоится на отношениях сотрудничества и взаимопомощи трудящихся, освобожденных от эксплуатации. В данном случае переходными можно назвать лишь те отношения, которые выражали процесс преобразования мелкотоварного производства в социалистическое. В сельском хозяйстве социалистическое преобразование могло быть осуществлено лишь через ряд переходных форм, Так, например, переходной формой были производственные товарищества крестьян, через которые путем контрактации осуществлялась заготовка государством ряда сельскохозяйственных продуктов и снабжение крестьян семенами и орудиями производства. Товарищ Сталин назвал такую форму организации производства «домашней системой крупного государственно-социалистического производства в области сельского хозяйства» [65]. Одной из переходных форм от отношений простых товаропроизводителей к колхозным социалистическим отношениям сотрудничества и взаимопомощи были в СССР товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ).
Производственные отношения в каждом обществе образуют весьма сложную сеть связей и отношений между людьми, участвующими в производстве. Возьмем для примера капиталистическое общество. Здесь мы видим прежде всего капиталистическую собственность на средства производства и основанные на ней отношения эксплуатации рабочих капиталистами. К области производственных отношений относятся также капиталистическая конкуренция, разделение труда между городом и деревней. Далее, имеются определенные отношения между людьми, связанными с распределением совокупного общественного труда между различными отраслями производства. Эти производственные отношения находят свое выражение в движении таких экономических категорий, как стоимость, цена производства, анализируемых Марксом в «Капитале».
В сложной системе производственных отношений следует выделить основу, определяющую характер способа производства,— это отношение людей к средствам производства, форму собственности или, употребляя юридическое выражение, имущественные отношения.
«Если состояние производительных сил отвечает на вопрос о том, какими орудиями производства производят люди необходимые для них материальные блага, то состояние производственных отношений отвечает уже на другой вопрос: в чьем владении находятся средства производства (земля, леса, воды, недра, сырые материалы, орудия производства, производственные здания, средства сообщения и связи и т. п.), в чьем распоряжении находятся средства производства, в распоряжении всего общества, или в распоряжении отдельных лиц, групп, классов, использующих их для эксплоатации других лиц, групп, классов» [66].
Форма собственности на средства производства определяет все другие, вырастающие на ее основе производственные отношения в данном обществе: внутри фабрики, между людьми, занятыми в разных отраслях хозяйства, и т. д. Место, положение людей в производстве зависит именно от их отношения к средствам производства. Собственность на средства производства — это не просто отношение людей к вещам; это общественное отношение между людьми, выражающееся через вещи, через отношение к средствам производства: класс людей, владеющих средствами производства (капиталисты, помещики), господствует над людьми, лишенными средств производства (пролетариями, крестьянами). Например, на капиталистической фабрике отношения между капиталистом и рабочими есть отношения эксплуатации, господства и подчинения.
Рабочая сила, являясь важнейшей производительной силой, всегда носит общественный характер, и выступает то как рабы, то как крепостные, то как пролетарии и т. д.
Производственные отношения людей — это, в отличие от идеологических, материальные отношения, существующие вне сознания и независимо от сознания.
Фальсификаторы марксизма — идеалисты типа Макса Адлера, А. Богданова отождествляют производственные отношения с психическими, духовными отношениями, отождествляют общественное бытие с общественным сознанием. Основанием для этого они считают то, что люди участвуют в производстве как сознательные существа, что производственная деятельность есть сознательная деятельность; значит, заключают они, и отношения в производстве устанавливаются через посредство сознания, являются сознательными. Но из того факта, что люди вступают в общение друг с другом как сознательные существа, еще отнюдь не следует, что производственные отношения тождественны общественному сознанию. «Вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях — и особенно в капиталистической общественной формации — не сознают того, какие общественные отношения при этом складываются, по каким законам они развиваются и т. д.» [67].
Канадский фермер, продавая хлеб, вступает в определенные производственные отношения с производителями хлеба на всемирном рынке: с аргентинскими фермерами, с фермерами США, Дании и т. д., но он не сознает этого, не сознает того, какие общественные производственные отношения при этом складываются.
Ревизионисты, утверждая, что производственные отношения будто бы имеют нематериальный характер, ссылаются на положение Маркса о том, что отношения стоимости есть производственные отношения, но стоимость не содержит в себе ни атома вещества, из которого состоят товары. Действительно, стоимость отлична от натуральной формы товара. Но она есть объективное, существующее независимо от сознания, реальное общественное производственное отношение, т. е. материальное отношение. Понятие «материальное отношение» не сводится только к отношениям между вещами. Отношения между людьми в процессе производства — это тоже материальные отношения, они существуют вне нашего сознания. Их основа — это отношения собственности на средства производства: фабрики, заводы, землю, в материальности которых могут сомневаться лишь умалишенные или люди, находящиеся всецело в плену буржуазной идеалистической философии.
Отношение эксплуатации человека человеком — это весьма материальное отношение. Рабочий класс капиталистических стран ежедневно, ежечасно чувствует на себе гнет этой эксплуатации. Он видит и понимает коренное различие между этой реально существующей эксплуатацией и теми иллюзорными благами, которые ему обещают на «том свете» идеологи буржуазии — христианские и социал-демократические попы.
Какой бы характер ни носили производственные отношения, они всегда, на всех ступенях развития общества составляют такой же необходимый элемент производства, как и производительные силы.
Способ производства
Производство всегда осуществляется в конкретно-исторической форме, при определенном уровне производительных сил и при определенных производственных отношениях между людьми.
Общественное производство, взятое в его конкретно-исторической форме, на определенной ступени общественного развития,— это и есть способ производства. Иначе говоря — производительные силы и производственные отношения в их единстве и образуют способ производства материальных благ. Производительные силы и производственные отношения — это две стороны способа производства. Каждый исторически определенный способ производства является воплощением единства определенных производительных сил и исторически определенной формы производственных отношений.
«Каковы бы ни были общественные формы производства,— говорит Маркс,— рабочие и средства производства всегда остаются его факторами. Но, находясь в состоянии отделения одни от других, и те и другие являются его факторами лишь в возможности. Для того чтобы вообще производить, они должны соединиться. Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи общественного строя» [68].
Каков способ производства, господствующий в данном обществе, таково и само общество, его структура, физиономия. Антагонистическими способами производства определяется разделение общества на противоположные классы. Каков способ производства, таковы и классы в данном обществе, характер политического строя и господствующие в обществе взгляды, идеи, теории и соответствующие учреждения. С коренным изменением способа производства — этого экономического фундамента общества — рано или поздно изменяется вся социальная структура общества, совершается переход от одной формы общества к другой.
К какому именно общественному строю осуществляется переход в данную эпоху, зависит вовсе не от произвола людей, не от их субъективных намерений, а в последнем счете от достигнутой ступени развития материальных производительных сил. От рабства нельзя было перейти сразу к капитализму или от феодализма к социализму. От капитализма, после того как он обобществил производство, развил общественные производительные силы и тем самым выполнил свою историческую роль и исчерпал себя, есть только один путь вперед — к социализму, к коммунизму.
Переход от одной общественно-экономической формации к другой всегда подготовляется ходом развития материального производства, ходом развития материальных производительных сил. Новая форма общества не может возникнуть, прежде чем в недрах старого строя не созреют материальные условия ее существования. Этот переход от одной общественной формы к другой происходит не стихийно, не автоматически, а в результате революционных переворотов, в результате ожесточенной борьбы передовых сил общества, передовых классов, против отживающих, реакционных классов, стоящих на защите старых экономических, социальных и политических отношений.
Итак, источник формирования общественных идей, общественных взглядов, политических теорий и политических учреждений нужно искать в условиях материальной жизни общества.
В системе условий материальной жизни общества способ производства материальных благ является решающей и определяющей силой. Каков способ производства, господствующий в данном обществе, таково и само общество, его структура, таковы и существующие в данном обществе идеи, взгляды, учреждения.
Чтобы не ошибиться в политике, учит товарищ Сталин, пролетарская партия, должна в своей политике исходить не из отвлеченных принципов человеческого разума, а из конкретных условий материальной жизни общества как решающей силы общественного развития. Политические партии, игнорирующие решающую роль условий материальной жизни общества, неизбежно терпят поражение.
Великая жизненная сила марксистско-ленинской партии, партии большевиков, состоит в том, что она всегда в своей деятельности опирается на научное понимание развития материальной жизни общества, никогда не отрываясь от его реальной жизни.
Глава третья. Три особенности производства
Главной силой, определяющей строение и развитие общества, является способ производства материальных благ. Но как и в силу каких причин происходит изменение и развитие самого производства? Какова диалектика развития производительных сил и производственных отношений? Каковы законы перехода от одного способа производства к другому?
На эти вопросы в общей форме дал ответ Маркс еще в предисловии к «К критике политической экономии» (1859). Маркс указывал, что развитием производительных сил обусловливается изменение производственных отношений; но производственные отношения не есть нечто пассивное; возникнув на основе развития производительных сил, данная форма производственных отношений оказывает обратное воздействие на весь ход развития производительных сил. Производственные отношения Маркс рассматривал как форму развития производительных сил. В «Капитале» он разработал дальше теорию исторического материализма на основе детального анализа одной общественно-экономической формации — капитализма. Он всесторонне рассмотрел законы возникновения, развития и гибели капиталистического способа производства, всю сложную диалектику развития производительных сил и производственных отношений капиталистического общества.
В монументальном исследовании «Развитие капитализма в России» (1899) Ленин на обширном историческом материале показал процесс смены феодального способа производства капиталистическим в России. Продолжением и развитием «Капитала» К. Маркса явилась гениальная работа В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916). В этой работе Ленин дал глубочайший анализ закономерностей развития производительных сил и производственных отношений в эпоху монополистического капитализма — империализма.
В других своих многочисленных работах и прежде всего в таких гениальных трудах, как «Государство и революция», «Очередные задачи Советской власти», «О продовольственном, налоге», «О кооперации», в статьях «Великий почин», «О нашей революции» Ленин дал анализ процесса развития производительных сил и производственных отношений в период перехода от капитализма к социализму.
В трудах товарища И. В. Сталина, в частности в книгах «Вопросы ленинизма», «История ВКП(б). Краткий курс», в особенности в его работах «О диалектическом и историческом материализме», «Относительно марксизма в языкознании» и других, теория исторического материализма получила дальнейшую гениальную разработку. Обобщив громадный исторический опыт и прежде всего опыт строительства социализма в СССР, товарищ Сталин всесторонне осветил закономерности развития производительных сил и производственных отношений.
Открытые и сформулированные товарищем Сталиным три особенности производства выражают собой наиболее существенные и общие закономерности развития производительных сил и производственных отношений, присущие всем общественноэкономическим формациям. Товарищ Сталин показал, какова внутренняя диалектика развития производительных сил и производственных отношений, какова закономерность смены одного способа производства другим.
1.Первая особенность производства
Постоянное изменение и развитие производства
Буржуазная социология и буржуазная политическая экономия метафизически рассматривают общественную форму производства, да и всё общество, общественный строй, как нечто неизменное, неподвижное, застывшее. С точки зрения буржуазных идеологов, капиталистический способ производства и буржуазное общество в целом — это незыблемая, вечная, непреходящая, надисторическая форма. Под этим углом зрения они рассматривают всю историю человеческого общества. Уже в палке, которой дикарь сбивает с деревьев плоды, буржуазные экономисты видят зародыш капитала, а в самом дикаре — прообраз капиталиста. Поэтому, например, отношения античного рабовладельческого общества идеологи буржуазии сплошь и рядом отождествляют с капиталистическими.
В действительности производство и его общественные формы не неизменны. История общества представляет собой историю прогрессивной смены одного способа производства другим.
Первой особенностью общественного производства, учит И. В. Сталин, является то, что оно никогда не застревает в течение длительного времени на одном месте, что оно постоянно изменяется и развивается, причем изменения в способе производства неизбежно вызывают изменение всего общественного строя, общественных идей, политических взглядов, политических, правовых и других учреждений.
Изменения в производстве могут происходить крайне медленно, как это было на ранних ступенях развития общества, или весьма быстро, как это отмечено за последние два-три столетия. Постоянная изменяемость производства вытекает из его внутренней природы, из его сущности, как реального процесса воспроизводства общественной жизни. Представляя собой постоянную жизненную основу общества, процесс производства является непрерывным, постоянно возобновляющимся. Прекращение производства во всем обществе, хотя бы на несколько недель, означало бы гибель общества.
Процесс производства, взятый в его непрерывности, постоянном возобновлении, является процессом воспроизводства. «Какова бы ни была общественная форма процесса производства,— пишет Маркс,— он во всяком случае должен быть непрерывным, т. е. должен периодически все снова и снова пробегать одни и те же стадии. Так же, как общество не может перестать потреблять, так не может оно и перестать производить. Поэтому всякий процесс общественного производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время процессом воспроизводства.
Условия производства суть в то же время условия воспроизводства. Ни одно общество не может непрерывно производить, т. е. воспроизводить, не превращая непрерывно известной части своего продукта снова в средства производства, или элементы нового производства» [69].
Непрерывное возобновление процесса производства в прежних масштабах и на том же уровне (простое воспроизводство) может осуществляться только при том условии, если снова и снова возобновляются потребленные средства производства (орудия производства, сырье, вспомогательные материалы) и рабочая сила. Но, для того чтобы это замещение потребленных, например в течение года, средств производства стало возможным, для этого в годовом продукте общества должны содержаться не только средства личного потребления, необходимые для воспроизводства рабочей силы, но и средства производства в соответствующей натуральной форме; орудия, сырье, вспомогательные материалы. Это — необходимое условие непрерывности процесса производства, сохранения его хотя бы на уровне простого воспроизводства, т. е. в прежних размерах.
Обязательным условием непрерывности процесса производства является также постоянное воспроизводство наряду с вещественным и личного фактора процесса производства – людей, рабочей силы. Процесс личного потребления рабочими, трудящимися (еда, отдых, потребление одежды, обуви, лечение и т. п.) является одновременно процессом воспроизводства рабочей силы.
В постоянно возобновляющемся процессе производства воспроизводятся и те производственные отношения (например, феодальные, капиталистические или социалистические), в которых этот процесс совершается.
На первых ступенях общественного развития, при крайне низкой производительности труда, когда люди ещё почти не располагали прибавочным продуктом, процесс производства снова и снова возобновлялся в прежних масштабах. Но, хотя и медленно, в течение тысячелетий накоплялся производственный опыт, производственные навыки первобытных людей. Этот опыт закрепляется в орудиях производства, которые делаются всё совершеннее, в результате чего повышается производительность труда.
С развитием производительности труда возрастает прибавочный труд и, соответственно, прибавочный продукт. Благодаря этому открывается возможность расширенного воспроизводства. Расширенное воспроизводство предполагает, что из вновь произведённого годового продукта, включающего прибавочный продукт, не только возмещаются потреблённые средства производства, но они увеличиваются количественно или совершенствуются качественно, развиваются. Это значит, что по крайней мере часть прибавочного труда общества должна быть затрачена не на производство предметов личного потребления, например предметов роскоши, а на производство дополнительных орудий и средств производства или развитие орудий производства.
Если прибавочный труд затрачивается только на производство предметов роскоши для господствующего эксплуататорского класса, то расширенное воспроизводство, даже при наличии прибавочного труда, невозможно (так было, например, в период упадка античного общества).
«В самых различных общественно-экономических формациях, - писал Маркс, - имеет место не только простое воспроизводство, но и воспроизводство в расширенных размерах, хотя последнее совершается не в одинаковом масштабе. С течением времени всё больше производится и больше потребляется, следовательно больше продукта превращается в средства производства. Однако процесс этот не является накоплением капитала, не является, следовательно, и функцией капиталиста до тех пор, пока рабочему средства его производства, а следовательно, его продукты и его жизненные средства не противостоят ещё в форме капитала» [70].
При капитализме расширенное воспроизводство осуществляется не непрерывно, а циклично, с периодическими кризисами перепроизводства, сопровождающимися катастрофами, сокращением производства, массовой безработицей й разрушением производительных сил. Напротив, социалистическое расширенное воспроизводство осуществляется непрерывно и означает неуклонный рост производительных сил, расширение производства и подъем уровня материальной и культурной жизни трудящихся. В отличие от капиталистического воспроизводства, являющегося расширенным воспроизводством отношений эксплуатации, социалистическое расширенное воспроизводство есть воспроизводство социалистических производственных отношений товарищеского сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации трудящихся людей.
Если рассматривать весь процесс исторического развития, то, несмотря на некоторые зигзаги и попятные движения, в целом можно видеть прогрессивное, поступательное развитие производительных сил общества. Это путь от каменного топора и охотничьего лука до современных исполинских машин, приводимых в движение силой пара и электричества. На первых порах в общественном производстве использовалась по преимуществу мускульная энергия человека и прирученных им животных. Когда наука и техника достигли высокого уровня развития, человек широко использовал силы пара, электричества, химических процессов, а ныне стоит накануне широкого использования в промышленных целях одного из самых мощных источников энергии — внутриатомной энергии.
Товарищ Сталин дает следующую схематическую картину развития производительных сил от древнейших времен до наших дней:
«Переход от грубых каменных орудий к луку и стрелам и в связи с этим переход от охотничьего образа жизни к приручению животных и первобытному скотоводству; переход от каменных орудий к металлическим орудиям (железный топор, соха с железным лемехом и т. п.) и, соответственно с этим, переход к возделыванию растений и к земледелию; дальнейшее улучшение металлических орудий обработки материалов, переход к кузнечному меху, переход к гончарному производству и, соответственно с этим, развитие ремесла, отделение ремесла от земледелия, развитие самостоятельного ремесленного и потом мануфактурного производства; переход от ремесленных орудии производства к машине и превращение ремесленно-мануфактурного производства в машинную промышленность; переход к системе машин и появление современной крупной машинизированной промышленности,— такова общая, далеко неполная картина развития производительных сил общества на протяжении истории человечества» [71].
История общества как история способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков
Вместе с развитием производительных сил изменялись и способы производства материальных благ. На различных ступенях общественного развития складывались различные способы производства. Так, при первобытнообщинном строе имеет место один способ производства, при рабовладельческом — другой, при феодализме — третий, при капитализме — четвертый, при социализме и коммунизме — пятый.
В обществе, как и в природе, наряду с новым всегда существует старое. Например, в эпоху рабства сохранялись еще и остатки общинных отношений, при капитализме до сих пор существуют унаследованные от прошлых эпох экономические уклады: остатки рабства, феодализма, простое товарное хозяйство. Чтобы выяснить структуру общества, природу данной общественно-экономической формации, следует найти господствующий в данном обществе способ производства, определяющий весь общественный строй, характер государства и права, господствующие идеи и общественные теории.
В соответствии со сменой способов производства неизбежно изменяется все общественное устройство, классовая структура общества, изменяются общественные идеи и взгляды, вся духовная жизнь людей, а также политические, правовые и иные учреждения. Изменение образа материальной жизни общества приводит к изменению образа мыслей людей. Так, образ мыслей людей первобытно-общинного строя глубоко отличался от образа мыслей людей рабовладельческого или феодального строя. Образ мыслей людей в социалистическом обществе коренным образом отличается от образа мыслей, господствующего в буржуазном обществе.
Следовательно, глубочайшую причину и основу всех общественных изменений надо искать прежде всего в изменении производства, в переворотах, происходящих в способе производства. Это значит, что история человеческого общества является прежде всего историей развития производства, историей способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков, историей развития производительных сил и производственных отношений.
Каждое новое поколение людей наследует от предшествующих поколений созданные ими производительные силы. Эти унаследованные от прошлого производительные силы являются исходным пунктом дальнейшего развития производства, производительных сил и производственных отношений. Так образуется преемственная связь в историческом развитии человечества, история человечества, «…которая тем полнее становится историей человечества, чем больше разрастаются производительные силы людей и, следовательно, их общественные отношения» [72].
В ходе исторического развития, в особенности во время социальных революций уничтожались и уничтожаются старые, отжившие производственные отношения, старые, отжившие свой век формы государства и права и утверждаются новые, передовые производственные отношения, соответствующие достигнутой ступени развития производительных сил; на смену реакционным, отсталым идеям приходят новые, передовые идеи. Но при всех общественных переворотах сохраняются достигнутые обществом производительные силы. Социальные революции потому и совершаются, что старый общественно-политический строй, старые производственные отношения становятся тормозом развития производительных сил, что необходимо спасти от разрушения созданные обществом производительные силы. В наш век уничтожение капитализма необходимо, потому что без этого нельзя спасти от разрушения современные общественные производительные силы.
История человеческого общества, будучи историей сменяющих друг друга способов производства, представляет собою тем самым прежде всего историю производителей материальных благ, историю трудящихся — главной, решающей силы производственного процесса. Это значит, указывает товарищ Сталин, что историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общества к действию королей, полководцев, «завоевателей», а должна заняться изучением истории производителей материальных благ, истории трудящихся масс, истории народов.
Из сказанного вытекает тот важный вывод, что ключ к изучению общества, всей его истории надо искать не в головах людей, а в способе производства материальных благ, существующем на данной ступени развития общества.
2. Вторая особенность производства
Итак, мы установили, что производство не стоит на месте, а находится всегда в состоянии изменения и развития. Каким же образом происходит изменение способа производства, какова последовательность, внутренняя логика, внутренняя связь в этом изменении? Иначе говоря — каковы законы изменения и развития производительных сил и производственных отношений?
Изменение и развитие производства начинается всегда с изменения и развития производительных сил, прежде всего с изменения и развития орудий производства. Производительные силы являются наиболее подвижным и революционным элементом производства. Сначала изменяются и развиваются производительные силы общества, а затем, в зависимости от этих изменений и в соответствии с ними, неизбежно изменяются и развиваются производственные отношения людей, экономические отношения.
Например, развившиеся в недрах феодального общества производительные силы вызвали к жизни новые, капиталистические производственные отношения. Возникшие в недрах капитализма современные общественные производительные силы вызывают необходимость установления новых, социалистических производственных отношений. Социалистические производственные отношения уже возникли и победили в СССР в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Они могли возникнуть и упрочиться только на основе развившихся в условиях капитализма производительных сил.
Источники развития производительных сил
Если производительные силы являются наиболее подвижным, революционным элементом производства, определяющим в конечном счете развитие всего общества, то встает вопрос: а чем обусловливается, от чего зависит развитие самих производительных сил? Чем объяснить, что развитие производительных сил на ранних ступенях истории общества было крайне медленным, а современная эпоха, наоборот, характеризуется быстрым темпом развития производительных сил?
Известно, например, что в эпоху капитализма за одно-два столетия были достигнуты более значительные успехи в развитии производительных сил, чем за всю предшествующую историю человечества, исчисляющуюся десятками тысячелетий. В 1848 г., когда капитализм еще шел по восходящей линии развития, Маркс и Энгельс писали: «Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было неизменное сохранение старого способа производства. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших» [73].
Эту же мысль Маркс высказывал и в «Капитале». Он подчеркивал, что технический базис современной крупной промышленности безусловно революционен, тогда как технический базис всех старых способов производства по существу был консервативен [74]. Но капитализм способствовал быстрому развитию производительных сил лишь до тех пор, пока он развивался по восходящей линии. На современном этапе, когда капиталистический строй развивается по нисходящей линии, капиталистические монополии систематически задерживают технический прогресс, а периодические кризисы перепроизводства и порождаемые капитализмом империалистические войны ведут ко всё большему разрушению производительных сил.
Известно, далее, что темпы развития производительных сил в социалистическом обществе намного превысили самые высокие темпы развития, имевшие место при капитализме. Если в главных странах капитализма процесс индустриализации продолжался не менее 50—100 лет, то в СССР индустриализация осуществлена в невиданных в истории масштабах в течение 13 лет. Но не только темпы, а и самый характер закономерностей развития производительных сил в социалистическом обществе в корне отличен от законов их развития при капитализме.
Итак, чем же обусловливается различие законов, характера развития производительных сил в различных общественных формациях? Почему в различные исторические эпохи темпы развития производительных сил различны?
На эти вопросы пытался дать ответ Г. В. Плеханов. В ряде своих работ — в «Основных вопросах марксизма», а также в статье, посвященной книге Л. Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки»,—Плеханов ставит вопрос так. Строение и развитие общества в конечном счете определяется развитием производительных сил. А от чего зависит развитие последних? В конечном счете, от свойств географической среды, отвечает он. Таким образом, Плеханов в этих работах делает явные уступки географическому направлению, впадает в географический уклон; он ищет ответа на поставленный вопрос вне самого производства. В предыдущей главе уже указывалось, что влиянием географической среды как относительно неизменной величины не может быть объяснено различие в темпах развития производительных сил в различные периоды.
Тот факт, что темпы развития производительных сил в Англии отстают от темпов развития СССР, что СССР за 13 лет, с 1928 по 1941 г., по объему промышленной продукции не только догнал, но и перегнал Англию, заняв первое место в Европе и второе место в мире,— это географическими, природными условиями объяснить нельзя. Теория, объясняющая развитие производительных сил, а следовательно, и всего общества, свойствами географической среды, уводит от познания действительных причин развития производительных сил, причин, лежащих в способах производства. Вместе с тем эта теория ведет к фаталистическим выводам, к преклонению перед стихийными силами, к пассивности, к бездеятельности людей.
Ренегат К. Каутский в своей книге «Материалистическое понимание истории» объясняет развитие производительных сил развитием познания, развитием науки: производительные силы развиваются вследствие развития техники, техника развивается в зависимости от научного прогресса, от развития познания природы. Можно ли признать такое объяснение правильным? Нет, это — идеалистическое, ненаучное объяснение развития производительных сил.
Развитие науки, в особенности естествознания, несомненно, оказывает огромное влияние на развитие производительных сил. Современная промышленность: металлургическая, машиностроительная, электротехническая, химическая и т. д., невозможна и немыслима без всестороннего применения и использования современного естествознания — механики, физики, химии. Темпы развития производительных сил в эпоху крупного, машинного производства резко возросли в результате применения естествознания к технике. «Посредством машин, химических процессов и других методов она (крупная промышленность.— Ф. К.) постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабочих и в общественных сочетаниях процесса труда» [75]. Это особенно характерно для эпохи социализма, открывшей науке безграничные возможности развития и широчайшего применения ее открытий в области производства.
Но, раньше чем говорить о влиянии науки на развитие производительных сил, нужно учитывать, что сама наука своим существованием и развитием обязана прежде всего развитию производства, т. е. в последнем счете развитию производительных сил. Развитием производства определяются как постановка задач перед естествознанием, так и средства решения этих задач. Именно нужды, потребности производства являются важнейшим и определяющим стимулом развития самой науки. В письме к Штаркенбургу Энгельс писал:
«Если, как Вы утверждаете, техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов. Вся гидростатика (Торичелли и т. д.) вызвана была к жизни потребностью регулировать горные потоки в Италии в XVI и XVII веках. Об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость» [76].
Не только появление тех или иных открытий, изобретений, но и сама возможность их использования зависит от условий производства. Известно, например, что свойства пара быть двигательной силой, источником энергии были открыты еще в древней Греции, в так называемый александрийский период. Но использование этого открытия тогда, в условиях рабовладельческого способа производства, оказалось невозможным. Величайшее открытие гениального русского механика Ползунова — паровая машина — не могло быть использовано в условиях феодального способа производства.
Возможность использования научных открытий для развития производительных сил общества зависит не только от характера способа производства, но и от ступени его развития. Так, капиталистический способ производства в свое время открыл возможность сознательного применения естествознания к промышленности и сельскому хозяйству; в эпоху империализма загнивающий капитализм всячески тормозит внедрение крупнейших открытий современной науки и техники в производство, так как это противоречит интересам капиталистических монополий, новые изобретения обесценивают функционирующий основной капитал, требуют смены оборудования и т.д.
В 1929—1933 гг., во время мирового экономического кризиса, мир был свидетелем похода капиталистической реакции против науки и научных изобретении, В этот поход включилась наряду с буржуазными политическими деятелями и представители буржуазной науки. Причину кризиса перепроизводства и всех вытекающих отсюда социальных бед и потрясений они видели в «непомерном» росте науки и научных изобретений. В разгар этого похода реакцией был даже выдвинут лозунг: «назад к кирке и лопате».
Широко известна из американской печати история проекта гидротехнического сооружения в США на реке св. Лаврентия. Осуществление этого проекта способствовало бы развитию производительных сил и привело бы к значительному снижению стоимости электроэнергии. Но осуществление проекта снизило бы прибыли энергетических предприятий, контролируемых банкирским домом Моргана и К0. Опубликованные в американской печати документы свидетельствуют о том, что корпорации и агентства, находящиеся под влиянием Дж. П. Моргана и К°, пользуются любой возможностью, чтобы помешать использованию энергетических ресурсов реки св. Лаврентия. Поэтому проект, обсуждавшийся неоднократно в течение многих лет американским сенатом, все же не был утвержден: против него были мобилизованы подкупленная пресса, сенаторы, губернатор Нью-Йорка и другие крупнейшие правительственные чиновники. Сенатор Ла Фоллетт, выступая при обсуждении этого проекта в сенате США, говорил: «Частные электрокомпании пользовались любыми окольными путями, чтобы воспротивиться осуществлению правительственного плана гидротехнических сооружений на реке Св Лаврентия... На протяжении всех этих лет, с 1932 г. (начало Нового курса), они прибегли к самым фантастически уловкам, чтобы отвлечь внимание общественности от действительно важного вопроса». Так как осуществление проекта затрагивало интересы капиталистических монополий, их прибыли, он был сенатом отвергнут, и его реализация оказалась невозможной. Правительство США, выражающее интересы монополий, сняло и в конце концов похоронило этот проект.
Интересы капиталистических монополий и потребности общественного развития в корне противоречат друг другу.
Советская делегация в организации Объединенных наций и все прогрессивное человечество уже в течение ряда лет борются за запрещение атомного оружия и за использование атомной энергии только в мирных целях. Упорное противодействие этому со стороны американского и английского правительств, выражающих интересы капиталистических монополий, показывает, какие цели ставит ныне перед наукой буржуазия. В условиях империализма развитие научной мысли направляется капиталистическими монополиями крайне односторонне, преимущественно для военных целей, т. е. для целей разрушения уже созданных производительных сил.
Многочисленные примеры того, как капиталистические монополии тормозят внедрение новых технических открытий, как они толкают научно- исследовательскую мысль в направлении, противоречащем интересам народов и самой науки, приводит Уэнделл Бердж в книге «Международные картели». Показательна история метил-метакрилата, одного из видов пластмассы. Из метил-метакрилата делаются щиты от ветра для самолетов и многие другие изделия; он же оказался пригодным для изготовления искусственных зубов и коронок. В результате монопольного контроля, установленного капиталистическим концерном «Дюпон» и фирмой «Ром энд Хаас» над производством и сбытом этого материала, были установлены различные отпускные цены: метил-метакрилат для промышленных целей отпускали по 85 центов за фунт, а для зубопротезного дела по 45 долларов за фунт. «Врачи вскоре убедились, что нет никакой разницы между материалами, вырабатывавшимися для промышленности и для зубопротезного дела. В результате они стали перекупать метил-метакрилат у промышленников по дешевой промышленной цене, что, как можно предполагать, должно было благоприятно отразиться на пациентах» [77]. Но это ударило по интересам капиталистических монополий. Они увидели в действиях врачей-протезистов не больше, не меньше, как незаконную «контрабанду».
Чтобы воспрепятствовать врачам применять дешевый материал, монополистическая клика поставила перед научно-исследовательскими лабораториями «научную» задачу: ввести в метил-метакрилат, отпускаемый для промышленных целей, долю отравляющих веществ — мышьяка или свинца, чтобы сделать невозможным использование его врачами-протезистами.
Поразительное извращение сущности научно-исследовательской работы! — восклицает по этому поводу Уэнделл Бердж. «Монополии стремятся охранять интересы крупного частного капитала и навсегда зажать в тиски прогресс науки и техники» [78].
Колоссальная недогрузка производственного аппарата, хроническая безработица тормозят развитие производительных сил и использование научно-технических открытий при капитализме.
Развитие науки, взятое само по себе, еще не может объяснить законы развития производительных сил. Научные открытия лишь создают возможность развития техники. Но превращение этой возможности в действительность зависит от целого ряда условий и прежде всего от характера способа производства. Возможности, направление развития научной мысли, возможности использования научных открытий в производстве зависят всецело от способа производства, от характера общественного строя.
Если развитие производительных сил нельзя объяснить ни географической средой, ни развитием науки, то, может быть, следует искать самые глубокие коренные причины развития производительных сил в росте потребностей людей? Разве при всех общественных формациях производство не служит в конечном счете удовлетворению насущных потребностей людей в пище, одежде, обуви, жилище, а также в орудиях труда, необходимых для производства?
Конечно, рост потребностей людей и общества в целом оказывает огромное влияние на развитие производительных сил. Но рост потребностей сам зависит от развития производства, от способа производства, от строения общества. Потребности рабов были одни, потребности рабочих капиталистической фабрики иные, а потребности рабочих социалистического предприятия отличаются от потребностей рабочих капиталистических стран.
В диалектическом единстве и взаимодействии производства и потребления определяющим является производство. Во-первых, производство доставляет потреблению материал, предмет, продукт. С этой стороны производство создает возможность потребления, порождает потребление. Во-вторых, производство определяет не только предметы потребления, но и способы потребления. Производство создает потребителей. Потребность в освещении может быть удовлетворена и лучиной, и свечой, и керосиновой лампой. Потребление электрических ламп стало возможно с возникновением их производства.
«Когда потребление,— пишет Маркс,— выходит из своей первоначальной природной грубости и непосредственности,— а длительное пребывание его на этой ступени было бы, в свою очередь, результатом закосневшего в первобытной дикости производства,— то оно само, как побуждение, опосредствуется предметом... Предмет искусства,— а также всякий другой продукт,— создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета» [79].
Итак, во взаимодействии производства и потребления исходным и определяющим моментом является производство. В условиях капитализма нет и не может быть соответствия между производством и потреблением: потребление масс ограничено их платежеспособностью и вследствие этого постоянно отстает от развития производства. Как известно из политической экономии, непосредственная цель, движущий мотив капиталистического производства — это производство прибавочной стоимости, накопление капитала. Накопление капитала своим следствием имеет нищенский уровень жизни производителей, трудящихся, снижение материальной обеспеченности рабочего класса и всех трудящихся, снижение уровня их потребления.
Наоборот, при социализме рост потребления (покупательной способности) масс обгоняет рост производства. Ведущей закономерностью социалистического производства является непрерывный рост потребления трудящихся, подъем и улучшение их материального положения.
Следовательно, потребление, его характер, размеры и рост зависят от способа производства. Поэтому главные, определяющие причины развития производительных сил следует искать не вне производства, а в самом производстве, в способе производства.
Жизненная необходимость заставляет людей постоянно и непрерывно заниматься производством материальных благ, чтобы сохранить и воспроизводить свою жизнь. Эта же неумолимая необходимость вынуждает людей постоянно совершенствовать орудия труда, улучшать способы воздействия на природу, чтобы облегчить труд и сделать его более производительным.
Человек, воздействуя на природу, изменяет вместе с тем и свою собственную природу. Выше мы уже говорили, что в процессе труда накапливается производственный опыт людей, приобретаются и совершенствуются трудовые навыки, повышается квалификация, совершенствуются методы труда. Вместе с возрастанием производственного опыта, навыков к труду происходит изменение, совершенствование орудий производства. Накапливаемый производственный опыт воплощается, закрепляется в усовершенствованных орудиях производства и благодаря этому передается из поколения в поколение. Даже незначительные усовершенствования, взятые в общественном масштабе, накапливаясь из года в год, из десятилетия в десятилетие (а на ранних ступенях развития общества — даже из столетия в столетие), приводят в конце концов к более или менее крупным переворотам в орудиях производства, в технике производства.
В условиях первобытно-общинного строя люди, чтобы увеличить свою власть над природой, чтобы сохранить свою жизнь, на протяжении многих тысячелетий незаметно, крайне медленно, но все же совершенствовали каменные орудия труда, обтесывая, обтачивая и шлифуя их, приспособляя камень для разных целей: для метания в зверей, для резания, для удара или долбления дерева. Открытие огня, а затем приручение диких животных, переход к скотоводству и земледелию — весь прогресс в развитии производительных сил является результатом деятельности не отдельных героев или изобретателей, а многих поколений производителей, трудящихся.
Каждое новое поколение находит производительные силы, созданные предшествующими поколениями; для новых поколений эти созданные предшественниками производительные силы служат исходным, отправным пунктом их дальнейшего развития. Каждый новый шаг в развитии производительных сил определяется уже достигнутой ступенью их развития. Здесь действует внутренняя логика, необходимая последовательность в развитии. Так, например, известно, что приручению диких животных и переходу к скотоводству предшествовало развитие охоты, а условием развития охоты было изобретение лука и стрелы; скотоводство же в свою очередь послужило исходным моментом для перехода к производству молочных продуктов и использованию людьми для своих нужд шерсти, кожи и шкур. Скотоводство отчасти обусловливало и переход к земледелию там, где возделывание злаков первоначально было связано не с личным потреблением, а с производством корма для скота.
Эта внутренняя логика развития производительных сил, обусловленность каждого последующего шага в их развитии предшествующим уровнем их, сохраняется, продолжает действовать и на более высоких ступенях общественного прогресса. Открытие внутриатомной энергии, которая в недалеком будущем станет новой гигантской производительной силой, предполагает не только высокое развитие науки, но и высокий уровень развития техники, электрификации.
Технический переворот в одной отрасли производства неизбежно всегда рано или поздно вызывал и вызывает технические перемены в других, смежных отраслях производства. Так, например, изобретение прядильной машины и переход к машинному прядению вызвали машинное ткачество, а это в свою очередь обусловило революцию в белильном, ситцепечатном и красильном производстве. Вместе с тем капиталистическое машинное производство во всех указанных отраслях получило широкое распространение только тогда, когда ткацкие, прядильные и другие машины стали производиться также при помощи машин.
«Крупная промышленность должна была овладеть характерным для нее средством производства, самою машиной, должна была производить машины машинами. Только тогда она создала адэкватный ей технический базис и стала на свои собственные ноги» [80].
Изменение орудий производства в свою очередь оказывает влияние на изменение производственного опыта людей, их навыков к труду.
Закономерность развития производительных сил такова, что сначала происходят изменения в орудиях производства, а затем, в соответствии с этим, изменяются и люди, применяющие эти орудия. Так было, например, в условиях капиталистического производства, когда переход к машинному производству потребовал нового рабочего, резко отличающегося от средневекового ремесленника. Правда, для технического осуществления изобретений Аркрайта, Вокансона, Уатта в Англии уже имелись, как отмечал Маркс, искусные рабочие, подготовленные в период мануфактуры. Но новые орудия производства (машины) потребовали массового изменения производителей, способных применить эти орудия. Эта массовая рабочая сила создавалась постепенно из вчерашних мануфактурных рабочих, из рабочих домашней промышленности и ремесленников. Пока не было машины, не могло быть и рабочих, способных работать на этой машине. Без паровоза не мог появиться машинист, без трактора и комбайна — тракторист и комбайнер.
Новая техника, новые орудия производства вызывают к жизни и новых людей, способных привести в движение эту новую технику.
В условиях социалистического производства в СССР новые кадры рабочих и колхозников, способных полностью овладеть новой передовой техникой, возникли не сразу. Они были созданы в процессе индустриализации страны, а в сельском хозяйстве — в результате коллективизации и внедрения новой сельскохозяйственной техники. Характеризуя пройденный Советским Союзом путь в деле подготовки кадров, товарищ Сталин говорил на приеме делегации металлургов в декабре 1934 г.:
«У нас было слишком мало технически грамотных людей. Перед нами стояла дилемма: либо начать с обучения людей в школах технической грамотности и отложить на 10 лет производство и массовую эксплуатацию машин, пока в школах не выработаются технически грамотные кадры, либо приступить немедленно к созданию машин и развить массовую их эксплуатацию в народном хозяйстве, чтобы в самом процессе производства и эксплуатации машин обучать людей технике, выработать кадры. Мы выбрали второй путь... За 3-—4 года мы создали кадры технически грамотных людей как в области производства машин всякого рода (тракторы, автомобили, танки, самолеты и т. д.), так и в области их массовой эксплуатации. То, что было проделано в Европе в продолжение десятков лет, мы сумели проделать вчерне и в основном в течение 3—4 лет. Издержки и перерасходы, поломка машин и другие убытки окупились с лихвой. В этом основа быстрой индустриализации нашей страны» [81].
Таким образом, в процессе производства изменяются и развиваются как орудия производства, так и люди, приводящие их в движение.
В зависимости от характера способа производства изменяются и стимулы, побуждающие людей совершенствовать и улучшать орудия производства. Большая или меньшая заинтересованность в результатах труда или отсутствие этой заинтересованности вызывают различное отношение непосредственного производителя к совершенствованию орудий производства. Так, например, при первобытно-общинном строе действовало непосредственное стремление людей облегчить свой труд и добиться ближайшей, ощутимой выгоды для себя. Здесь производство непосредственно служило целям потребления.
В условиях капитализма рабочий не заинтересован в усовершенствовании орудий производства, так как новые, более совершенные машины выталкивают его из процесса производства. Плоды повышающейся производительной силы труда присваивает капиталист. Рост производительности труда при капитализме означает усиление эксплуатации рабочих. Движущим мотивом производства для капиталистов и, следовательно, стимулом развития производительных сил при капитализме служит ненасытная жажда прибыли, производства прибавочной стоимости, накопления капитала. Непосредственное производство здесь не рассчитано на потребление. Капиталисту безразличны нужды народа. Он готов производить все, что угодно: хлеб или жевательную резинку, духи или удушливые газы, пылесосы или атомные бомбы. Капиталиста интересуют только прибыль и. размеры этой прибыли. Лишь в конечном счете производство здесь служит потреблению. Но платежеспособный спрос, как правило, отстает от производства. Это закон капитализма. В погоне за прибылью капиталисты неизбежно вступают друг с другом в непримиримую конкуренцию. Движущей пружиной развития производительных сил при капитализме является поэтому конкуренция. Она заставляет капиталистов совершенствовать орудия производства, вводить новую технику под страхом разорения. Но в условиях империализма конкуренция перерастает в монополию, поэтому действие этого стимула развития техники сужается, парализуется господством монополий. Однако действие конкуренции и ее законов не прекращается и в эпоху империализма.
В отличие от капитализма, где процесс производства является процессом эксплуатации рабочих капиталистом, где в силу этого работник не заинтересован в совершенствовании орудий производства, в развитии производства в целом, при социализме трудящиеся работают не на эксплуататора, а на себя. В условиях социализма общественное производство подчинено потребностям существования и развития общества. Здесь нет эксплуатации человека человеком, нет никаких общественных препятствий развитию производства, развитию производительных сил. Сознание непосредственного производителя, что он работает не на эксплуататоров, а на себя, на свое государство, на свое общество, это сознание является могучим стимулом развития производства, производительных сил. Система социалистических производственных отношений не только открыла неограниченный простор для развития производительных сил, но и создала могущественный стимул их непрерывного развития. Этим объясняются гигантские, невиданные в истории темпы развития производительных сил социалистического общества.
Из этих примеров видно, что стимулы развития орудий производства, производительных сил в целом зависят главным образом от производственных отношений людей.
Взаимодействие производительных сил и производственных отношений
Производительные силы — это наиболее подвижный, революционный элемент способа производства. Развитие производительных сил неизбежно приводит к изменению производственных отношений. Так, развитие производительных сил привело к смене феодально-крепостнических производственных отношений капиталистическими.
Но если определенные производственные отношения обязаны своим возникновением определенному уровню и характеру производительных сил, то производительные силы в своем развитии в свою очередь зависят от данных производственных отношений.
Отношения между производительными силами и производственными отношениями могут быть охарактеризованы как отношения между содержанием и общественной формой производства. Данная форма производственных отношений вызвана к жизни определенным содержанием — соответствующим уровнем производительных сил. Но она сама, эта форма, оказывает обратное воздействие на развитие производительных сил.
Возникнув на основе определенных производительных сил, производственные отношения не являются чем-то внешним, пассивным по отношению к производительным силам. Они оказывают сами определяющее влияние на развитие производительных сил. Производственные отношения представляют собой общественную форму развития производительных сил, обусловливающую характер, темпы, законы развития производительных сил. Законы развития производительных сил изменяются вместе с изменением производственных отношений. Так, например, законы развития производительных сил в социалистическом обществе коренным образом отличаются от законов развития их при капитализме.
«Развиваясь в зависимости от развития производительных сил, производственные отношения в свою очередь воздействуют на развитие производительных сил, ускоряя его или замедляя» [82]. Производственные отношения ускоряют развитие производительных сил, если они соответствуют их уровню и характеру и дают достаточный простор для их развития. Производственные отношения тормозят, задерживают развитие производительных сил, если они перестали соответствовать им.
Несоответствие между производственными отношениями и производительными силами создается в результате того, что производительные силы, как наиболее изменяющийся, подвижный элемент производства, непрерывно изменяются, а производственные отношения отстают в своем развитии от развития производительных сил. Изменение системы производственных отношений в целом не может произойти сразу вслед за изменением производительных сил, ибо на защите отживших производственных отношений стоят господствующие классы.
Развившееся противоречие, несоответствие производственных отношений производительным силам, их конфликт, нарушает их единство в системе производства, ведет к разрушению производительных сил, создавая угрозу самому существованию производства и всего общества. Поэтому производственные отношения не могут слишком долго отставать от развития производительных сил. Они должны рано или поздно притти в соответствие с развившимися производительными силами, с их уровнем.
«Приобретая новые производительные силы,— говорит Маркс, — люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни,— они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом» [83].
Современная общественная жизнь человечества характеризуется существованием двух систем — капиталистической и социалистической. В капиталистических странах имеется резкое несоответствие между производительными силами и производственными отношениями. Производительные силы в капиталистическом обществе достигли исполинских размеров и уже давно переросли рамки буржуазных производственных отношений. Последние стали путами, оковами развития производительных сил. Общественный характер процесса производства, общественный характер производительных сил не соответствует частной капиталистической собственности на средства производства и частному присвоению произведенных продуктов производства. Конфликт современных производительных сил и капиталистических производственных отношений выражается в огромной недогрузке предприятий, в стремлении капиталистических монополий затормозить развитие производительных сил, задержать применение новейших открытий, изобретений в области техники. Результатом этого конфликта являются периодические кризисы перепроизводства, приобретающие все более и более разрушительный, катастрофический характер.
Проявлением несоответствия, конфликта между капиталистическими производственными отношениями и производительными силами являются также современные империалистические войны за передел мира, за источники сырья, за рынки сбыта товаров и сферы приложения капитала»
На мировые войны империалисты смотрят, как на средство «разрешения» внутренних противоречий, как на средство «избавления» от относительного избыточного населения, от безработных и как на источник повышения промышленной конъюнктуры и получения высоких прибылей и сверхприбылей [84].
Война 1914—1918 гг. привела к колоссальному разрушению производительных сил: миллионы людей убиты или умерли от болезней и голода, миллионы людей искалечены; разрушены города и села, фабрики и заводы. Вторая мировая война 1939— 1945 гг., развязанная гитлеровской Германией и империалистической Японией и подготовленная также и англо-американской капиталистической реакцией, привела к еще большему разрушению производительных сил: к гибели многих миллионов людей — важнейшей производительной силы, к разрушению многих городов и сел, фабрик и заводов.
Разрушительный характер современного капитализма обнаруживает, что капиталистические производственные отношения исчерпали себя и должны уступить место новым, высшим производственным отношениям — социалистическим отношениям, соответствующим современным производительным силам.
Несоответствие капиталистических производственных отношений современным производительным силам, конфликт между ними — это экономическая основа социальной революции. Социалистическая революция пролетариата призвана разрешить это противоречие.
Великая Октябрьская социалистическая революция разрешила противоречия между капиталистическими производственными отношениями и современными производительными силами в СССР. Созданный и победивший в СССР социалистический способ производства является воплощением полного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. В условиях социалистического строя общественный характер производительных сил подкрепляется общественной социалистической собственностью на средства производства, вследствие этого в социалистическом обществе нет ни кризисов перепроизводства, ни пауперизма, ни безработицы. Здесь развитие производства осуществляется на основе общегосударственного плана, имеющего силу закона.
При всех прежних способах производства соответствие производственных отношений и производительных сил было неполным, относительным и временным. Так, капиталистические производственные отношения, пришедшие на смену отношениям феодальным, в период восходящего развития капитализма соответствовали новым производительным силам и открывали больший простор для их развития, чем отжившие феодально-крепостнические отношения. Но даже и в тот период, когда капитализм был прогрессивным, соответствие производственных отношений производительным силам не было полным, между ними и тогда существовало противоречие, ибо средства производства, будучи частной собственностью эксплуататорских классов, противостояли трудящимся — главной производительной силе общества — как враждебная сила, как сила капитала. Это противоречие выражалось в том, что продукты общественного труда присваивались частными собственниками средств производства. На всех ступенях развития капитализма средства производства служат средством эксплуатации производителей, трудящихся. Развитие производительных сил при капитализме всегда носило и носит антагонистический характер: оно сопровождается эксплуатацией человека человеком и обеднением, калечением важнейшей производительной силы — рабочих, так как подавляются заложенные в них многообразные способности, дарования, таланты. При капитализме рабочий низведен до роли придатка к машине. В условиях капитализма развитие производительных сил приводит к росту богатства, роскоши, наслаждений на одном полюсе, у буржуазии, и к росту нищеты, одичания, обездоленности и страданий на другом полюсе, у трудящихся, у большинства общества.
Противоположную этому картину представляет развитие производительных сил и производственных отношений в социалистическом обществе. Здесь налицо именно полное соответствие производительных сил и производственных отношений, отсутствие классовых антагонизмов, эксплуатации человека человеком. Если при капитализме прошлый труд, воплощенный в средствах производства, господствует над людьми, то в условиях социализма настоящий, живой, творческий труд народа господствует над прошлым трудом: здесь не средства производства господствуют над людьми, как при капитализме а люди господствуют над средствами производства. Развитие производительных сил идет здесь не стихийно, не анархически а по плану. Вместе с тем развитие производительных сил при социализме неразрывно связано с ростом материального благосостояния трудящихся, способствует развитию их многообразных способностей, дарований, талантов.
Социалистический способ производства, социалистические производственные отношения развязывают творческую инициативу масс. Это они вызвали к жизни новое, невиданное в истории движение — социалистическое соревнование масс — могущественный источник бурного развития производительных сил социалистического общества.
Таким образом, главный источник развития производительных сил заключен в способе производства, в соответствии производственных отношений уровню и характеру производительных сил.
История ныне дала наглядное подтверждение этой закономерности на примере двух существующих в мире систем, двух способов производства: капиталистического и социалистического. Первый исторически исчерпал себя, превратился в тормоз развития производительных сил, ибо капиталистические производственные отношения больше не соответствуют новым могущественным производительным силам. Второй, наоборот, достиг в СССР небывалых в истории темпов развития, ибо социалистические производственные отношения дают полный, безграничный простор для ускоренного и непрерывного развития производительных сил. Это в свою очередь обусловливает невиданно быстрый рост народного богатства, непрерывное улучшение материального положения и рост уровня культурного развития трудящихся СССР. Развитие производительных сил СССР — основа постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Такова внутренняя связь и взаимодействие в развитии производительных сил и производственных отношений.
3. Третья особенность производства
Как указывает И. В. Сталин, третья особенность производства состоит в том, что новые производительные силы и соответствующие им производственные отношения возникают не после крушения, исчезновения старого строя, а в недрах старого строя, возникают не в результате сознательной, преднамеренной деятельности людей, а стихийно, бессознательно, независимо от воли людей.
Чем объясняется стихийность возникновения новых производительных сил?
Стихийность возникновения новых производительных сил и соответствующих им производственных отношений обусловливается, во-первых, тем, что люди не свободны в выборе способа производства. Каждое новое поколение застает в готовом виде созданные предшествующими поколениями производительные силы и производственные отношения. Чтобы получить возможность производить материальные блага, каждое поколение должно на первое время приспособиться к этим производительным силам и производственным отношениям. Способ производства, унаследованный данным поколением, определяет положение людей в процессе производства, определяет возможности и направление дальнейшего развития производительных сил и производственных отношений.
Возникновение новых производительных сил и производственных отношений носит стихийный, не преднамеренный характер, во-вторых, потому, что люди, совершенствуя старые орудия производства и изобретая новые, словом, развивая производительные силы, не сознают, не понимают и не задумываются над теми общественными результатами, к которым может привести и приводит это изменение орудий производства. Их мысль, их сознание, не идет дальше будничных интересов и стремлений облегчить свой труд, добиться какой-нибудь непосредственно осязаемой выгоды для себя.
Люди первобытного общества, осуществляя ощупью переход от каменных орудий к металлическим, сначала к бронзовым, а потом к железным, хотели добиться лишь облегчения своего труда, сделать труд более эффективным, более производительным. Пока новые, железные орудия не получили широкого применения, люди не могли узнать общественных результатов этого применения. Но переход к железным орудиям труда привел к увеличению производительности труда, к возрастанию прибавочного труда и прибавочного продукта, вследствие чего возникла экономическая возможность эксплуатации человека человеком и установления рабства. Так переход к железным орудиям труда помимо воли и сознания людей привел первобытно-общинный строй к гибели и к замене его строем рабовладельческим.
Другой пример. Молодая буржуазия Европы, создавая в период феодального строя рядом с существовавшими мелкими цеховыми ремесленными мастерскими крупные мануфактурные предприятия, руководствовалась прежде всего стремлением произвести как можно больше товаров для новых рынков на Востоке и в Америке, удешевить производство этих товаров, получить больше прибыли. Дальше этих будничных и своекорыстных интересов сознание буржуазии не шло. Создавая для этих целей крупные мануфактурные предприятия, буржуазия, конечно, не предвидела и не могла предвидеть тех общественных последствий своей предпринимательской деятельности, которые выразились в бурном развитии производительных сил, вызвавшем к жизни новые, ранее не известные феодальному обществу классы, в перегруппировке социальных сил, в изменении экономической и социальной роли старых и новых классов.
Противоречия и классовая борьба, возникшие между буржуазией и феодальным дворянством, между этим последним и крестьянством, имели своей экономической основой конфликт новых производительных сил с феодальными производственными отношениями. Как известно, в результате этого конфликта во всех важнейших буржуазных странах — в Голландии, Англии, Франции, Германии и т. д.— произошли буржуазные антифеодальные революции, которые сокрушили феодальный строй и установили господство капитализма.
Но движение на этом не остановилось и не могло остановиться. Побуждаемая жаждой капиталистического накопления, буржуазия двигала дальше развитие производительных сил. В этом состояла ее историческая миссия и прогрессивная роль. Однако колоссальное развитие производительных сил привело их в противоречие с капиталистическими производственными отношениями. Современные производительные силы находятся в непримиримом противоречии с капиталистическими производственными отношениями. Это противоречие, как уже указывалось выше, служит экономической основой социалистической революции. Таковы непредвиденные буржуазией общественные результаты развития производительных сил, невольным носителем которого она выступала.
Переход от стихийного процесса развития к сознательному историческому творчеству
Когда новые производительные силы, созревшие в лоне старого общества, вступают в конфликт с отжившими, старыми производственными отношениями, тогда стихийное развитие сменяется сознательной деятельностью передовых классов. Отжившие производственные отношения сами собой не исчезают. На защите их стоят господствующие, отживающие классы, располагающие государственной властью и вооруженные всеми средствами идеологического воздействия на массы. Поэтому ликвидировать старые производственные отношения, расчистить дорогу развитию производительных сил можно только через ожесточенную борьбу классов, через насильственную революцию.
«После того, как новые производительные силы созрели,— говорит И. В. Сталин,— существующие производственные отношения и их носители — господствующие классы, превращаются в ту «непреодолимую» преграду, которую можно снять с дороги лишь путем сознательной деятельности новых классов, путём насильственных действий этих классов, путем революции» [85].
В период революционных переворотов огромное мобилизующее, организующее, и преобразующее значение приобретают новые, передовые общественные идеи, новые политические учреждения, новая политическая власть, призванная силой упразднить старые, отжившие производственные отношения. Возникшие на основе конфликта между новыми производительными силами и старыми, отживающими производственными отношениями, на основе новых экономических потребностей общества новые общественные идеи организуют и мобилизуют массы, сплачивают их в новую политическую армию. Революционные массы создают новую, революционную власть и, опираясь на нее, силой упраздняют старые производственные отношения и утверждают новые порядки.
Так стихийный процесс общественного развития, подготовляемый ходом развития производительных сил, сменяется сознательной деятельностью масс, мирное развитие сменяется насильственным переворотом, эволюция — революцией.
Буржуазная реакционная социология не в состоянии научно объяснить соотношение стихийного и сознательного в общественном развитии. Будучи насквозь метафизичной, она шарахается то в одну, то в другую сторону. Одни буржуазные социологи утверждают, что общественное развитие всегда носит сознательный характер и направляется сознанием и волей людей. Но этому противоречат бесчисленные исторические факты. История свидетельствует о том, что общественные события, даже те, которые подготовляются сознательной деятельностью господствующих эксплуататорских классов, часто имеют для них совершенно неожиданные общественные последствия.
«Когда русские капиталисты совместно с иностранными капиталистами усиленно насаждали в России современную крупную машинизированную промышленность, оставляя царизм нетронутым и отдавая крестьян на съедение помещикам, они, конечно, не знали и не задумывались над тем, к каким общественным последствиям приведет этот серьезный рост производительных сил, они не сознавали и не понимали, что этот серьезный скачок в области производительных сил общества приведет к такой перегруппировке общественных сил, которая даст возможность пролетариату соединить с собой крестьянство и совершить победоносную социалистическую революцию...» [86].
После крушения капитализма в России в результате Великой Октябрьской социалистической революции и нанесенных страной социализма неоднократных поражений силам мировой империалистической реакции, под влиянием хаоса и противоречий внутри империалистического лагеря — в буржуазной социологии усиливается фатализм, утверждающий, что «пути господни неисповедимы» и что история подчинена целиком действию стихийных сил. Многие буржуазные социологи утверждают будто объективные, необходимые законы, действующие в общественной жизни, в истории общества, непознаваемы, что они представляют собой проявления рока, судьбы, т. е. сверхъестественных, таинственных сил.
Взгляд на историю, как на абсолютно стихийный процесс, столь же несостоятелен, как и противоположный ему взгляд, приписывающий главную роль в истории сознательной деятельности людей. Оба эти взгляда буржуазных социологов опровергнуты ныне практикой борьбы рабочего класса. Практическая революционная деятельность рабочего класса, возглавляемого коммунистическими партиями, свидетельствует о том, что люди могут успешно воздействовать на ход истории, могут направлять ход событий, но лишь при том условии, если они действуют не по субъективному произволу, а руководствуются познанием объективных законов исторического развития. Рабочий класс, его марксистские партии сознательно кладут открытые марксизмом-ленинизмом общественные законы в основу своей революционной борьбы за коммунизм.
Итак, исторический материализм учит, что законы развития производительных сил и производственных отношений нужно искать не вне производства, а в самом производстве, в способе производства материальных благ. Характеризуя три особенности производства, товарищ Сталин дал гениально ясную и глубокую характеристику наиболее существенных общих закономерностей развития производительных сил и производственных отношений. Не первая или вторая особенность, а все три особенности, взятые вместе, в единстве, дают ответ на вопрос об источниках и законах развития производительных сил и производственных отношений.
Познав законы развития производительных сил и производственных отношений, т. е. законы развития способов производства, мы получаем возможность понять весь ход общественного развития. Товарищ Сталин учит:
«Ключ к изучению законов истории общества нужно искать не в головах людей, не во взглядах и идеях общества, а в способе производства, практикуемом обществом в каждый данный исторический период, — в экономике общества.
Значит, первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительных сил и производственных отношений, законов экономического развития общества.
Значит, партия пролетариата, если она хочет быть действительной партией, должна овладеть, прежде всего, знанием законов развития производства, знанием законов экономического развития общества.
Значит, чтобы не ошибиться в политике, партия пролетариата должна исходить как в построении своей программы, так и в своей практической деятельности, прежде всего, из законов развития производства, из законов экономического развития общества» [87].
Образцом такой партии является партия большевиков, партия Ленина — Сталина. Важнейшим условием ее успехов в борьбе за победу социализма было то, что она всегда руководствовалась в своей политике глубоким знанием законов экономического развития и всемерно использовала эти законы в борьбе за социализм. И в настоящее время в осуществлении постепенного перехода от социализма к коммунизму политика Советского социалистического государства, руководимого коммунистической партией, опирается на глубокое знание законов развития социалистического способа производства, на сознательное использование этих законов для ускорения победы коммунизма.
Глава четвёртая. Развитие производительных сил и производственных отношений в первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной и капиталистической общественных формациях
Общие законы развития производства проявляются в каждой общественно-экономической формации по-особому, в зависимости от исторической природы данного способа производства. Вместе с изменением способов производства материальных благ меняются и движущие мотивы производства и законы развития производительных сил. Каждая общественно-экономическая формация имеет свои особые, присущие ей экономические законы развития.
«Жители Огненной Земли,— пишет Энгельс,— не дошли до массового производства и мировой торговли, как и до спекуляции векселями или до биржевых крахов. Кто пожелал бы подвести под одни и те же законы политическую экономию Огненной Земли и политическую экономию современной Англии,— тот, очевидно, не дал бы ничего, кроме самых банальных общих мест» [88].
История общества знает пять основных, исторически последовательно сменявших друг друга типов производственных отношений: первобытно-общинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические и социалистические. Существование каждого из этих исторических типов производственных отношений связано с определенной ступенью развития материальных производительных сил общества.
1.Производительные силы и производственные отношения первобытно-общинного строя
Происхождение человека и общества
Всестороннее рассмотрение вопроса об условиях происхождения человека — задача биологии, антропологии, истории первобытного общества и связанных с ними специальных наук.
Исторический материализм рассматривает эту проблему лишь постольку, поскольку условия выделения человека из животного царства, процесс происхождения человека от обезьяны являлся одновременно и процессом возникновения общества.
Современная биология, начиная с Ламарка и Дарвина — Тимирязева, всесторонне доказала неразрывную биологическую связь человека с животным царством, происхождение человека от высокоразвитых человекоподобных обезьян. Но происхождение человека от обезьяны нельзя объяснить только на основе одних естественно-научных, биологических данных. Решающую роль в этом процессе играл труд. Если естествоиспытатели дали неопровержимые естественно-научные доказательства происхождения человека от человекоподобных обезьян, то марксизм впервые указал на решающую роль труда в процессе превращения человекоподобной обезьяны в человека. Только марксизм дал глубоко научное объяснение происхождения человека, а следовательно, и человеческого общества. Здесь прежде всего следует указать на гениальную работу Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». В этой работе дан всесторонний научный анализ условий происхождения человека от обезьяны и показана роль труда, роль производства орудий производства в этом процессе. Все последующее развитие науки, в частности открытие переходных звеньев от обезьяны к человеку: открытие питекантропа, синантропа и гейдельбергского человека, целиком и полностью подтвердило современную научную теорию о происхождении человека от обезьяны и о роли труда в этом превращении. Только реакционеры и тупоголовые невежды отрицают эту научную теорию и борются против нее, организуют против ее сторонников «обезьяньи процессы» вроде суда над учителем Дж. Скопсом в США, в штате Теннеси.
В работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» Ф. Энгельс пишет:
«Много сотен тысячелетий тому назад, в еще не поддающийся точному определению промежуток времени того периода в развитии земли, который геологи называют третичным, предположительно к концу этого периода, жила где-то в жарком поясе... необычайно высокоразвитая порода человекообразных обезьян. Дарвин дал нам приблизительное описание этих наших предков» [89]. Прошли многие десятки тысяч лет, прежде чем от этих человекообразных обезьян, обладавших необыкновенной приспособляемостью и смышленостью, произошел человек. В этом чрезвычайно длительном и сложном процессе превращения обезьяноподобного предка в человека благоприятную роль сыграли биологические особенности (сравнительно развитой мозг, анатомическое строение передних конечностей, возможность прямой походки, членораздельной речи и т. п.), а также географические факторы (изменение климата и других внешних условий жизни наших предков). Главная же, решающая роль в переходе от обезьяны к человеку, от животного стада человекоподобных обезьян к обществу принадлежит труду. В этом смысле именно труд создал человека.
Труд начинается с систематического употребления и изготовления орудий производства, при помощи которых человек воздействует на природу. Первыми орудиями труда человека были предметы, которые он находил в окружающей среде. Маркс отмечал, что земля явилась не только первоначальной кладовой пищи для первобытного человека, но и первоначальным арсеналом средств труда. Она доставляла человеку камень, которым он пользовался для того, чтобы метать, производить трение, давить, ударять, резать, скрести, копать. Сучьями дерева он пользовался как дубиной для нападения на зверей и для защиты от них. На берегах рек и морей он находил раковины и использовал их как орудие производства.
Камни и палки употребляются в некоторых случаях как средство защиты или нападения и человекоподобными обезьянами. Но ни одна обезьяна, ни одно животное никогда не сделало ни одного, даже самого грубого орудия труда. Животные всех видов, вплоть до высших, лишь пользуются тем, что дает природа. Только человек (сначала инстинктивно, а затем все более и более сознательно) целесообразно приспособляет предметы, данные природой, в качестве орудий своей деятельности, орудий труда. Именно при помощи орудий труда — этих искусственных органов—человек как бы удлиняет и усиливает свои естественные органы, увеличивает свою силу и власть над природой.
Первый кремень или булыжник, приспособленный для метания или удара, знаменовал собой начало нового типа развития, невиданного в природе. Возникновение производства означало величайший качественный поворот, переход в развитии природы от животного царства к человеческому обществу. Общество характеризуется новыми источниками, закономерностями и формами развития, в корне отличными от биологических.
В процессе труда, в процессе изготовления орудий производства изменялся сам человек, изменялась его физическая природа, совершенствовались его естественные органы, изощрялся его ум, приобреталась сноровка, смекалка, накапливавшийся опыт запечатлевался и закреплялся в орудиях производства. Вместе с тем и сам труд в его специфически человеческой; форме развивается одновременно с формированием человека.
Благодаря труду в течение многих и многих тысячелетий, из поколения в поколение прогрессивно изменялись два главных естественных органа человека — рука и мозг. Именно благодаря труду человеческая рука достигла такого совершенства, что смогла вызвать к жизни бессмертные творения живописи — картины Рафаэля, Тициана, Сурикова, Репина, Шишкина и Левитана — или творения зодчества, какими являются величавые, строгие и стройные башни московского Кремля. Труд явился решающим условием возникновения и развития членораздельной речи. Только благодаря труду человеческий ум мог достигнуть такого развития, что оказался способным распознавать бесчисленные свойства вещей, познавать внутреннюю связь явлений природы, постигать ее законы и, опираясь на эти законы, подчинять природу себе, заставлять ее силы действовать друг на друга в соответствии с желанием и волей человека.
«...Параллельно с развитием руки шаг за шагом развивалась и голова, возникало сознание — сперва условий отдельных практических полезных результатов, а впоследствии, на основе этого, у народов, находившихся в более благоприятном положении, — понимание законов природы, обусловливающих эти полезные результаты. А вместе с быстро растущим познанием законов природы росли и средства обратного воздействия на природу; при помощи одной только руки люди никогда не создали бы паровой машины, если бы вместе и наряду с рукой и отчасти благодаря ей не развился соответственным образом и мозг человека.
Вместе с человеком мы вступаем в область истории» [90].
Классики марксизма-ленинизма указывают, что в процессе возникновения человека и человеческого общества наряду с трудом огромную роль играла членораздельная речь. «Звуковой язык, — говорит товарищ Сталин, — в истории человечества является одной из тех сил, которые помогли людям выделиться из животного мира, объединиться в общества, развить своё мышление, организовать общественное производство, вести успешную борьбу с силами природы и дойти до того прогресса, который мы имеем в настоящее время» [91].
Прежде чем стать хотя бы в известных пределах господином природы, человек долго был ее рабом. Прошли многие тысячелетия, пока он смог наложить свою узду на некоторые силы природы, пока шаг за шагом, ощупью научился использовать механические, физические и химические свойства тел, с тем чтобы подчинить их своей власти, заставить их служить своим целям — быть средством производства материальных благ.
Развитие производительных сил первобытного общества
Первобытное общество существовало сотни тысяч лет. Оно прошло путь от диких nepвобытных, обособленных орд или стад, насчитывавших по нескольку десятков людей, до родовых патриархальных общин, объединявшихся в племена, а затем и в союзы племен, насчитывавших по нескольку десятков тысяч людей, естественно, что и производительные силы первобытного общества не оставались на одном уровне; хотя и чрезвычайно медленно, но из тысячелетия в тысячелетие они изменялись, развивались, совершенствовались, возникали новые виды труда, новые виды производства.
Первые примитивные орудия труда — каменное рубило, мустьерский остроконечник и т. д.— в соответствии с однообразной, не диференцированной трудовой деятельностью первобытных людей являлись универсальными орудиями. На самой ранней ступени развития первобытного хозяйства орудия труда играли еще вспомогательную роль, способствовали лишь присвоению того, что произвела сама природа независимо от человека. Люди собирали дикорастущие плоды, орехи, злаки, ягоды, грибы, выкапывали съедобные коренья и клубни, добывали мед диких пчел, собирали по берегам морей и рек выброшенные волнами ракушки, рыбу; лишь позже они стали вылавливать рыбу в воде при помощи искусственных средств. На той же стадии развития существовала и охота, которая, однако, еще не являлась надежным средством существования. Орудия труда были еще примитивными, и главную роль в охоте играл сам человек, его находчивость, ловкость, наблюдательность, знание повадок зверя.
Дальнейшее развитие труда вело к медленному изменению, развитию орудий производства, их диференциации применительно к охоте за разными зверями, крупными и мелкими. Наряду с грубым рубилом, каменным ножом появились каменный топор, долото, пила, сверло, копья, дротики, разнообразные резцы, скребки, шила, лопатки для выкапывания съедобных корней и клубней; для ловли рыбы появились крючки из кости, разнообразные гарпуны, плоты, примитивные лодки, а затем рыболовные сети. В зависимости от разнообразия местных географических условий и орудий производства разнообразились и виды труда.
Великий русский путешественник и исследователь Миклухо-Маклай в своих «Путешествиях» о жителях Новой Гвинеи — папуасах пишет, что виды производственной деятельности прибрежных жителей были одни, в горных районах — другие, на островах — третьи. «Местожительство туземцев — на небольшом островке — значительно повлияло на их занятия и характер. Не имея достаточно места на острове для земледелия, они получают все главные съестные припасы из соседних береговых деревень, сами же занимаются ремеслами: горшечным производством, выделыванием деревянной посуды, постройкой пирог и т. п.» [92].
В соответствии с разнообразием орудий производства и видов труда, а отчасти и в связи с различием местных географических условий разнообразился и материал, из которого приготовлялись орудия. Наряду с камнем и деревом для изготовления орудий труда применялись кость, раковины, кожа, растительное волокно, сухожилия животных и т. д.
Важнейшими результатами развития производительных сил первобытно-общинного строя являлись: изготовление каменного топора, охотничьего лука со стрелами, открытие способа добывания огня с помощью трения, приручение и одомашнивание животных и, наконец, начало искусственного возделывания злаков — переход к примитивному мотыжному и подсечному земледелию. «В пещерах древнейшего человека мы находим каменные орудия и каменное оружие. Наряду с обработанным камнем, деревом, костями и раковинами главную роль, как средство труда на первых ступенях человеческой истории, играют прирученные, следовательно уже измененные посредством труда, выращенные человеком животные» [93].
Первобытный человек, научившийся первоначально пользоваться огнем, который он находил в лесу во время лесных пожаров, происходивших в результате удара молнии или других естественных причин, затем сам научился добывать его при помощи трения или извлечения искры ударом о кремень.
На примере величайшего открытия — добывания огня — видно, какую роль в развитии техники и технических открытий играет труд, производство, его внутренняя логика. Создавая кремневые орудия труда, обивая и шлифуя их, первобытный человек извлекал искры. Создавая орудия труда из дерева, производя трение, люди научились трением добывать огонь. Многие сотни и тысячи раз проходили бесследно факты случайного извлечения огня при помощи трения или удара о кремень, чтобы затем в конце концов была установлена связь между трением или ударом о кремень как причиной и огнем как следствием.
Открытие огня, его полезных свойств, имело огромное значение для дальнейшего развития человека и человеческого общества. Недаром впоследствии, когда возникла религия, люди обоготворяли эту силу, создали миф о герое Прометее, который похитил огонь у богов и даровал его людям.
Изобретение охотничьего лука со стрелами дало возможность превратить охоту в одну из постоянных отраслей труда. Дичь стала одним из повседневных средств питания. Лук с тетивой и стрелой — это сложное орудие. Его изобретение предполагало уже изощренные умственные способности, ему предшествовали другие, более простые изобретения, вроде силков и ловушек, основанных на использовании упругости дерева.
Систематическая охота открыла возможность приручения диких животных (там, где были животные, способные к приручению), их одомашнивания и разведения, что привело к возникновению новой отрасли труда — скотоводства, которое при небольших затратах труда на охрану стад открыло постоянный источник питания: оно стало давать мясо, сало, а затем молоко, масло и сыр, а для одежды и обуви — кожу и шерсть.
В зависимости от географических условий в одних местах раньше скотоводства, в других — одновременно с ним, в качестве подчиненной ему отрасли хозяйства, возникло примитивное, первобытное, мотыжное земледелие.
У новогвинейцев (папуасов), по свидетельству Миклухо-Маклая, скотоводства еще не было. У них было лишь единственное домашнее животное — собака. Но у папуасов уже было примитивное земледелие. Они добывали саго—крахмал дикорастущих саговых пальм, разводили на огороженных плантациях, на тщательно возделанной земле сладкий картофель, сахарный тростник и другую съедобную зелень, а также табак.
Орудия производства, употреблявшиеся папуасами для возделывания земли, — это простой заостренный кол более двух метров длины, называемый папуасами «удя», и узкая лопата. «Вот в чем,— пишет Миклухо-Маклай,— заключается процесс обработки: двое, трое или более мужчин становятся в ряд и вместе разом втыкают свои колья, по возможности глубже, в землю; потом, тоже разом, поднимают продолговатую глыбу земли; затем идут далее и выворачивают целые ряды таких глыб. Несколько человек, тоже при помощи кольев, разбивают эти глыбы на более мелкие; задними следуют женщины, вооруженные узкими лопатами «удя-саб», разбивают большие комья земли, делают клумбы и даже растирают землю руками» [94].
О древних обитателях Азии, живших в районе Турайского нагорья и уже знавших скотоводство, Энгельс писал, что у них луговодство и разведение зерновых хлебов было предварительным условием скотоводства: здесь климат не допускал скотоводства при отсутствии запасов корма на долгую и суровую зиму. «...Возделывание злаков было вызвано здесь прежде всего потребностью в корме для скота и только впоследствии стало важным для питания людей» [95].
Переход к земледелию — сложный и долгий процесс. Уже на ранних ступенях первобытного общества возникло половозрастное разделение труда между мужчиной и женщиной, между взрослыми и детьми. В то время как мужчина преимущественно занимался охотой, на долю женщины все более и более выпадало собирание дикорастущих плодов и злаков, вследствие чего именно женщине принадлежит заслуга открытия искусственного возделывания злаков.
Переход от собирания дикорастущих злаков к искусственному возделыванию их произошел сравнительно поздно, причем сначала в небольших размерах на участках земли близ жилищ. Переход к земледелию — это важнейший этап в развитии производства, открывший для первобытных людей устойчивый источник питания. В исторической перспективе земледелие открывало более широкие возможности, чем скотоводство. Земледелие в конце концов вело к оседлому образу жизни, а это имело огромное значение для дальнейшего развития производительных сил и всего общества в целом.
Производственные отношения первобытно-общинного строя
Основу производственных отношений первобытно-общинного строя составляла общественная собственность на средства производства, что в основном соответствовало характеру производительных сил в тот период. Каменные топоры и ножи, копье, лук и стрелы, примитивные земледельческие орудия, являвшиеся основными орудиями труда, исключали возможность борьбы с силами природы в одиночку. Охота на диких животных, борьба с хищными зверями, рыбная ловля, постройка жилищ, расчистка почвы от лесных зарослей и возделывание ее примитивными земледельческими орудиями — все это требовало общего труда первобытных людей, сотрудничества и взаимной помощи. Защита от соседних враждебных обществ (а тогда все, что находилось за пределами рода или племени, считалось враждебным) также требовала совместных действий первобытных людей в пределах родовых общин, а затем и племен. Недостаток сил отдельного человека возмещался силой объединения, совместными действиями — орды, рода, племени.
Общему труду соответствовала и общественная собственность на средства производства: на землю и леса для собирания пищи и охоты, на пастбища, на орудия производства, а также и на продукты производства. На той ступени не было частной собственности на средства производства, не было и самого понятия частной собственности. Имелась лишь личная собственность на некоторые орудия труда, являвшиеся одновременно личным оружием, средством защиты от хищных зверей. Но эти примитивные орудия были доступны всем; они не могли стать орудием эксплуатации, так как производительность труда была чрезвычайно низка и не было экономической возможности для отчуждения части продукта труда. Следовательно, невозможна была и эксплуатация человека человеком. Все, что добывалось коллективным трудом, делилось поровну. Иной формы распределения и не могло быть при крайне скудном количестве добываемой пищи, едва-едва достаточной лишь для того, чтобы сохранить жизнь. Получение кем-либо из членов общины большей доли означало бы голодную смерть других, обделенных. В первобытном обществе отсутствовало деление на богатых и бедных, не было общественных классов и эксплуатации человека человеком. Здесь царило первобытное, примитивное равенство.
Было бы неправильно идеализировать первобытно-общинный строй. Это было общество с крайне низким уровнем развития производительных сил, оно находилось в большой зависимости от природы, люди постоянно терпели лишения, недостаток пищи, одежды, страдали от зноя или от холода, уровень культуры был очень низок.
Основную ячейку первобытно-общинной организации составлял материнский род, а затем отцовский род. При материнском роде главенствующую роль в общественной жизни играла женщина. По женской линии велся счет родства и наследовалось личное имущество. Эта роль женщины в общественной жизни вытекала из ее главенствующей роли в производстве: в домашнем хозяйстве и в первобытном земледелии. С изменениями в области производства, с переходом к скотоводству и более развитому земледелию главенствующая роль в производстве перешла к мужчине. Это повлекло за собой изменение общественных отношений, изменение общественного положения женщин: осуществился переход к отцовскому роду. Товарищ Сталин в работе «Анархизм или социализм?» писал: «Было время, время матриархата, когда женщины считались хозяевами производства. Чем объяснить это? Тем, что в тогдашнем производстве, в первобытном земледелии, женщины в производстве играли главную роль, они выполняли главные функции, тогда как мужчины бродили по лесам в поисках зверя. Наступило время, время патриархата, когда господствующее положение в производстве перешло в руки мужчин. Почему произошло такое изменение? Потому, что в тогдашнем производстве, скотоводческом хозяйстве, где главными орудиями производства были копьё, аркан, лук и стрела, главную роль играли мужчины...» [96].
Узы кровного родства, общности происхождения, как бы дополняли, скрепляли общинный строй, спаянный общим трудом и общей собственностью на средства производства. Структуру первобытно-общинного строя определял, конечно, способ производства. Первобытное общество, его дисциплина, распорядок труда поддерживались силой привычки, традиции или уважением к старейшинам рода.
Стимулы и источники развития производительных сил первобытного общества
Постоянная необходимость сохранения и воспроизводства материальной жизни общества и крайняя ограниченность средств существования вследствие низкого уровня производительных сил и производительности труда — таково противоречие, с которым сталкивались люди первобытного общества. Поэтому надо было изыскивать новые источники средств существования, совершенствовать орудия производства. «Нужда—мать изобретений» — гласит древняя пословица. Хроническая и неумолимая нужда здесь действовала повелительно. Она толкала первобытных людей на поиски мест, более богатых плодородными землями, плодами и дичью, на поиски новых пастбищ для скота. В этом была одна из причин передвижений древних людей, пастушеских племен, охотников, а затем и воинов, передвижений, положивших начало образованию народов в древней и новой Европе [97].
Выше уже говорилось, что сама внутренняя логика процесса производства ведет как к изменению людей, накоплению ими производственного опыта и навыков к труду, так и к изменению орудий производства.
Развитие производительных сил первобытного общества приобрело надежный и прочный источник лишь тогда, когда была создана возможность затрачивать значительную часть своего труда не только на средства питания, но и на создание и совершенствование орудий производства [98].
Развитие производительных сил в эпоху первобытного общества шло мучительно медленно. Медленно, даже не из поколения в поколение, а из тысячелетия в тысячелетие изменялись, совершенствовались орудия производства, расширялось поприще трудовой деятельности людей, охватывая все новые и новые области. Важнейшим источником прогресса являлось соединение, кооперация труда, позволявшая накапливать коллективный производственный опыт, вырабатывать сноровку и тем самым успешнее преодолевать трудности борьбы с природой. Язык как орудие общения между людьми, как средство обмена мыслями явился одним из условий общественного производства.
Сотрудничество и взаимопомощь, сила общественной деятельности, сила коллектива, возмещавшая крайнюю слабость отдельных людей первобытного общества, позволила осуществить значительный для той эпохи прогресс в области производства, в развитии производительных сил. Вместе с тем первобытно-общинная коллективность заключала в себе внутреннее противоречие, явившееся источником ее гибели.
Причины разложения первобытно-общинного строя
Первобытно-общинная коллективность возникла не в результате исторически сложившегося обобществления высокоразвитых средств производства, а в результате слабости, ограниченности обособленной личности.
И существовать эта первобытная коллективность могла лишь до тех пор, указывал Маркс в письме к В. Засулич, пока производительные силы были крайне слабы.
Первобытно-общинный, родовой строй «предполагал крайне неразвитое производство,— писал Энгельс,— следовательно, крайне редкое население на обширном пространстве, следовательно, почти полное подчинение человека чуждой, противостоящей ему, непонятной внешней природе, что и находит свое отражение в детски-наивных религиозных представлениях. Племя оставалось границей человека как по отношению к чужаку из другого племени, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выступают перед нами люди этой эпохи, они, тем не менее, совсем не отличаются друг от друга, они не оторвались еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общины» [99].
Определяющей причиной гибели первобытно-общинных, в том числе и родовых, учреждений явилось развитие производительных сил, рост производительности труда и связанный с этим рост богатства. Постепенное совершенствование орудий производства, переход от каменных к металлическим орудиям труда привели в конце концов к коренному перевороту в способе производства. Железный топор дал возможность в более широком масштабе расчищать землю под пашню, а развитие земледельческих орудий превратило земледелие в одну из основных отраслей труда. Приручение животных: быка, лошади, верблюда, дало возможность превратить их в тягловую силу. Выделилось в самостоятельную отрасль труда скотоводство, и вместе с тем произошло первое крупное общественное разделение труда — отделение скотоводства от земледелия.
В особую отрасль труда выделилось и производство орудий труда, оружия, утвари, одежды, обуви, которое все более и более становилось занятием определенных лиц, ремесленников. Обмен продуктов между общинами, который вначале был случайным, с ростом производительности труда и общественного разделения труда стал регулярным.
Новые орудия производства открыли экономическую возможность осуществлять производство (земледелие, скотоводство и ремесло) не силами всей общины, а в одиночку или силами отдельной семьи. В связи с этим родовая община распадается на семьи. Первоначально это были большие патриархальные семьи, состоявшие из нескольких поколений ближайших родственников. Затем эта большая патриархальная семья распалась на небольшие моногамные семьи, состоявшие из мужа и жены и их детей.
Из десятилетия в десятилетие на пастбищах за счет естественного прироста все более увеличивались табуны лошадей и стада крупного рогатого и мелкого скота. Мало-помалу накапливалось богатство пастушеских племен, но вместе с тем оно уже переставало быть достоянием общины или рода, а становилось достоянием отдельных семей.
Развитие производительных сил привело к появлению общественного разделения труда, к росту обмена и возникновению частной собственности на средства производства. Частная собственность зародилась как результат развития производительных сил и общественного разделения труда. Обособленный, общественно разделенный труд неизбежно вел к частной собственности на средства производства и на продукты производства, так же как до этого общий, совместный труд обусловливал общественную собственность на средства производства.
В. И. Ленин указывал, что «пока... все члены первобытной индейской общины вырабатывали сообща все необходимые для них продукты,— невозможна была и частная собственность. Когда же в общину проникло разделение труда и члены ее стали каждый в одиночку заниматься производством одного какого-нибудь продукта и продавать его на рынке, тогда выражением этой материальной обособленности товаропроизводителей явился институт частной собственности» [100].
Развитие производительности труда в сельском хозяйстве, в скотоводстве, а затем и в ремесле привело к возрастанию прибавочного труда и прибавочного продукта; это придало особую ценность рабочей силе и повысило спрос на нее. Возникла экономическая возможность эксплуатации человека, возможность рабства и экономическая потребность в рабстве. Стало выгодным превращать военнопленных в рабов.
Первоначально возникло домашнее рабство, которое носило лишь подсобный характер и не могло изменить самой структуры первобытно-общинного строя; основной труд попрежнему выполнялся членами общины. Но рабство начало оказывать разлагающее влияние на весь экономический уклад первобытного общества. Развитие домашнего рабства было внутренне связано с ростом производительности труда и увеличением богатства, с ростом обмена и возникновением частной собственности на средства производства.
Первоначально в частную собственность превращались домашняя утварь, домашний скот, а затем уже и рабы. Земля, пастбища, леса, воды еще долго составляли собственность родовой общины или племени. Стада скотоводческих племен, являвшиеся первоначально собственностью рода, также превращались в собственность сначала патриархальных семейных общин, а затем обычных моногамных семей.
Патриархальная семейная община была и для земледельческих народов переходной формой от первобытной родовой общины к сельской общине. В письме к В. Засулич Маркс писал:
«Все более ранние первобытные общины покоятся на кровном родстве своих членов. Разрывая эту сильную, но узкую связь, сельская община более способна расширяться и выдерживать соприкосновение с чужими.
Затем, в ней дом и его придаток, двор, уже являются частной собственностью земледельца, между тем как уже задолго до введения земледелия общий дом был одним из материальных оснований прежних форм общины.
Наконец, хотя пахотная земля остается общинной собственностью, она периодически переделяется между членами сельской общины, так что каждый земледелец обрабатывает за свой счет назначенные ему поля и присваивает себе лично плоды этой обработки, между тем как в более древних общинах хозяйство ведется сообща, а распределяют только продукты» [101].
Развитие частной собственности и обмена вело к росту имущественного неравенства, к росту богатства у одних семей и обнищанию других. Частная собственность на средства производства, обмен, а затем деньги породили самые низменные страсти — грязную и пошлую жадность, грубую страсть к наслаждению, расхищение общинного имущества, разбойничьи войны с целью грабежа других народов, войны ради захвата рабов.
Все эти процессы привели в конце концов к падению первобытного общества. Былое первобытное, примитивное равенство исчезло. Появились богатые и бедные, рабы и рабовладельцы, господствующие и подчиненные. Средства производства отделялись от непосредственных производителей— трудящихся и обращались в частную собственность рабовладельцев. Первобытная община распалась на антагонистические классы, из нее возникло рабовладельческое общество. Все это явилось в то время новым мощным фактором прогресса, открывшим более широкие просторы для развития производительных сил, чем изжившая себя первобытно-общинная собственность. Таким образом, вопреки мнению буржуазных ученых не всегда существовали частная собственность и разделение общества на классы.
Первоначальной, самой ранней формой общественного устройства был общинно-родовой строй, основанный на общем труде и первобытно-общинной собственности на средства производства. Через эту форму общественного устройства прошли все народы. Она существовала сотни тысяч лет. Следы ее еще долго сохранялись у всех цивилизованных народов в виде общинной собственности на землю, леса, на выгоны или общие пастбища, луга. Первобытно-общинные отношения затем превратились в препятствие для развития производительных сил, и потому они должны были пасть. В результате развития производительных сил на смену общинно-родовому строю пришло рабство.
2. Развитие производительных сил и производственных отношений в рабовладельческом обществе
Рабство—это первая, самая грубая, неприкрытая форма эксплуатации человека человеком.
Возникновение рабовладельческих обществ относится в Египте к концу пятого и началу четвертого тысячелетия до н. э., в Вавилонии и других древнейших странах — к третьему тысячелетию до н. э. Классическую форму развития рабовладельческий способ производства приобрел в античной Греции и в Риме (первое тысячелетие до н. э. и первые три-четыре столетия н. э.). В той или иной форме рабовладение имело место у всех народов, переживших процесс разложения первобытно-общинного строя и переход к обществу, разделенному на классы. Ряд народов, населявших некогда территорию СССР, также прошел через рабство. Рабовладельческий строй имел место у древних обитателей Восточной Европы — скифов и сарматов. В Закавказье существовала рабовладельческая держава—Урарту (IX—-VI вв. до н.э.).
Отношения рабства имели место и у славянских народов в период разложения первобытно-общинного строя. Но это рабство в силу особых исторических условий не получило таких развитых форм, как в античной Греции и Риме. Рабство у славянских народов не было господствующей формой производства.
Производительные силы рабовладельческого общества
Технический базис рабовладельческого способа производства составляют металлические, сначала бронзовые (Египет, Вавилония), а затем железные орудия производства, например соха с железным сошником, а затем и железный плуг, влекомый животным (древняя Греция и Рим).
Рассматривая период разложения первобытного общества и возникновение рабовладельческого способа производства, Ф. Энгельс писал: «Железо сделало возможным полеводство на крупных площадях, расчистку под пашню широких лесных пространств; оно дало ремесленнику орудия такой твердости и остроты, которым не мог противостоять ни один камень, ни один из известных тогда металлов. Все это не сразу; первое железо бывало часто мягче бронзы. Каменное оружие поэтому исчезало лишь медленно; не только в песне о Гильдебранде, но и в сражении при Гастингсе в 1066 г. пускались еще в ход каменные топоры. Но прогресс продолжался теперь неудержимо, с меньшими перерывами и быстрее... Богатство быстро возрастало, но как богатство отдельных лиц; в ткачестве, в обработке металлов и в других ремеслах, все более и более обособлявшихся друг от друга, развивалось во все возраставшей степени разнообразие и искусство изготовления изделий; земледелие стало теперь давать наряду с хлебом, стручковыми растениями и плодами также масло и вино, изготовлению которых научились» [102].
Земледелие, скотоводство, ремесло (включая и добычу железной руды, золота и серебра) — три основных вида производства, характеризующих развитие общественного разделения труда рабовладельческого общества. В сельском хозяйстве на Востоке (Египет, Вавилония) сравнительно широко применялась ирригация (каналы, заградительные дамбы, водоемы, приспособления для подъема воды и т. д.), являвшаяся там важнейшей технической основой земледелия. В рабовладельческих обществах наряду с хлебопашеством широко культивировались садоводство (виноградарство, оливковые рощи) и огородничество.
Основными сельскохозяйственными орудиями в древней Греции и Риме являлись сначала соха, а затем плуг с железным сошником (без отвала), деревянная борона, деревянный или каменный каток, железный серп; в качестве тягловой силы использовались скот и рабы. В Греции существовала мельница с двухконусным жерновом, приводимая в действие ослом ила волом. В Риме во II в. н. э. были известны водяная мельница, двухпольный севооборот, искусственное удобрение, применявшиеся в латифундиях.
В античной Греции и Риме получили широкое развитие крупные сельскохозяйственные имения — латифундии, основанные на широком использовании труда рабов. Рядом с такими рабовладельческими латифундиями существовало и самостоятельное сельское хозяйство крестьян, которые все более и более разорялись и попадали в кабалу и рабство к крупным землевладельцам и кредиторам-ростовщикам.
Техника рудных предприятий в древней Греции и Риме была еще примитивна. Добыча руды велась сначала открытым способом, позже и закрытым, из шахт большой глубины. В качестве орудий для разбивки руды применялись ручной молот, клин и кайло. Переноска руды и доставка ее наверх производились преимущественно ручным способом. Руда размалывалась в ступах и мельницах и плавилась в специальных печах. Главной производительной силой были рабы.
В ремесленном производстве, как и в сельском хозяйстве, наряду с крупными мастерскими, основанными на применении труда иногда очень большого количества рабов, существовали и небольшие предприятия, на которых работало всего по нескольку свободных ремесленников. Но и в ремесле свободный труд все более и более вытеснялся трудом рабов, хотя этот процесс здесь совершался медленнее, чем в сельском хозяйстве.
Существовали мастерские с зачатками разделения труда: наиболее грубая и тяжелая работа выполнялась рабами, отделочная художественная обработка продукта производилась свободными ремесленниками. Ксенофонт, характеризуя развитие ремесла в Греции в начале IV в. до н. э., писал: «... в крупных городах... один делает только мужские башмаки, другой — только женские. В отдельных случаях один только шьет башмаки, другой только кроит для них кожу, или один только кроит платье, другой лишь соединяет вместе куски материи. Неизбежно, что тот, кто выполняет наиболее простую работу, выполняет ее наиболее совершенно. То же самое относится и к поварскому искусству» [103].
Но эти зародыши своеобразных мануфактур не были типичными для античности; наиболее характерным было разделение труда не внутри мастерской, а между представителями различных видов ремесла: строителями, кожевниками, обувщиками, ткачами, плотниками, оружейниками, кузнецами, гончарами, ювелирами, мастерами по выделке предметов роскоши из слоновой кости и т. п.
Железные орудия труда, применявшиеся ремесленниками, были многообразны и специализированы. Тут наряду с простыми орудиями и инструментами уже видное место занимали элементарный, примитивный токарный станок и кузнечный мех.
Наибольшее развитие античная техника получила в области военного дела и в кораблестроении, в развитии военного и торгового флота. Так, знаменитая триэра, применявшаяся я военно-морском флоте греков в V в. и в эпоху эллинизма, сменяется затем пятиярусным кораблем-пентерой. Подобные корабли, снабженные боевыми башнями, таранами, метательными аппаратами, строились на специально оборудованных верфях. Большие суда типа корабля «Сиракузы», принадлежавшего сиракузскому тирану Гиерону, вмещали до 3—4 тыс. тонн груза. На каждом из таких кораблей могло разместиться до 600 воинов.
Развитие корабельного дела, а также строительство многоэтажных домов, дворцов, вилл, храмов, различных общественных зданий свидетельствуют о сравнительно высоком уровне строительной техники в античном мире.
Важнейшим показателем степени развития производительных сил в эпоху рабства является образование городов с населением в десятки и сотни тысяч человек, что в предшествующую эпоху не было возможно.
Производственные отношения рабовладельческого общества
Производственные отношения рабовладельческого общества являются отношениями господства и подчинения. Их основу составляет собственность рабовладельца на средства производства, а также и на непосредственного производителя — раба. Рабовладелец покупает раба как скот. Он может его не только заставить работать сколько угодно, но и искалечить, убить, продать. Раб, по меткому выражению самих древних, является лишь говорящим орудием (instrumentum vocale) в отличие от животного — одаренного голосом орудия (instrumentum semi — vocale) —и от неодушевленного, немого орудия труда (instrumentum mutum). Как средства производства, так и продукты производства принадлежали рабовладельцу.
Труд в рабовладельческом обществе основан на внеэкономическом принуждении, на насилии, на зверской, беспощадной и хищнической эксплуатации рабов. Рабы трудились под плетью надсмотрщика, часто прикованные цепями к орудиям их труда. Рабовладелец присваивал не только прибавочный продукт раба, но частично и продукт, необходимый для воспроизводства его жизни, что приводило к преждевременному истощению и массовой смерти рабов.
Хозяйство рабовладельческих обществ в основном было натуральным, рассчитанным на удовлетворение непосредственных потребностей рабовладельца. Эти потребности ставили известные границы, пределы эксплуатации рабов. Но по мере развития обмена, торговли, в частности предметами роскоши, ввозимыми в Грецию и Рим из восточных стран, по мере возрастания значения денег усиливалась хищническая эксплуатация рабов в сельском хозяйстве и в ремесле, производившем продукты на рынок.
Особенно бесчеловечной и жестокой была эксплуатация рабов в горной промышленности, добывающей золото и серебро, т. е. там, где целью производства была не потребительская стоимость, а меновая стоимость в ее самостоятельной денежной форме. Диодор Сицилийский, которого Маркс цитирует в «Капитале», пишет: «Нельзя без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих несчастных (работающих на золотых приисках между Египтом, Эфиопией и Аравией), не имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего тела или о прикрытии своей наготы. Ибо здесь нет места снисхождению и пощаде по отношению к больным, хворым, старикам, к женской слабости. Все должны работать, принуждаемые к этому ударами бича, и только смерть кладет конец их мучениям и нужде» [104].
Крайняя дешевизна рабов в древней Греции и Риме (особенно в период успешных захватнических войн, главной целью которых было именно завоевание рабов) также стимулировала чрезмерную их эксплуатацию. Продолжительность жизни раба становилась менее важной, чем производительность его труда. Для рабовладельцев было экономическим правилом: выжать из раба возможно большую массу труда в возможно меньший промежуток времени. Производственные отношения рабовладельческого общества характеризуются разделением города и деревни, умственного и физического труда — разрывом между умственным и физическим трудом. Физический труд становится уделом рабов, а умственный труд монополизируется классом рабовладельцев.
Антагонизм между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, возникший в рабовладельческом обществе, сохраняется и воспроизводится затем на протяжении всей истории антагонистических общественных формаций.
Значение рабовладельческого способа производства в развитии общества
Рабство как форма производственных отношений низводило производителя до положения рабочего скота и подавляло у него заинтересованность в развитии орудий производства. Протест против своего бесправного положения раб выражал тем, что ломал орудия производства, калечил скот, давая этим почувствовать, что и он человек. В силу этого экономическим принципом рабовладельцев было, как правило, применение грубых тяжеловесных орудий труда, чтобы раб не смог их сломать.
Но, несмотря на то, что рабство убивало стимул к совершенствованию орудий производства, оно все же по сравнению с первобытно-общинным строем означало дальнейший шаг в развитии производительных сил. Об этом свидетельствует развитие земледелия, ремесла, плавки металлов, успехи строительной техники в античном мире. Грандиозные сооружения: дворцы, театры, цирки, храмы, римский водопровод, большой протяженности дороги, мощенные каменными плитами, морской и речной флот, а также сложные ирригационные системы в сельском хозяйстве, зачатки агрокультуры — все это было создано массовым трудом рабов или на основе труда рабов, на основе их жесточайшей, бесчеловечной эксплуатации, при участии труда свободных, не превращенных в рабов земледельцев и ремесленников — демиургов, как их называли греки.
Главную основу античного общества составлял труд рабов. Хотя прибавочный труд рабов шел прежде всего на содержание и удовлетворение личных потребностей рабовладельцев, но часть этого труда шла на расширение и развитие производства. За счет эксплуатации и гибели сотен тысяч и миллионов рабов более ускоренным темпом, чем в доклассовом обществе, происходило накопление богатств, расширялось производство, развивались наука и искусство.
Скопление огромной массы рабов впервые открыло возможность в больших масштабах применить в производстве простую кооперацию труда. А кооперация труда является огромным источником повышения производительности труда.
Как из глубины океана поднимаются мощные коралловые рифы и образуют остров, сушу, несмотря на то, что каждый индивидуальный элемент этого процесса ничтожен и слаб, так совокупный массовый труд рабов дал возможность создать гигантские сооружения древности.
В рабовладельческом обществе упрочиваются ранее возникшие формы общественного разделения труда и делается новый шаг в развитии разделения труда. Оценивая прогрессивную роль рабства в развитии человеческого общества, Энгельс писал: «Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью и таким путем создало условия для расцвета культуры древнего; мира — для греческой культуры. Без рабства не была бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и римского государства. А без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы» [105].
Противоречия рабовладельческого способа производства и причины его гибели
Глубочайшее противоречие рабовладельческого способа производства заключалось в отделении непосредственных производителей — рабов от средств производства, в превращении их в собственность рабовладельцев. Рабы не были заинтересованы в совершенствовании орудий производства, в поднятии производительности труда. Вместе с тем чрезмерная эксплуатация рабов вела, к их умственной и физической деградации и фактически была равносильна их медленному убийству. Важнейшая производительная сила — люди, трудящиеся — уничтожалась. Превращение производителей в рабочий скот, а труда — в рабскую повинность порождало психологию презрения к физическому труду не только у рабов, но и у свободных. Аристотель жаловался, что общение с рабами деморализует граждан.
Рабовладельческий способ производства рождал паразитизм, оказывал разлагающее влияние на все общество, вытесняя труд свободных крестьян и ремесленников; обрекая их на гибель, он закрывал путь к дальнейшему общественному развитию.
«Там, где рабство является господствующей формой производства, там труд становится рабской деятельностью, т. е. чем-то бесчестящим свободных людей. Благодаря этому закрывается выход из подобного способа производства, в то время как, с другой стороны, требуется устранение его, ибо для развития производства рабство является помехой. Всякое покоящееся на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия» [106]. Рабовладельческий способ производства и рабовладельческое общество погибли не в результате завоевания Рима германскими варварами, а прежде всего и главным образом потому, что рабство изжило себя, стало тормозом, препятствием для развития производительных сил общества.
«Рабство перестало окупать себя и потому отмерло. Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в презрении свободных к производительному труду. То был безвыходный тупик, в который попал римский мир: рабство сделалось экономически невозможным, труд свободных морально презирался. Первое уже не могло, второй еще не мог сделаться основной формой общественного производства. Вывести из этого положения могла только коренная революция» [107]. «Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся» [108].
Вся история рабовладельческого общества — это история ожесточенной классовой борьбы, борьбы рабов и рабовладельцев, бедных и богатых, эксплуатируемых и эксплуататоров, бесправных и полноправных. Переход от рабовладельческого общества к феодальному произошел в результате революции рабов.
3. Производительные силы в производственные отношения феодального общества
Возникновение феодального способа производства
Процесс перехода от рабовладельческого способа производства к феодальному был длительным, он занял несколько столетий, сопровождавшихся восстаниями рабов и войнами.
В течение последних двух-трех веков существования античного рабовладельческого общества оно приходило в упадок: производительные силы общества, пришедшие в противоречие с рабовладельческими производственными отношениями, разрушались. На месте некогда плодородных полей возникали пустыри, скотоводство деградировало, города и сосредоточенные в них ремесла чахли, горные промыслы хирели, уменьшалась численно и истощалась главная производительная сила рабовладельческого общества — рабы. Вместе с тем происходил распад экономических связей между различными частями Римской империи, замирала торговля.
Разорение рабовладельцами крестьян и ремесленников, превращение их в рабов или бездомных люмпен-пролетариев подорвало былую военную мощь Римской империи. Под ударами восстаний рабов и надвигавшихся германских варваров в конце V в. Римская рабовладельческая империя пала. Варвары сначала заняли провинции Римской империи, а затем и самую столицу империи — Рим.
Новые производительные силы требовали новых производственных отношений, могущих открыть более широкий простор для их развития. «Новые производительные силы требуют, чтобы у работника была какая-нибудь инициатива в производстве и наклонность к труду, заинтересованность в труде. Поэтому феодал покидает раба, как не заинтересованного в труде и совершенно неинициативного работника, и предпочитает иметь дело с крепостным, у которого есть свое хозяйство, свои орудия производства и который имеет некоторую заинтересованность в труде, необходимую для того, чтобы обрабатывать землю и выплачивать феодалу натурой из своего урожая» [109].
Феодальный способ производства возникает в результате слияния и перекрещивания двух встречных процессов. Во-первых, в результате краха рабовладельческого способа производства и процесса возвращения экспроприированного и оторванного ранее от земли плебса (бывших крестьян) и рабов к земле, к сельскому хозяйству в качестве зависимых арендаторов (колонов) и, во-вторых, в результате разложения первобытно-общинного строя у германских и других племен, развития у них земледелия сначала на основе общинной, а затем частной собственности на землю.
Возвращение экспроприированного ранее рабовладельцами и оторванного от производства населения к земле было прогрессивным процессом, означавшим начало перехода к новому, более высокому способу производства, к феодализму.
У варваров-завоевателей существовал еще родовой строй, но он находился в процессе разложения. Возникала частная собственность на скот, на инвентарь, шел процесс возникновения классов и государства. Процесс распада первобытно-общинных, родовых отношений в ходе завоевательных войн и в результате завоеваний усилился. Захваченные варварами земельные владения первоначально перешли в общинную собственность. Но затем военачальники племен и возникавшая королевская власть расхитили, захватили эти земли. Короли раздавали земли своим приближенным военачальникам, дружинникам, сначала в пожизненное, а затем и в наследственное пользование. Значительные земельные владения были розданы королями и захвачены у народа христианской церковью и монастырями, ставшими опорой складывавшегося феодального строя.
Земельные владения, захваченные у народа представителями этого нового эксплуататорского класса, назывались феодами (отсюда название — феодализм). Эта земля обрабатывалась мелкими производителями-крестьянами, впадавшими во все большую экономическую и политическую зависимость от феодалов — крупных землевладельцев, помещиков.
Под влиянием экономических процессов и непрерывных войн в эпоху феодализма свободные крестьяне-общинники из среды варварских племен разорялись, утрачивали свою независимость, а затем превращались в крепостных. В различных странах этот процесс имел свои особенности. Но результат был один: рабы, а также некогда свободные общинники-крестьяне превращались в результате экономического развития, ускоренного насильственной экспроприацией, в крепостных.
В России феодализм (крепостничество) возник в результате разложения первобытно-общинного строя и патриархального рабства. Земля, очищенная от леса, приспособленная под пашню, являлась первоначально собственностью крестьянских общин. Но в ходе общественного развития крестьяне попали в экономическую, а затем и политическую зависимость от князей, бояр, помещиков, сосредоточивавших в своих руках крупные земельные владения, скот и другое богатство.
Феодально-крепостнические производственные отношения
В общем ходе исторического развития феодальный способ производства был более прогрессивным, чем рабовладельческий. Феодальный способ производства по сравнению с рабовладельческим представлял собой более высокую ступень экономического развития потому, что он, во-первых, открывал большие возможности для развития производительных сил и прежде всего самих производителей, трудящихся, чем рабовладельческий строй; во-вторых, феодальный способ производства и феодальное общество в целом открывали более широкие возможности для классовой борьбы эксплуатируемых с эксплуататорами, чем это было в рабовладельческом обществе.
Феодальный способ производства, так же как и рабовладельческий, основан на отделении непосредственных производителей от средств производства, которые и тут используются для эксплуатации трудящихся. Феодальный способ производства, как и рабовладельческий, возникает вследствие экономических причин. Насилие — внеэкономический фактор — лишь ускорило процесс возникновения феодализма, но не создало его. Феодализм возникает как более выгодный экономически, более прогрессивный по сравнению с рабством способ производства.
Способ соединения производителей со средствами производства при феодализме иной, чем при рабстве. Основу феодальных производственных отношений составляет собственность феодала на средства производства, прежде всего на землю, и неполная собственность на работника — крепостного. Последнего помещик-феодал мог купить, продать, проиграть в карты, мог пороть на конюшне, но не имел формального права убивать, хотя в действительности были нередки случаи, когда крепостных крестьян помещики безнаказанно убивали. Наряду с собственностью феодала в эпоху феодализма существует единоличная собственность крестьянина и ремесленника на свои средства производства (лошадь, инвентарь, инструменты) и на свое личное хозяйство, которое было основано на личном труде самих производителей и в котором они были заинтересованы. В этом состояла одна из особенностей феодализма, открывавшая по сравнению с рабовладельческим строем значительно большие возможности для развития производительных сил. Крестьянин и ремесленник имели свое хозяйство, являлись собственниками средств производства. Вынужденные отдавать прибавочный труд феодалу в виде барщины или в виде натуральной или денежной ренты (оброк), крепостные могли остальное время работать в своем хозяйстве. Феодал в свою очередь освобождал себя от заботы о содержании рабочей силы. Крестьянин и ремесленник сами должны были обеспечить себя необходимыми средствами существования и в силу этого имели некоторую заинтересованность в труде.
Как и при рабстве, в условиях феодализма существует вне-экономическое принуждение к труду. Производители являются лично зависящими от феодала, хотя степень зависимости была различна в разных странах и в разные периоды развития феодализма. Энгельс писал, что на крепостного крестьянина «ложилась своею тяжестью вся иерархия общественного здания: князья, дворянство, попы, патриции, городские бюргеры. Принадлежал ли он князю, вольному имперскому рыцарю, монастырю или городу, с ним всюду обращались, как с вещью или вьючным животным или же еще хуже... В течение большей части своего времени он должен был работать на земле своего господина; а из того, что ему удавалось выработать в течение немногих свободных часов, он должен был выплачивать десятины, цензы, оброки, военные подати..., местные и общеимперские подати» [110].
Развитие производительных сил в феодальном обществе
В эпоху феодализма (с VI—X вв. вплоть до XVIII столетия, т. е. до победы капитализма в ряде стран Западной Европы) были достигнуты дальнейшие успехи в развитии производительных сил. Железный плуг, железный топор получили широкое распространение. Были введены в употребление некоторые технические новшества (виноградный пресс, ветряная мельница и т. п.). Повышалась эффективность использования тягловой силы животных в сельском хозяйстве, расширялись и приобретали все большее значение хлебопашество, огородничество, садоводство, виноделие и маслоделие. Одновременно осваивались новые хлебные и технические культуры, новые культуры плодовых деревьев. Шире, чем в предыдущую эпоху, расчищались леса под пашни, вновь начали обрабатываться заброшенные пустыри. Осуществлялось распространение трехпольного севооборота, более тщательная обработка полей.
Ремесленный труд в начале феодальной эпохи не отделялся от сельскохозяйственного труда. Помещики-феодалы имели в своем хозяйстве искусных мастеров, которые шили им и их челяди обувь, одежду, занимались изготовлением экипажей, сбруи и т. п. Но развитие ремесленной техники и искусства мастеров-ремесленников приводит к росту производительности труда, а в конце концов снова к отделению ремесленного труда от земледелия.
Отделение ремесла, а затем и торговли в самостоятельные области хозяйственной деятельности оказало огромное влияние на развитие производительных сил феодального общества. Начиная с XI в. постепенно начали оживать опустевшие или аграризированные города, кое-где уцелевшие от древней Римской империи; рядом с ними возникали новые, более многочисленные, чем в эпоху рабства, города; они становились центрами ремесла и торговли. Если рабовладельческое общество знало лишь немногие крупные города, такие, как Афины, Рим, Александрия, то в эпоху феодализма, в средние века кроме этих древних городов возникают такие, как Генуя, Венеция, Флоренция, Лондон, Париж, Кельн, Любек, Лион, Марсель, Киев, Москва, Новгород, Псков и другие крупнейшие города — средоточия ремесла и торговли.
Техника ремесла по сравнению с рабовладельческим обществом развивалась дальше. В прядении древнее веретено было заменено колесной прялкой, а затем самопрялкой, дававшей возможность производить одновременно две операции: прядение и намотку. Был усовершенствован ткацкий станок: вместо вертикального появился горизонтальный, с педалью. В шерстяной промышленности была изобретена сукновальная машина, в шелковой — крутильная машина.
Росла диференциация и специализация ремесленного труда. Так, например, текстильная промышленность разделялась более чем на 20 ремесел. Между ремеслами существовало разделение труда в порядке последовательности обработки материала (шерстомойщики, шерсточесы, шерстобиты, прядильщики, ткачи, сукновалы, красильщики и т.д.). Вместе с тем осуществлялась специализация и по производству различных тканей (шерстяных, шелковых, льняных).
Развивалась дальше горнорудная промышленность, была усовершенствована плавка и обработка железа и стали, осуществился переход от примитивного, так называемого сыродутного, способа плавки руды к современному доменному. Этот технический переворот в металлургии был осуществлен благодаря переходу от ручных мехов к более сложной системе мехов, приводимых в действие водяным двигателем. При этой системе мехов обеспечивался большой приток воздуха (кислорода).
Несмотря на применение в ряде отраслей производства, особенно в горнодобывающей промышленности, различных механизмов, приводимых в движение силой воды и ветра, в целом в эпоху феодализма орудия труда, инструменты оставались ручными, мелкими, примитивными, неуклюжими, ограниченными, рассчитанными на индивидуальное использование.
Ремесленники городов были объединены в цехи. Цехи регламентировали размеры производства товаров каждым ремесленником, определяли количество учеников и подмастерьев для каждого мастера (хозяина). Меры цеховой регламентации преследовали цель — ограничить конкуренцию между ремесленниками. Цеховые организации одновременно заботились о снабжении ремесленников сырьем и были органами, помогавшими сбыту товаров. Цеховые организации охраняли ремесленников от конкуренции пришлых, бежавших в города от помещичьей кабалы крепостных крестьян-кустарей. Цехи вместе с купеческими организациями—гильдиями впоследствии стали органами борьбы горожан против феодалов и феодальных повинностей, за свободу и независимость городов и горожан.
Развитие форм феодальной эксплуатации
Эксплуатация крепостных крестьян и ремесленников феодалами в ходе развития феодализма видоизменялась, переходя от барщины, или отработочной ренты, к натуральной ренте (натуральный оброк) и, наконец, к денежной ренте (денежный оброк). Нередко рента носила смешанный характер. Смена форм ренты, т. е. способов присвоения феодалами прибавочного продукта крепостных, в общем отражала развитие производительных сил общества.
При отработочной ренте необходимый труд крепостного, затрачиваемый на воспроизводство средств существования для себя и своей семьи, и прибавочный труд на феодала отделены друг от друга и во времени и в пространстве. Труд крепостного на феодала производится в хозяйстве феодала (на барщине) в определенные дни и осуществляется под надзором феодала, его приказчика или управляющего; дисциплина труда поддерживается ударами плети и палки.
При переходе к натуральной ренте крепостной уже работает в своем хозяйстве без прямого надзора феодала; он в большей мере располагает возможностью распоряжаться своим временем и своим трудом, причем прибавочный продукт даром присваивается феодалом — собственником земли. «Рента продуктами,— пишет Маркс,— предполагает более высокий культурный уровень непосредственного производителя, следовательно, более высокую ступень развития его труда и общества вообще; и отличается она от предыдущей формы тем, что прибавочный труд должен выполняться уже не в его натуральном виде, а потому уже не под прямым надзором и принуждением земельного собственника или его представителя; напротив, непосредственный производитель должен выполнять его под своей собственной ответственностью, подгоняемый силой отношений вместо непосредственного принуждения и постановлением закона вместо плети» [111]. На этой стадии развития, как и на предыдущей, хозяйство феодального общества носило натуральный характер и степень эксплуатации определялась, по выражению Маркса, размерами желудка феодала и его челяди.
Положение резко изменилось, когда обмен и деньги приобрели решающее значение в хозяйстве. Переход от натуральной ренты к денежной означал дальнейший этап в развитии производства, в разделении труда. Вместе с тем он привел к усилению эксплуатации, пробудил у феодалов ненасытную жажду присвоения прибавочного труда крестьян и ремесленников.
Несмотря на это, переход к денежной ренте был прогрессивным фактом. Он означал, что крепостной приобретал все большую экономическую самостоятельность, что производство обособленных производителей все более и более связывалось между собой через рынок, что непосредственный производитель во все возрастающей степени вступал в связь с обществом. Переход к денежной ренте означал уже собственно процесс разложения феодального способа производства. Для феодализма характерна натуральная форма хозяйства, замкнутость, изолированность его хозяйственных единиц. Развитие обмена, денежных отношений, разъедало, разлагало изнутри феодальное хозяйство.
Противоречия феодального способа производства
Феодальный способ производства в зависимости от конкретных исторических условий различных стран обнаруживал различные модификации, вариации и градации [112]. Однако решающим, основным для характеристики феодального способа производства при всех его видоизменениях является эксплуатация феодалами непосредственных производителей — крепостных крестьян и ремесленников. В этом заключено главное противоречие феодального способа производства, носящее антагонистический характер и вызывающее ожесточенную классовую борьбу крепостных против феодалов. Эта борьба заполняет собой всю историю феодального общества, составляя ее основное содержание.
Противоречия феодального способа производства получали свое выражение в антагонизме двух форм собственности: нетрудовой собственности феодала — крупного землевладельца и трудовой собственности крепостных — крестьянина и ремесленника.
Хозяйство феодала держалось не только на присвоении труда крепостных крестьян и ремесленников, но и на использовании инвентаря крестьянина. С развитием обмена стремления крестьянина и ремесленника к накоплению и расширению своего хозяйства все больше и больше приходили в противоречие со стремлением феодала к максимальному присвоению прибавочного труда крепостных. Это антагонистическое противоречие являлось одной из форм движения производительных сил в феодальную эпоху. Вначале это противоречие носило скрытый характер, а с развитием обмена и усилением эксплуатации оно выступило наружу.
В своей борьбе против феодалов крепостные крестьяне в первое время опирались на сельскую общину, как ремесленники и купцы городов — на свои союзы — цехи и гильдии.
В ходе развития феодального способа производства внутри ремесла возникает и развивается антагонизм между ремесленниками — мастерами, с одной стороны, и подмастерьями и учениками, с другой. Первоначально отношения между мастером и подмастерьем, между мастерами и учениками носили патриархальный характер: они работали, жили и питались вместе, ученик и подмастерье рассматривали себя как будущих мастеров. Но с развитием ремесла в городах и кустарной, домашней промышленности в деревне росла конкуренция, затруднялся сбыт товаров. Это привело к усилению эксплуатации подмастерьев и учеников, к ограничению, а затем и фактическому запрещению перевода подмастерьев в мастера. Ученики и подмастерья превратились в пролетариев, в наемных рабочих. Вследствие этого возникла и развилась борьба между подмастерьями и мастерами. Цехи были в этой борьбе всецело на стороне мастеров и превратились в реакционные организации, тормозившие развитие производительных сил.
Предпосылки возникновения капиталистического способа производства
Вызванные ростом ремесла и торговли, великие географические открытия конца XV и начала XVI в. и образование международного рынка дали мощный толчок развитию производительных сил феодального общества.
Ремесленное производство уже не могло удовлетворить растущего спроса на товары. Цеховая форма организации производства с ее мелочной регламентацией, строго ограничивающей число подмастерьев, размеры и качество изготовляемого товара и т. д., стала тормозом развития производства. На смену ремеслу пришла мануфактура.
Мануфактура знаменовала собой дальнейший шаг вперед в развитии производительных сил и вместе с тем возникновение нового, капиталистического способа производства.
Возникновение мануфактуры было подготовлено прогрессирующим разделением труда, специализацией и развитием ремесла. Мануфактура в первоначальном своем виде лишь как бы раздвигала, расширяла рамки ремесленной мастерской, увеличивая ее размеры, сосредоточивая большое число рабочих в одном месте, на общем поле труда. Она еще базировалась целиком на ремесленной технической основе; процесс труда в ней носил по существу ремесленный характер, зависел от силы и ловкости каждого отдельного рабочего, от его искусства, умения обращаться с инструментами. Но сосредоточение значительного числа рабочих в одном месте под единым руководством позволило тем самым кооперировать труд, создать сложную систему разделения труда внутри мануфактуры, расчленить производство на простейшие операции и тем самым увеличить производительность труда.
Специализация и разделение труда вели к одностороннему развитию одних способностей производителя за счет подавления остальных его способностей, физических и духовных. В мануфактуре «Индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы, и таким образом осуществляется на деле пошлая басня Менении Агриппы, которая изображает человека в виде части его собственного тела» [113].
Несмотря на антагонистическую форму, в которой развитие производительных сил осуществлялось за счет непосредственных производителей, мануфактура подготовляла великий переворот в производстве. Детальное расчленение труда внутри мануфактуры обусловливало улучшение орудий труда, инструментов, приспособленных исключительно к обособленным функциям частичных рабочих. Тем самым мануфактура создавала материальные предпосылки для появления машины, представляющей собой, по определению Маркса, комбинацию многих простейших инструментов.
Мануфактура вместе с тем являлась школой подготовки многочисленных искусных кадров рабочих.
Мануфактура, возникнув в недрах феодального общества, не могла, однако, ни охватить все общественное производство, ни преобразовать его в корне. «Она выделялась как архитектурное украшение на экономическом здании, широким основанием которого было городское ремесло и сельские побочные промыслы» [114].
Появление мануфактуры знаменовало собой рождение в недрах феодального общества нового, капиталистического способа производства и новых общественных классов — пролетариата и буржуазии.
Новые производительные силы, созревшие в недрах феодализма, пришли в противоречие с феодальными производственными отношениями. Последние из формы развития производительных сил превратились в оковы развития.
Классовая борьба между крепостными и феодалами, между эксплуататорами и эксплуатируемыми выливалась в форму многочисленных восстаний крепостных крестьян и ремесленников против феодалов и увенчивалась буржуазными революциями, насильственно уничтожавшими феодальные отношения собственности, феодальные учреждения и власть помещиков-крепостников. Инициатором и главной ударной силой антикрепостнических революций было крепостное крестьянство. Буржуазные революции, происходившие в Западной Европе в течение XVII—XIX вв., расчищали путь для развития капиталистического способа производства, для развития буржуазного общества.
4. Развитие производительных сил и производственных отношений в капиталистическом обществе
Производительные силы капиталистического общества
Переход от феодального способа производства к капиталистическому был обусловлен развитием производительных сил. Это был переход от самопрялки к прядильным машинам, от ручного ткацкого станка к механическому ткацкому станку, от ручного кузнечного молота к паровому молоту, от ветряной мельницы к паровой мельнице. Это был переход от ремесленных мастерских и мануфактурных предприятий к крупному машинному производству, к громадным фабрикам и заводам с сотнями, тысячами и десятками тысяч рабочих. Характеризуя систему машинной техники крупных капиталистических предприятий, Маркс писал:
«В расчлененной системе рабочих машин, получающих свое движение посредством передаточных механизмов от одного центрального автомата, машинное производство приобретает свой наиболее развитый вид. На место отдельной машины выступает это механическое чудовище, тело которого занимает целые фабричные здания и демоническая сила которого, сначала скрытая в почти торжественно-размеренных движениях его исполинских членов, прорывается в лихорадочно-бешеной пляске его бесчисленных рабочих органов в собственном смысле слова» [115].
Вместо рутинного ремесленного производства, основанного на личном искусстве, опыте и смекалке ремесленника, крупные машинные капиталистические предприятия основаны на применении к производству данных естествознания (механики, физики, химии).
Первые машины, изготовлявшиеся в мануфактуре, были неуклюжи, дороги и вследствие этого не могли получить широкого распространения. Крупная машинная индустрия пришла в противоречие с узким техническим базисом мануфактуры и должна была создать свою собственную, адэкватную ей техническую базу, перейти к производству машин при помощи машин.
В сельском хозяйстве с развитием капитализма был осуществлен переход от дворянских поместий, применявших для обработки полей примитивные крестьянские орудия труда, к крупным сельскохозяйственным экономиям, основанным на применении сельскохозяйственных машин и агрономии.
Новые орудия производства в промышленности и в сельском хозяйстве требовали и новой организации труда, требовали от работника известного уровня культуры, умения приводить в движение машину и управлять ею. Поэтому темному, забитому, неграмотному крепостному капиталист предпочитает грамотного наемного рабочего, освобожденного от крепостнических уз и умеющего обращаться с машинами.
Капиталистические производственные отношения
Процесс возникновения и развития капиталистического способа производства являлся одновременно процессом отделения непосредственных производителей — крестьян и ремесленников — от средств производства, превращения их в пролетариев, в класс, лишенный всякой собственности на орудия и средства производства.
«...Превращение индивидуальных и распыленных средств производства в общественно концентрированные, следовательно превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда,— эта ужасная и трудная экспроприация народной массы образует пролог истории капитала. Она включает в себя целый ряд насильственных методов... Экспроприация непосредственных производителей производится с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей» [116].
Монопольная собственность класса капиталистов на орудия и средства производства образует основу капиталистических производственных отношений. Но наряду с крупной капиталистической собственностью еще имеет широкое распространение, особенно в начале развития капитализма, мелкая частная собственность крестьян и ремесленников, добытая их трудом. Но эту трудовую, мелкую собственность систематически вытесняет капиталистическая собственность, основанная на эксплуатации чужого, наемного труда.
В отличие от раба и крепостного наемный рабочий формально свободен от личной зависимости. На рынке труда рабочий выступает как товаровладелец, как собственник своей рабочей силы. Но будучи юридически свободным, независимым от капиталиста, он зависит от последнего экономически. Лишенный средств производства и средств существования, рабочий не может сам применить свою рабочую силу, свой труд. Между рабочим и средствами производства, которые он должен привести в движение, стоит капиталист, — собственник средств производства.
Чтобы не умереть с голоду, рабочий вынужден продавать свою рабочую силу капиталисту — владельцу средств производства, вынужден влачить ярмо эксплуатации, капиталистического рабства. Только через продажу рабочей силы осуществляется в условиях капитализма соединение личных и вещественных факторов производства. Капиталистический процесс производства одновременно является и процессом эксплуатации наемного труда и процессом самовозрастания, накопления капитала.
В отличие от открытой эксплуатации рабов и крепостных, связанной с внеэкономическим принуждением, капиталистическая форма эксплуатации, присвоение капиталистами прибавочного труда наемных рабочих, маскируется отношениями свободного найма, купли и продажи, видимостью полной оплаты купленного труда. В действительности капиталист покупает не труд, как представляют дело буржуазные экономисты, а рабочую силу. Заработной платой капиталист возмещает рабочему не его труд, а лишь стоимость рабочей силы. Рабочий же в процессе труда производит не только стоимость продуктов, необходимых для воспроизводства рабочей силы, но и создает прибавочную стоимость, присваиваемую капиталистом.
В условиях капитализма необходимый труд, воспроизводящий стоимость рабочей силы, и прибавочный труд, присваиваемый капиталистом, не отделены друг от друга, а как бы слиты воедино. Нужен был гений Маркса, чтобы открыть тайну капиталистической эксплуатации, производства прибавочной стоимости и самовозрастания капитала.
Движущим мотивом капиталистического производства является не удовлетворение материальных потребностей общества, не производство средств существования для удовлетворения этих потребностей, а прибыль, производство прибавочной стоимости. В силу этого капиталистическая эксплуатация отличается особой беспощадностью. Жажда прибыли, накопления, самовозрастания капитала ненасытна. Этой отвратительной страсти, алчности приносятся в жертву миллионы жизней взрослых и детей, мужчин и женщин.
«...При своем безграничном слепом стремлении, при своей волчьей жадности к прибавочному труду капитал опрокидывает не только моральные, но и чисто физические максимальные пределы рабочего дня. Он узурпирует время, необходимое для роста, развития и здорового сохранения тела. Он похищает время, которое необходимо рабочему для того, чтобы пользоваться свежим воздухом и солнечным светом... Капитал не спрашивает о продолжительности жизни рабочей силы. Интересует его единственно тот максимум рабочей силы, который можно привести в движение в течение рабочего дня. Он достигает этой цели сокращением жизни рабочей силы...» [117].
Движущие мотивы развития производительных сил в условиях капитализма
Капиталистическая собственность на средства производства, капиталистические производственные отношения, замена крепостного труда трудом наемного рабочего открыли в свое время неизмеримо более широкие возможности для развития общественных производительных сил, чем при феодализме. Ни одна из предшествующих эпох в истории человечества не знала таких бурных темпов в развитии производительных сил, как при капитализме: в течение одного-двух веков существования капиталистического общества были созданы более мощные производительные силы, чем за всю предшествующую историю человечества.
«Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения,— какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда.» [118]- писали Маркс и Энгельс в 1848 г.
Технический базис ремесленного производства в условиях рабства и цехового ремесла в условиях феодализма был относительно консервативен. Напротив, капиталистический способ производства в период восходящего своего развития был связан с бурными переворотами в технике производства, в орудиях производства, с постоянным движением вперед.
Главным мотивом, движущей пружиной этого бурного развития производительных сил в условиях капиталистического общества является производство прибавочной стоимости, накопление капитала, погоня капиталистов за прибылью. Новые орудия производства, усовершенствование техники производства являются для капиталистов средством сокращения необходимого рабочего времени и увеличения прибавочного рабочего времени, в течение которого создается прибавочная стоимость. Вместе с тем введение новых машин, сокращающих применение рабочей силы, часто являлось в руках капиталистов орудием борьбы против рабочих. Капиталисты использовали новые машины как средство сломить сопротивление рабочих.
Ненасытная жажда накопления капитала и неумолимые законы капиталистической конкуренции заставляли капиталиста осуществлять расширение производства, вводить новую технику. Уже только для того, чтобы сохранить капитал, капиталист вынужден расширять производство. Тенденция к расширенному воспроизводству является законом капитализма. Технические и экономические возможности расширенного воспроизводства обеспечиваются развитием индустрии, производящей средства производства. Это расширенное воспроизводство выражается не только в возрастающем производстве предметов, потребительных и меновых стоимостей, но и в расширяющемся воспроизводстве самих капиталистических отношений, отношений эксплуатации, капиталистических противоречий и антагонизмов, в частности в расслоении крестьянства на кулаков и батраков, в перенесении методов капиталистической эксплуатации в колонии и зависимые страны, где эксплуатация принимает наиболее жестокие и зверские формы.
Антагонистический характер развития производительных сил при капитализме
В период восходящего развития капиталистического способа производства производственные отношения в основном соответствовали состоянию производительных сил и являлись формой, способствовавшей их развитию. Однако с самого своего возникновения капиталистический способ производства заключал в себе внутренние противоречия: между общественным характером производства и частной, капиталистической формой присвоения; между тенденцией к безграничному росту производства и производительных сил и ограниченными целями производства, которые ставят постоянные границы развитию производства; между производством и ограниченным потреблением, обусловленным нищенскими условиями жизни трудящихся масс; между организацией производства на отдельном предприятии и анархией производства в обществе; между рабочим и машиной как орудием капитала; между умственным и физическим трудом, между наукой и рабочим; между городом и деревней; между капиталистической метрополией и колониями. Противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения находит свое выражение в антагонизме между пролетариатом и буржуазией, между трудом и капиталом.
В рамках этих противоречий и антагонизмов происходило и происходит развитие производительных сил капиталистического общества. Каждый шаг в развитии производительных сил покупался ценой подавления и порабощения рабочих, путем усиления их эксплуатации. Средства производства при капитализме — это средства эксплуатации. Машина, представляющая величайшее средство увеличения производительности труда и, следовательно, облегчения труда рабочего, стала при капитализме средством порабощения рабочего, усиления эксплуатации, средством удлинения рабочего дня и повышения интенсивности труда. Машина способствовала вовлечению в производство и эксплуатации женского и детского труда. «Принудительный труд на капиталиста не только захватил время детских игр, но овладел и временем свободного труда в домашнем кругу, в установленных нравами пределах, для нужд самой семьи» [119].
Машина в условиях капитализма превращает рабочего в автомат, в свой придаток; она изматывает его физически и интеллектуально, подавляет многостороннюю игру мускулов, отнимает у него всякую возможность свободной физической и духовной деятельности.
«Всякому капиталистическому производству, поскольку оно есть не только процесс труда, но в то же время и процесс возрастания стоимости капитала, обще то обстоятельство, что не рабочий применяет условие труда, а, наоборот, условие труда применяет рабочего, но только с развитием машины это извращенное отношение получает технически осязательную реальность. Благодаря своему превращению в автомат средство труда во время самого процесса труда противостоит рабочему как капитал, как мертвый труд, который подчиняет себе живую рабочую силу и высасывает ее. Отделение интеллектуальных сил процесса производства от ручного труда и превращение их во власть капитала над трудом получает свое завершение... в крупной промышленности, воздвигающейся на базисе машин» [120].
Применение и развитие машин в условиях капитализма выталкивает часть рабочих из производства, ставит их в ряды резервной промышленной армии. Чрезмерный труд одной части рабочего класса обусловливает безработицу другой его части.
Основное противоречие капитализма
Основное противоречие капиталистического способа производства — это противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. Производство при капитализме носит общественный характер не только в пределах фабрики, где выработкой одного продукта заняты нередко тысячи рабочих, связанных друг с другом разделением труда. Через разделение труда и обмен капитализм осуществил обобществление производства в гигантских масштабах, в пределах страны и даже всего капиталистического общества.
В ходе развития капиталистического способа производства происходит не только вытеснение докапиталистических форм производства, вытеснение самостоятельных производителей — ремесленников и крестьян, но и вытеснение более крупными капиталистами мелких. «Рука об руку с этой централизацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда во все более и более широких, крупных размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономизирование всех средств производства путем употребления их как средств производства комбинированного общественного труда, вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущения рабочего класса, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства» [121].
Гигантское обобществление производства в масштабе всего капиталистического общества и одновременное сохранение частной собственности на средства производства — вот основное противоречие капитализма, из которого вытекают все остальные его антагонистические противоречия, обусловливающие катастрофический, разрушительный характер его развития и неизбежно ведущие его к гибели.
Противоречие между производительными силами и капиталистическими производственными отношениями, между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения находит свое выражение в периодически повторяющихся через каждые 10—8—7 лет кризисах перепроизводства. Прежние эпохи знали кризисы в области хозяйства, связанные со стихийными, природными бедствиями: засухой, наводнением, землетрясением и т. п. Но ни одна докапиталистическая форма производства не знала таких явлений, как кризисы перепроизводства, во время которых останавливается одно предприятие за другим, рабочие миллионами выбрасываются из производственного процесса и обрекаются на голодную смерть. При капитализме нищета и голод трудящихся масс наступают от избытка произведенных ими товаров, не находящих сбыта из-за отсутствия платежеспособного спроса. А отсутствие платежеспособного спроса есть следствие крайне низкого, нищенского уровня жизни широких масс, на который их обрекает капитализм.
В кризисах перепроизводства выражается и проявляется исторически преходящий характер капиталистического способа производства, несоответствие капиталистических производственных отношений современным производительным силам. Капиталистическая собственность на средства производства стала путами, оковами для развития производительных сил. Во время кризисов перепроизводства уничтожаются не только готовые товары, но разрушаются и производительные силы: деклассируются и гибнут рабочие, приходят в негодность техника, оборудование предприятий. Выросшие производительные силы требуют признания за ними их общественной природы, иного, не капиталистического, а социалистического их использования.
Растущее несоответствие современных производительных сил и капиталистических производственных отношений обнаруживается и проявляется в том, что кризисы перепроизводства повторяются все чаще и чаще, промежутки между кризисами становятся меньше, а сами кризисы принимают все более разрушительный характер. Это несоответствие с особой силой выступило в эпоху империализма, когда восходящая линия развития капитализма сменилась нисходящей линией. Современный капитализм превратился в загнивающую систему, его внутренние противоречия достигли небывалой глубины и остроты, а развитие приобрело крайне катастрофический характер.
Антагонистический характер противоречий капиталистической системы производства находит свое выражение и непримиримости интересов основных классов капиталистического общества — пролетариата и буржуазии, в обострении классовой борьбы, которая неизбежно во всех странах капитализма приведет к пролетарской революции, к свержению капитализма, к установлению диктатуры пролетариата и победе социализма.
Господство монополий при империализме
Империализм, или монополистический капитализм,— это современная, высшая стадия монополии при капитализме, когда господствующее значение во всем капиталистическом хозяйстве приобрели капиталистические монополии, когда промышленный капитал слился с банковским капиталом и решающая роль в экономической и политической жизни принадлежит финансовым воротилам (например, в США — 60 семействам банкиров и промышленных магнатов).
Для старого, домонополистического капитализма характерно было господство свободной конкуренции. Но ход развития капиталистического производства и капиталистической конкуренции закономерно вел и ведет ко все большей и большей концентрации и централизации производства и капитала в руках немногих могущественных магнатов капитала, трестов, картелей, концернов.
В ходе капиталистической конкуренции мелкие капиталисты вытесняются крупными, а эти последние в свою очередь вытесняются и побиваются крупнейшими капиталистами и союзами капиталистов. Так была достигнута современная стадия развития полного господства могущественных капиталистических монополий: корпораций, трестов, синдикатов, картелей, банков, ворочающих капиталами в миллиарды долларов, марок или фунтов стерлингов. Империализм вырос как прямое и непосредственное продолжение и развитие капитализма, как его высшая и последняя стадия.
«...Капитализм,— пишет Ленин,— стал капиталистическим империализмом лишь на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу. Экономически основное в этом процессе есть смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями. Свободная конкуренция есть основное свойство капитализма и товарного производства вообще; монополия есть прямая противоположность свободной конкуренции, но эта последняя на наших глазах стала превращаться в монополию, создавая крупное производство, вытесняя мелкое, заменяя крупное крупнейшим, доводя концентрацию производства и капитала до того, что из нее вырастала и вырастает монополия: картели, синдикаты, тресты, сливающийся с ними капитал какого-нибудь десятка ворочающих миллиардами банков. И в то же время монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов. Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю» [122].
Монополистический капитализм создал все материальные предпосылки для революционного перехода к социализму.
Конкуренция и обобществление производства в эпоху империализма
В эпоху империализма централизация производства и капитала достигла гигантских размеров. Еще накануне первой мировой воины крупные предприятия в Германии, составлявшие менее одной сотой общего числа предприятий, сосредоточили более трех четвертей общей мощности паровых и электрических двигателей. «Десятки тысяч крупнейших предприятий — все; миллионы мелких — ничто» [123], — писал Ленин.
В качестве примера возрастающей концентрации капиталистического производства можно указать на рост капиталистических монополий в США. 'Почти половина всего производства в США уже сорок лет назад была сосредоточена в руках одной сотой доли всех предприятий. С тех пор концентрация производства и капитала в руках немногих монополий значительно возросла, мощь монополий увеличилась до колоссальных размеров. В 1945 г. 250 гигантских корпораций контролировали 70% всего промышленного производства США. Из этих 250 крупнейших корпораций 31 контролировалась пятью финансовыми группами (Морган-Ферст нейшнл, Меллона, Рокфеллера, Дюпона и Кливлендской группой). Заводы, принадлежащие этим 31 корпорациям, оценивались в 18,2 млрд. долларов, что равнялось 30% стоимости всех заводов обрабатывающей промышленности США.
Буржуазные экономисты Дж. Блэр, X. Хоучтон и М. Роуз в книге «Экономическая концентрация и вторая мировая война» пишут, что гигантские корпорации в 1945 г. владели 97% заводов в основной черной металлургии, 89% — в судостроении, 78% — в самолетостроении, 77%— в промышленности металлоизделий. Перед второй мировой войной 40% рабочих, занятых на всех предприятиях США с числом рабочих от 500 и выше, было занято на 0,1% всех фирм. Только за период 1941—1943 гг., по данным правительства США, разорились и погибли свыше 500 тыс. мелких, или независимых от монополий, фирм, а те, что сохранились, фактически утеряли свою независимость.
Процесс перерастания и превращения свободной конкуренции в господство монополий является законом, характерным для всех капиталистических стран.
«Полвека тому назад, когда Маркс писал свой «Капитал», — пишет Ленин,— свободная конкуренция казалась подавляющему большинству экономистов «законом природы». Казенная наука пыталась убить посредством заговора молчания сочинение Маркса, доказавшего теоретическим и историческим анализом капитализма, что свободная конкуренция порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Теперь монополия стала фактом. Экономисты пишут горы книг, описывая отдельные проявления монополии и продолжая хором заявлять, что «марксизм опровергнут». Но факты — упрямая вещь... Порождение монополии концентрацией производства вообще является общим и основным законом современной стадии развития капитализма» [124].
Господство финансовой олигархии
Представление о действительной роли и мощи капиталистических монополий было бы неполным без учета новой функции банков.
Из простых посредников по платежам банки в эпоху империализма превратились во всесильных монополистов, распоряжающихся всем денежным капиталом, а также преобладающей частью средств производства и источников сырья.
Уже в 1909 г. 9 крупных берлинских банков вместе с примыкающими к ним банками управляли 11,3 млрд. марок, т. е. почти 83% всей суммы немецкого банковского капитала. В США, по данным, приведенным В. И. Лениным в книге «Империализм, как высшая стадия капитализма», два крупнейших банка миллиардеров Рокфеллера и Моргана управляли капиталом в 11 млрд. марок. Благодаря концентрации большой части денежного капитала в руках немногих банков «из разрозненных капиталистов складывается один коллективный капиталист» [125].
Банки, подчинив своему контролю промышленность, усилили процесс концентрации и обобществления производства. Крупнейшая американская финансовая группа Моргана контролирует через свою банковскую сеть и участие в ряде капиталистических корпораций активы, превышающие 30 млрд. долларов. Она непосредственно контролирует 41 корпорацию, в состав которых входит 37 электрических компаний, 13 гигантских промышленных корпораций, 12 компаний коммунальных услуг, 11 основных железнодорожных компаний и несколько важнейших банковских учреждений. Кроме прямого подчинения есть еще целый ряд форм косвенного контроля банков над промышленными предприятиями и корпорациями. Если учесть все компании, связанные с финансовой фирмой Моргана, то ее прямой и косвенный контроль распространяется на активы, превышающие 77 млрд. долларов. Это превышает четверть всех капиталов американских корпораций.
Слияние, сращение капитала немногих крупнейших банков с капиталом монополистических союзов промышленников привело к образованию финансового капитала и к господству финансовой олигархии. Финансовая олигархия является господствующей силой в экономике и в политике капиталистических стран. Небольшая группа монополистов является силой, назначающей и сменяющей правительства. Она диктует правительствам внешнюю и внутреннюю политику, развязывает империалистические войны.
Основные черты империализма как загнивающего, умирающего капитализма
Характеризуя экономическую систему империализма, В. И. Ленин отмечает пять его основных черт:
Концентрация производства и капитала достигла такой ступени развития, когда она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни капиталистических стран.
Банковский капитал слился с промышленным, образовался финансовый капитал, господство перешло в руки финансовой олигархии.
В отличие от вывоза товаров особо важное значение приобрел вывоз капитала в колонии и зависимые страны.
Образовались международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир (источники сырья, сферы приложения капитала, рынки сбыта и т. д.) между собой на сферы влияния.
Закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами.
Монополистический капитализм (империализм) есть высшая и последняя стадия капитализма, это загнивающий, умирающий капитализм. В эпоху империализма не прекращается развитие производительных сил, а временами оно в отдельных отраслях производства и в отдельных странах происходит даже быстрее, чем в эпоху домонополистического капитализма. Но, во-первых, это развитие носит крайне неравномерный и катастрофический характер, во-вторых, при господстве монополий возникает и все больше усиливается тенденция к задержке развития производительных сил, к техническому застою. Будучи монопольными хозяевами в определенных отраслях производства, монополисты диктуют свои цены на товары, скупают патенты на изобретения, чтобы помешать конкурентам применить их в производстве. Этому содействует и хроническая недогрузка производственного аппарата капиталистических стран, достигающая временами 40—50%.
Американский трест «Дженерал Моторс» использует всего лишь 1% имеющихся у него патентов на изобретения, а 99% скуплены лишь для того, чтобы они не были использованы конкурентами.
Конкуренция и стремление понизить издержки производства и тем самым повысить прибыль, конечно, толкают капиталистов и в эпоху господства монополий к усовершенствованию техники. «Но тенденция к застою и загниванию, свойственная монополии, продолжает в свою очередь действовать, и в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки времени она берет верх» [126].
Эта тенденция к техническому застою, к загниванию особенно усилилась в эпоху всеобщего кризиса капитализма.
Загнивание капитализма проявляется также в эксплуатации, грабеже небольшой группой империалистических держав колониальных и полуколониальных стран с сотнями миллионов населения. Оно выражается и в росте паразитизма, в росте непроизводительного слоя рантье, живущих стрижкой купонов и превративших праздность в свою профессию.
«Вывоз капитала, одна из самых существенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний» [127].
Анализируя данные об удельном весе доходов, получаемых английским слоем рантье от капиталовложений за пределами Англии, В. И. Ленин заключает:
«Доход рантье впятеро превышает доход от внешней торговли в самой «торговой» стране мира! Вот сущность империализма и империалистического паразитизма» [128].
В эпоху империализма возникли государства-рантье, государства-ростовщики. К этим государствам до второй мировой войны относились Великобритания, СШ Америки, Франция, Япония, Голландия, Бельгия. После второй мировой войны колоссальные прибыли, полученные американскими монополиями во время войны, привели к тому, что США, страна доллара, превратились в главенствующую страну ростовщиков, страну империалистического паразитизма, загнивания. Остальные империалистические государства низведены к роли младших партнеров в грабеже колониальных и зависимых стран, к роли агентуры империалистических монополий США. Это не только не устранило противоречий между капиталистическими монополиями различных стран, а еще более обострило их.
Для империализма характерно то, что он превратил колониальные страны в аграрные придатки, в источники сырья промышленных стран-метрополий. Капиталистические монополии задерживают развитие промышленности в колониях, в особенности — обрабатывающей тяжелой промышленности. Осуществляя безудержный грабеж колониальных стран, империалисты подрывают возможности развития производительных сил в колониальных странах. Об этом свидетельствует двухсотлетнее владычество Англии в Индии, Голландии — в Индонезии, хозяйничанье империалистических стран в Китае до его освобождения, хозяйничанье США в странах Южной Америки.
В настоящее время капитализм США обрекает на полуколониальную зависимость ранее экономически развитые капиталистические страны Западной Европы. Опираясь на «план Маршалла», капиталистические монополии США в своем стремлении обеспечить себе рынок принуждают свертывать конкурирующие с ними отрасли производства стран Европы, входящих в орбиту «плана Маршалла». Таким образом, капиталистические монополии главной страны капитализма — США стремятся поддержать современный уровень развития производства в США ценой разрушения производительных сил за пределами США, путем превращения экономики других капиталистических стран в придаток промышленности США. Это ведет и не может не вести к крайнему обострению противоречий между капиталистическими странами, а также к крайнему обострению и углублению всех других противоречий капитализма.
Обострение противоречий капитализма в эпоху империализма. Империализм – канун социализма
Во всем этом обнаруживается снова и снова тот факт, что капитализм достиг такой стадии развития, когда он больше несовместим, как экономический и социальный строй, с современными производительными силами.
«Капитализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению.
Производство становится общественным, но присвоение остается частным. Общественные средства производства остаются частной собственностью небольшого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной конкуренции остаются, и гнет немногих монополистов над остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощутительнее, невыносимее» [129].
Господство монополий не устранило конкуренции, а еще более обострило ее и привело к усилению анархии производства и капиталистических противоречий, к росту неравномерности в развитии капиталистических стран. Развитие капиталистического производства в эпоху империализма приобрело крайне разрушительный, катастрофический характер.
«Организованный капитализм», «плановая капиталистическая экономика», «ультраимпериализм» как единый мировой капиталистический трест с плановым производством — все это выдумки апологетов капитализма, стремящихся оправдать одряхлевший капиталистический строй и продлить его существование.
Капитализм и анархия производства друг от друга неотделимы. Империализм, как указывал Ленин, не ослабляет, а усиливает конкуренцию и анархию производства, обостряет противоречия внутри капиталистического хозяйства. Монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней. В силу этого особо обостряются противоречия, трения и конфликты между гигантскими монополистическими объединениями, ведя к колоссальным разрушениям и опустошениям.
В эпоху империализма обострилась и приобрела качественно иной характер неравномерность экономического и политического развития капиталистических стран. Отдельные капиталистические страны, опираясь на современную технику, не только догоняют, но и скачкообразно перегоняют в своем экономическом развитии другие страны, ранее находившиеся впереди. Так, в конце XIX и в начале XX в. Германия обогнала Англию, а затем США обогнали и Англию и Германию. Характеризуя закон неравномерности развития капиталистических стран в эпоху империализма, товарищ Сталин писал:
«Закон неравномерности развития в период империализма означает скачкообразное развитие одних стран в отношении других, быстрое оттеснение с мирового рынка одних стран другими, периодические переделы уже поделённого мира в порядке военных столкновений и военных катастроф, углубление и обострение конфликтов в лагере империализма, ослабление фронта мирового капитализма, возможность прорыва этого фронта пролетариатом отдельных стран, возможность победы социализма в отдельных странах» [130].
Троцкисты и зиновьевцы пытались извратить и отвергнуть открытый Лениным закон неравномерности развития капиталистических стран. Они подменяли вопрос о неравномерности развития вопросом о различии в уровне развития отдельных стран и утверждали, что в эпоху империализма различия в уровне развития капиталистических стран уменьшаются, а, стало быть, неравномерность преодолевается.
На деле же именно в силу высокого развития техники и усиливающейся нивелировки уровня развития стран обострилась неравномерность темпов их развития и создалась возможность скачкообразного опережения одних стран другими, вытеснения одних стран другими, быстрее развивающимися. Старое распределение территорий и сфер влияния между империалистическими группами приходит каждый раз в столкновение с новым соотношением сил. Это приводит к кризису всей хозяйственной системы капитализма и к неизбежности империалистических войн за передел уже поделенного мира.
«Отсюда — усиление и обострение неравномерности развития в период империализма.
Отсюда — невозможность разрешения конфликтов в лагере империализма мирным порядком.
Отсюда — несостоятельность каутскианской теории ультраимпериализма, проповедующей возможность мирного разрешения, этих конфликтов» [131].
«Известно, что Ленин возможность победы социализма в отдельных странах выводил прямо и непосредственно из закона неравномерности развития капиталистических стран» [132].
На основе анализа закономерностей развития капитализма в его империалистической стадии Ленин пришел к выводу, что империализм есть канун социалистической революции пролетариата.
Всеобщий кризис капитализма
Первая и вторая мировые войны возникли как результат действия закона неравномерного развития капиталистических стран, как результат кризиса капиталистической системы мирового хозяйства.
«Дело в том, что неравномерность развития капиталистических стран обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма, причём та группа капиталистических стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьём и рынками сбыта, обычно делает попытки изменить положение и переделить «сферы влияния» в свою пользу — путём применения вооружённой силы. В результате этого возникают раскол капиталистического мира на два враждебных лагеря и война между ними.
Пожалуй, можно было бы избегнуть военные катастрофы, если бы была возможность периодически перераспределять сырьё и рынки сбыта между странами сообразно с их экономическим весом — в порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это невозможно осуществить при нынешних капиталистических условиях развития мирового хозяйства.
Таким образом, в результате первого кризиса капиталистической системы мирового хозяйства возникла первая мировая война, в результате же второго кризиса возникла вторая мировая война» [133].
Первая мировая война привела к отпадению от системы капитализма гигантской страны — России, вступившей в результате Октябрьской социалистической революции на путь социализма. Социалистическая революция в России явилась результатом прорыва фронта мирового империализма в его наиболее слабом звене. В результате победы социалистической революции и построения социализма в СССР капитализм перестал быть единой и всеобъемлющей мировой системой хозяйства.
Вторая мировая война явилась выражением углубления и обострения общего кризиса капитализма. Победа Советского Союза в этой войне означала разгром наиболее агрессивных империалистических держав: фашистской Германии и фашистской Японии. Из второй мировой войны капитализм вышел еще более ослабленным. Из его системы выпал ряд стран Центральной и Восточной Европы, установивших режим народной демократии и вступивших на путь строительства социализма. Результатом победы Советского Союза во второй мировой войне и разгрома японского империализма явились торжество народной антифеодальной и антиимпериалистической революции в Китае, установление там режима диктатуры народной демократии.
Как отмечал товарищ Сталин, общий кризис капитализма означает, что «империалистическая война и её последствия усилили загнивание капитализма и подорвали его равновесие, что мы живём теперь в эпоху войн и революций, что капитализм уже не представляет единственной и всеохватывающей системы мирового хозяйства, что наряду с капиталистической системой хозяйства существует социалистическая система, которая растёт, которая преуспевает, которая противостоит капиталистической системе и которая самым фактом своего существования демонстрирует гнилость капитализма, расшатывает его основы.
Это означает, далее, что империалистическая война и победа революции в СССР расшатали устои империализма в колониальных и зависимых странах, что авторитет империализма в этих странах уже подорван, что он не в силах больше по-старому хозяйничать в этих странах.
Это означает, дальше, что за время войны и после неё в колониальных и зависимых странах появился и вырос свой собственный молодой капитализм, который с успехом конкурирует на рынках со старыми капиталистическими странами, обостряя и осложняя борьбу за рынки сбыта.
Это означает, наконец, что война оставила большинству капиталистических стран тяжёлое наследство в виде хронической недогрузки предприятий и наличия миллионных армий безработных превратившихся из резервных в постоянные армии безработных, что создавало для капитализма массу трудностей...» [134].
Эта глубокая характеристика общего кризиса капитализма, данная товарищем Сталиным на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г., целиком подтвердилась всем последующим ходом развития капитализма. За период между двумя мировыми войнами промышленность основных капиталистических стран фактически топталась на одном месте, не превышая или лишь в отдельных странах незначительно превышая уровень 1913 г. За этот же период промышленность СССР, на базе социализма, возросла в 12 раз. Это и есть важнейший показатель гнилости капитализма и преимущества социализма перед капитализмом.
За последние 40 лет производственный аппарат капиталистических стран был относительно загружен лишь в периоды войн и в периоды подготовки к ним. Чтобы избежать новой экономической катастрофы, еще более грандиозной, чем кризис 1929— 1932 гг., американские и английские капиталисты лихорадочно готовят третью мировую войну, создают военные базы, военные блоки, ведут усиленную идеологическую подготовку новой войны, пытаясь оболванить миллионы людей, создавая военный психоз, предвоенную истерию. Агрессивная война американского империализма против Корейской народной демократической республики и захват у Китая острова Тайван (Формоза) свидетельствуют о том, что правительство США от подготовки войны перешло к открытой империалистической агрессии. Но война и военная конъюнктура могут лишь на некоторое время отсрочить кризис, экономическую катастрофу, но не могут предотвратить их. Гибель капитализма неотвратима, неизбежна.
В результате второй мировой войны еще более усилилось действие закона неравномерности развития капитализма. За годы войны удельный вес промышленного производства в США по отношению ко всему производству в капиталистическом обществе увеличился с 40 до 60%. Не только побежденные Германия, Япония и Италия оттеснены американским империализмом, но и такие страны, как Англия и Франция, все больше и больше оттесняются на второй и третий план. Это усиливающееся действие закона неравномерности экономического развития капиталистических стран чревато новыми катастрофами и потрясениями.
Переключение производства на подготовку к новым империалистическим войнам и сами войны рассматриваются буржуазными заправилами как единственное средство обеспечения высокой конъюнктуры капиталистического хозяйства, как средство избавления от «беспокойного», «избыточного» населения. Но этим самым они еще раз доказывают, что капитализм несовместим с прочным миром, в котором кровно заинтересованы народы всех стран.
Кризисы перепроизводства и империалистические войны показывают, что капитализм, развив до колоссальных размеров производительные силы, запутался в неразрешимых для него противоречиях.
«Это значит, что капиталистические производственные отношения перестали соответствовать состоянию производительных сил общества и стали в непримиримое противоречие с ними.
Это значит, что капитализм чреват революцией, призванной заменить нынешнюю капиталистическую собственность на средства производства социалистической собственностью.
Это значит, что острейшая классовая борьба между эксплоататорами и эксплоатируемыми составляет основную черту капиталистического строя» [135].
Итак, развитие человеческого общества представляет собой картину поступательного развития производительных сил и смену одних производственных отношений другими. Капиталистические производственные отношения, как и капитализм в целом, представляют собой отнюдь не вечную, а лишь одну из исторически преходящих форм производства и общественной жизни, ставшую ныне реакционной.
Глубочайший источник современных экономических, социальных и политических потрясений, имеющих место в капиталистическом мире, основа классовой борьбы пролетариата против капитализма кроются в противоречии современных производительных сил и капиталистических производственных отношений. Задача рабочего класса и его марксистских партий во всех странах состоит в уничтожении капиталистического способа производства и замене его социалистическим способом производства.
Глава пятая. Производительные силы и производственные отношения социалистического общества
1. Условия возникновения социалистического способа производства
Объективные и субъективные предпосылки возникновения социалистического способа производства
Раскрывая закономерности возникновения социализма, В. И. Ленин пишет, что «он происходит из капитализма, исторически развивается из капитализма, является результатом действий такой общественной силы, которая рождена капитализмом» [136].
Объективные и субъективные предпосылки социалистического способа производства создаются в недрах капитализма. В недрах капитализма стихийно созревают производительные силы, необходимые для создания социалистического способа производства. В недрах капитализма и на его основе возникает обобществление производства в гигантских масштабах.
«Капитализм, — указывал Ленин, — тем отличается от старых, докапиталистических систем народного хозяйства, что он создал теснейшую связь и взаимозависимость различных отраслей его. Не будь этого, никакие шаги к социализму... были бы технически невыполнимы. Современный же капитализм с господством банков над производством довел эту взаимозависимость различных отраслей народного хозяйства до высшей степени. Банки и крупнейшие отрасли промышленности и торговли срослись неразрывно». (Там же, стр. 310). Уже первая мировая война необычайно ускорила превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм и тем самым еще более приблизила человечество к возможности перехода от капитализма к социализму, ибо «государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» [137].
Но капитализм создал не только материально-технические предпосылки социализма. В недрах капитализма возникла, сформировалась, политически организовалась, закалилась и окрепла та сила, которая способна уничтожить капитализм и создать социалистическое общество. Эта сила — революционный рабочий класс и его организованный авангард — марксистская партия. Как доказали Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, как подтвердил исторический опыт, без пролетарской партии, вооруженной революционной теорией, победоносная пролетарская революция невозможна, а без социалистической революции, без диктатуры рабочего класса социалистическое общество и его основа — социалистический способ производства — возникнуть не могут.
Все рассуждения правых социалистов о возможности мирного врастания капитализма в социализм, о мирном переходе от капитализма к социализму — это обман. Правые социалисты всех стран приводят в качестве примера Англию как страну, где лейбористская партия и возглавляемое ею правительство будто бы мирным путем, шаг за шагом строят социализм. Проведенная английским буржуазным государством «национализация» ряда отраслей английской промышленности выдается за социалистическое мероприятие. В действительности английское лейбористское правительство, проводя «национализацию» некоторых отраслей промышленности, пыталось лишь укрепить государственно-монополистический капитализм, спасти капиталистический строй. В результате такой «национализации» прибыли бывших владельцев предприятий не только не уменьшились, а даже возросли, господство капитала в Англии осталось неприкосновенным. Одновременно возросло обнищание английского рабочего класса, усилилась его эксплуатация. Этот пример еще раз опровергает реформистскую теорию возможности мирного врастания капитализма в социализм.
Как учит ленинизм и как подтверждает опыт трудящихся СССР и стран народной демократии, пролетарская революция, завоевание диктатуры пролетариата, является необходимой, предпосылкой возникновения социалистического способа производства.
Ленин и Сталин показали, что по сравнению с предшествующими способами производства возникновение социалистического способа производства отличается своеобразием. Это своеобразие заключается прежде всего в том, что, например, капиталистический способ производства возник и сложился в виде более или менее готовых форм капиталистического уклада хозяйства еще в недрах предшествующего ему феодального общества, а социалистический способ производства не может таким же образом возникнуть в недрах капитализма. Причина этого состоит в том, что капиталистический способ производства однотипен с феодальным: тот и другой основаны на частной собственности на средства производства и на эксплуатации человека человеком. Социалистический же способ производства предполагает уничтожение частной собственности на средства производства и всякой эксплуатации. Его возникновение означает коренной разрыв со всеми устоями капитализма, глубочайший переворот во всем экономическом основании общества, во всех общественных отношениях людей. В силу этого социалистический способ производства не может мирно, стихийно, самотеком возникнуть в недрах капитализма даже при вполне созревших объективных, материальных предпосылках социализма. Поэтому необходима социалистическая революция и переходный период от капитализма к социализму; в течение переходного периода создается, формируется и упрочивается в ходе классовой борьбы, под организующим воздействием пролетарской диктатуры социалистический способ производства.
«Между капиталистическим и коммунистическим обществом,— указывал Маркс,— лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть не чем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата» [138].
Товарищ Сталин, рассматривая и определяя особенности социалистической революции по сравнению с буржуазной революцией, пишет:
«1) Буржуазная революция начинается обычно при наличии более или менее готовых форм капиталистического уклада, выросших и созревших еще до открытой революции в недрах феодального общества, тогда как пролетарская революция начинается при отсутствии, или почти при отсутствии, готовых форм социалистического уклада.
Основная задача буржуазной революции сводится к тому, чтобы захватить власть и привести её в соответствие с наличной буржуазной экономикой, тогда как основная задача пролетарской революции сводится к тому, чтобы, захватив власть, построить новую, социалистическую экономику.
Буржуазная революция завершается обычно захватом власти, тогда как для пролетарской революции захват власти является лишь её началом...» [139].
При возникновении предшествовавших социализму общественно-экономических формаций в недрах старого общества развивались не только новые производительные силы, но и соответствующие им новые производственные отношения. Необходимым предварительным условием возникновения социалистического способа производства является экспроприация буржуазии, социалистическое обобществление средств производства. Социалистическая революция, пролетарская диктатура насильственно разрешают основное противоречие капитализма — противоречие между современными производительными силами и капиталистическими производственными отношениями.
Из этого вытекает еще одна особенность возникновения социалистического способа производства: производственные отношения социализма складываются не стихийно, как было в предшествующих социализму обществах, а в результате сознательной, планомерной деятельности трудящихся, руководимых пролетарским государством и коммунистической партией.
Со времени завоевания пролетариатом власти развитие производительных сил начинает все в большей и большей мере подчиняться направляющему воздействию социалистического государства. Этим создается возможность использовать завоеванную пролетариатом государственную власть для ускорения экономического развития.
В силу особых исторических условий эпохи империализма, вследствие неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран социалистическая революция совершилась раньше всего не в наиболее развитых по уровню промышленности капиталистических странах, а в России — стране в отношении промышленности средне развитой, в стране аграрной. Царская Россия явилась самым слабым звеном в цепи империализма; экономические и социально-политические противоречия в ней достигли наибольшей остроты и привели к свержению царизма и к перерастанию буржуазно-демократической революции в социалистическую, к установлению советской власти—диктатуры пролетариата. По степени развития промышленности и производительных сил в целом царская Россия стояла позади США, Германии, Англии и Франции, но в ней все же был необходимый минимум развития крупной промышленности и многочисленный, хорошо организованный пролетариат, возглавляемый марксистской партией, т. е. были те объективные и субъективные условия, которые требуются для того, чтобы на основе диктатуры пролетариата возможно было успешно начать и довести до конца строительство социализма.
Борьба сил социализма и капитализма в переходный период
Строительство социализма в СССР в силу технико-экономической отсталости и аграрного характера дореволюционной России было связано с особыми трудностями, которых не будет испытывать после социалистической революции рабочий класс главных капиталистических стран. Трудности строительства социалистической экономики в СССР еще усугублялись тем, что страна была разорена двумя войнами — империалистической и гражданской. «Мы получили в наследство от старого времени,— говорил товарищ Сталин,— отсталую технически и полунищую, разоренную страну. Разоренная четырьмя годами империалистической войны, повторно разоренная тремя годами гражданской войны, страна с полуграмотным населением, с низкой техникой, с отдельными оазисами промышленности, тонувшими среди моря мельчайших крестьянских хозяйств,— вот какую страну получили мы в наследство от прошлого» [140].
Экономика Советской России в первые годы переходного периода представляла собой картину сосуществования и борьбы пяти экономических укладов: 1) остатков патриархального уклада, т. е. натурального хозяйства, 2) мелкотоварного производства (сюда относилось хозяйство большинства крестьян, продававших хлеб), 3) частнохозяйственного капитализма, 4) государственного капитализма и, наконец, 5) рожденного социалистической революцией и крепнувшего на основе диктатуры пролетариата социалистического уклада. Это многообразие и пестрота экономических укладов, наличие архаического патриархального уклада и преобладание отсталого мелкобуржуазного уклада в стране составляли своеобразие переходного периода в Советской России. Но, несмотря на эти указанные черты своеобразия, основные формы хозяйства, основные силы, между которыми шла борьба в переходный период в СССР, были в основном те же, которые неизбежно будут и во всех других странах при переходе от капитализма к социализму. Эти основные формы хозяйства: рождающийся социализм, свергнутый, но не добитый капитализм и мелкое товарное хозяйство.
«Экономика России в эпоху диктатуры пролетариата,— писал Ленин в 1919 г.,— представляет из себя борьбу первых шагов коммунистически объединенного,— в едином масштабе громадного государства,— труда с мелким товарным производством и с сохраняющимся, а равно с возрождающимся на его базе капитализмом» [141].
Основная борьба шла в переходный период между силами социализма и капитализма. Эта борьба шла по принципу: «кто — кого».
Сила социализма состоит в том, что он опирается на революционную диктатуру рабочего класса, на ее руководящую и преобразующую роль; он расковывает, поднимает для творчества бесчисленные таланты среди рабочего класса и всего народа, таланты, которые сковывал, мял и душил капитализм. Социализм объединяет и сплачивает миллионы трудящихся, возглавляемых коммунистической партией, вооруженной самой передовой научной теорией — марксизмом-ленинизмом, знанием законов строительства социализма, знанием законов развития общества и умением использовать эти законы для строительства социализма. Сила социализма состоит в том, что он опирается на основные, решающие командные высоты народного хозяйства: на национализированную социалистическим государством крупную и среднюю промышленность, транспорт, банки, внешнюю торговлю, землю. Сила социализма состоит в том, что это самый передовой способ производства, что социалистические производственные отношения открывают безграничный простор для развития производительных сил общества.
Сила же свергнутого, но не добитого капитализма состояла не только в нем самом, но и в преобладании в стране простого товарного хозяйства, стихийно, ежедневно, ежечасно рождавшего капитализм в массовом масштабе. Пока существовало это простое товарное хозяйство, неизбежно в силу стихийных экономических законов рождавшее капитализм, существовала опасность реставрации капитализма. В. И. Ленин в первые годы существования советского строя говорил: «Пока мы живем в мелко-крестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это необходимо запомнить. Каждый, внимательно наблюдавший за жизнью деревни, в сравнении с жизнью города, знает, что мы корней капитализма не вырвали и фундамент, основу у внутреннего врага не подорвали. Последний держится на мелком хозяйстве, и чтобы подорвать его, есть одно средство — перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу, на техническую базу современного крупного производства... Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно» [142].
Врага ленинизма, враги народа—троцкисты утверждали, что социализм не может победить в одной стране, что пролетариат неизбежно придет в столкновение с крестьянством, что он не может повести за собой крестьянство по пути к социализму, что в силу этого реставрация капитализма неизбежна. Правые оппортунисты и их главари — враги народа Бухарин, Рыков и другие, формально, на словах признавая возможность победы социализма в нашей стране, также отрицали ее на деле. Они, как и троцкисты, были злостными противниками социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Они выступали против ленинского учения о том, что диктатура пролетариата означает усиление классовой борьбы в новых формах, защищали вредительскую «теорию» мирного врастания капитализма в социализм, теорию стихийности, самотека, А стихия мелкотоварного хозяйства рождала капитализм [143].
Великие учители рабочего класса В. И. Ленин и И. В. Сталин разгромили реставраторские «теории» троцкистов и бухаринцев и вооружили коммунистическую партию и рабочий класс гениальной теорией о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране, теорией о путях и средствах строительства социализма. Решающим политическим условием победы социализма, победы социалистического способа производства является удержание и упрочение пролетарской диктатуры, прочный союз рабочего класса и трудящегося крестьянства при руководящей роли рабочего класса в этом союзе. Решающим экономическим условием победы социализма, социалистического способа производства явилась социалистическая индустриализация страны.
Социалистическая индустриализация страны
В. И. Ленин писал:
«Спасением для России является не только хороший урожай в крестьянском хозяйстве — этого еще мало,— и не только хорошее состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы потребления,— этого тоже еще мало,— нам необходима также тяжелая индустрия... Без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна... Тяжелая индустрия нуждается в государственных субсидиях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизованное государство — я уже не говорю, как социалистическое,— погибли» [144].
Только создание тяжелой индустрии и ее сердцевины—машиностроения давало возможность технически перевооружить, реконструировать все хозяйство: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, перевести их на базу современной техники. «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование,— вот в чём суть, основа нашей генеральной линии» [145]— говорил товарищ Сталин на XIV съезде ВКП(б). Обосновывая эту генеральную линию, И. В. Сталин говорил: «Мы догнали и перегнали передовые капиталистические страны в смысле установления нового политического строя, Советского строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма в нашей стране, нужно ещё догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении. Либо мы этого добьёмся, либо нас затрут.
Это верно не только с точки зрения построения социализма. Это верно также с точки зрения отстаивания независимости нашей страны в обстановке капиталистического окружения. Невозможно отстоять независимость нашей страны, не имея достаточной промышленной базы для обороны. Невозможно создать такую промышленную базу, не обладая высшей техникой в промышленности.
Вот для чего нужен нам и вот что диктует нам быстрый темп развития индустрии» [146].
Товарищ Сталин не только обосновал, но и отстоял генеральную линию партии на социалистическую индустриализацию страны, отстоял в упорной борьбе с врагами партии — троцкистами, бухаринцами, националистами.
И. В. Сталину принадлежит заслуга всесторонней разработки научной теории социалистической индустриализации страны. Он обосновал экономическую и социальную возможность, а также политическую и военную необходимость осуществления социалистической индустриализации в кратчайшие исторические сроки, он разработал советский метод индустриализации страны.
Товарищ Сталин показал, что основу социалистической индустриализации страны составляет тяжелая индустрия и прежде всего ее сердцевина — машиностроение. Крупная промышленность, в особенности машиностроение, концентрирует в себе высшие достижения науки и техники. Только передовая мощная машиностроительная промышленность могла явиться и явилась основой технической реконструкции всей страны, могла создать материальную основу такой производительности труда, которая необходима для социализма. Крупная индустрия явилась базой укрепления диктатуры пролетариата, увеличивая численность рабочего класса, его удельный вес в обществе. Только тяжелая индустрия и прежде всего машиностроение могли создать материально-техническую основу для социалистического переустройства крестьянского хозяйства. Социалистическая индустриализация страны явилась ключом к разрешению противоречия между самой передовой, советской властью и отсталой экономикой. Только тяжелая индустрия, современная машиностроительная промышленность, производящая современные машины, оборудование, могла явиться основой экономической независимости Советской страны. Наконец, только современная крупная индустрия и ее сердцевина — машиностроение могли создать материально-техническую основу обороноспособности и военной мощи страны и обеспечить ее независимость от капиталистического окружения. Индустриализация страны поэтому являлась жизненной необходимостью, закономерностью развития социализма в нашей стране.
Социалистическая индустриализация в СССР должна была осуществляться иным методом, иными путями, средствами и темпами, чем индустриализация в капиталистических странах. Индустриализация страны, строительство тяжелой индустрии, требует огромных финансовых затрат. В таких странах, как Англия, Германия, США, индустриализация осуществлялась за счет эксплуатации трудящихся, за счет грабежа колоний, за счет военных контрибуций, за счет иностранных займов. Эти пути были неприемлемы для государства трудящихся, для Советской страны, а что касается иностранных займов, то капиталисты, естественно, не хотели поддерживать страну социализма. Она могла рассчитывать только на собственные внутренние средства. Опираясь на национализацию земли, промышленности, транспорта, банков, внешней торговли, осуществляя строжайший режим экономии во всем, Советское государство, руководимое коммунистической партией, обеспечило мощные источники накопления средств, необходимых для осуществления социалистической индустриализации страны.
Характеризуя советский метод индустриализации, товарищ Сталин говорил:
«Советский метод индустриализации страны коренным образом отличается от капиталистического метода индустриализации. В капиталистических странах индустриализация обычно начинается с лёгкой промышленности. Так как в лёгкой промышленности требуется меньше вложений и капитал оборачивается быстрее, причём получение прибыли является более лёгким делом, чем в тяжелой промышленности, то лёгкая промышленность становится там первым объектом индустриализации. Только по истечении длительного срока, в течение которого лёгкая промышленность накопляет прибыли и сосредоточивает их в банках, только после этого наступает очередь тяжёлой промышленности и начинается постепенная перекачка накоплений в тяжёлую индустрию для того, чтобы создать условия для её развёртывания. Но это — процесс длительный, требующий большого срока в несколько десятилетий, в течение которого приходится ждать развития лёгкой промышленности и прозябать без тяжёлой промышленности. Понятно, что коммунистическая партия не могла стать на этот путь. Партия знала, что война надвигается, что оборонять страну без тяжёлой индустрии невозможно, что нужно поскорее взяться за развитие тяжёлой индустрии, что опоздать в этом деле — значит проиграть. Партия помнила слова Ленина о том, что без тяжёлой индустрии невозможно отстоять независимость страны, что без неё может погибнуть советский строй. Поэтому коммунистическая партия нашей страны отвергла «обычный» путь индустриализации и начала дело индустриализации страны с развёртывания тяжёлой индустрии. Это было очень трудно, но преодолимо. Большую помощь оказала в этом деле национализация промышленности и банков, давшая возможность быстрого сбора и перекачки средств в тяжёлую индустрию.
Не может быть сомнений, что без этого невозможно было бы добиться превращения нашей страны в индустриальную страну в такой короткий срок» [147].
Так как социалистическая индустриализация опирается на общественную собственность на средства производства, на внутреннее накопление и сбережение средств, создаваемых трудом рабочих и крестьян, то важнейшим условием ее осуществления являлась борьба за повышение производительности труда, за снижение себестоимости, за сознательную социалистическую дисциплину труда, за режим экономии.
Социалистическая индустриализация страны отличается от капиталистической не только по своим методам, но и по своим экономическим и социальным последствиям. Индустриализация в условиях капитализма неизбежно вела к разорению и экспроприации крестьянства, мелких самостоятельных производителей вообще, к обнищанию трудящихся, к усилению эксплуатации рабочего класса. Социалистическая индустриализация, хотя и требовала в первое время известных жертв со стороны трудящихся, вместе с тем была внутренне связана с неуклонным повышением материального положения и культурного уровня трудящихся.
Капиталистическая индустриализация ведет к углублению пропасти между городом и деревней. Социалистическая индустриализация, наоборот, явилась материальной основой социалистического переустройства крестьянского хозяйства — коллективизации, основой вооружения сельского хозяйства передовой техникой и, следовательно, явилась основой для уничтожения противоположности города и деревни.
Капиталистическая индустриализация вела к усилению грабежа колоний, к росту национально-колониального гнета. Социалистическая индустриализация, наоборот, привела народы, которые ранее были отсталыми, к экономическому расцвету, к развитию индустриализации в советских национальных республиках, к полному уничтожению экономического и культурного неравенства между народами СССР, к упрочению равенства и дружбы народов.
Таковы основные положения сталинской теорий индустриализации, которые легли в основу знаменитых пятилетних планов строительства социализма. В результате осуществления этих планов была в кратчайший исторический срок создана первоклассная тяжелая индустрия, в том числе машиностроительная промышленность, и притом в таких масштабах, перед которыми бледнеют масштабы стран капиталистической Европы.
Благодаря сталинской политике социалистической индустриализации советский народ смог в короткий срок преодолеть былую технико-экономическую отсталость страны, совершить скачок от отсталости к социалистическому прогрессу, превратить страну из аграрной в передовую индустриальную державу.
Социалистическая индустриализация страны была осуществлена советским народом под руководством коммунистической партии и ее вождя И. В. Сталина в ожесточенной борьбе с врагами, стремившимися всеми средствами, в том числе саботажем, диверсиями, вредительством, сорвать строительство социализма. В этой классовой борьбе за социалистическую индустриализацию победителем вышел рабочий класс и его коммунистическая партия.
Коллективизация крестьянского хозяйства
Второй важнейшей и вместе с тем самой трудной задачей в создании социалистического способа производства, экономического фундамента социализма, явилась коллективизация сельского хозяйства, перевод 25 млн. крестьянских хозяйств на рельсы социализма.
Создание социалистического способа производства в сельском хозяйстве СССР имело свои особенности, вытекавшие из крайней отсталости и распыленности крестьянского хозяйства. Октябрьская социалистическая революция могла первоначально осуществить лишь национализацию всей земли, отобрать землю у помещиков и передать в пользование крестьянам. Но это еще не означало перевода сельского хозяйства на социалистический путь развития. Раскулачивание, проведенное комитетами бедноты в 1918 г., также еще не означало перехода к социалистическому хозяйству, ибо экспроприированные беднотой у кулачества средства производства (инвентарь, запасы хлеба, скот) не были обобществлены, а перешли в собственность отдельных беднейших крестьян.
В первые годы существования советского строя социалистический способ производства в сельском хозяйстве существовал лишь в виде сравнительно небольшого числа совхозов и сельскохозяйственных артелей и коммун, тонувших в океане мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, рождавших капитализм. Коммунистической партии, Советскому государству пришлось терпеливо и упорно, шаг за шагом, в течение длительного времени подготовлять материальные условия перевода крестьянских хозяйств на социалистический путь развития. Необходимо было добиться, чтобы десятки миллионов крестьян на опыте убедились в преимуществах крупного хозяйства, основанного на передовой сельскохозяйственной технике, перед мелким, основанным на примитивной технике.
Великий Ленин учил: «мелким хозяйством из нужды не выйти» [148]. «Лишь в том случае, если удастся на деле показать крестьянам преимущества общественной, коллективной, товарищеской, артельной обработки земли, лишь, если удастся помочь крестьянину, при помощи товарищеского, артельного хозяйства, тогда только рабочий класс, держащий в своих руках государственную власть, действительно докажет крестьянину свою правоту, действительно привлечет на свою сторону прочно и настоящим образом многомиллионную крестьянскую массу» [149].
Исходя из этих положений ленинизма, коммунистическая партия и вела работу по подготовке социалистического переустройства сельского хозяйства. Опираясь на указания В. И. Ленина о коллективизации, на знаменитый ленинский кооперативный план, И. В. Сталин всесторонне разработал теорию коллективизации сельского хозяйства, теорию, явившуюся практической программой деятельности партии по социалистическому переустройству сельского хозяйства.
Товарищ Сталин всесторонне разработал вопрос о колхозах как социалистической форме сельского хозяйства. Он показал, что именно сельскохозяйственная артель является основным и главным звеном колхозного развития на современном этапе. Сельскохозяйственная артель— это наиболее понятная широким массам крестьян форма социалистического хозяйства, дающая возможность правильно сочетать общественные и личные интересы колхозников. Товарищ Сталин раскрыл и обосновал значение МТС, как опорных пунктов социалистического преобразования сельского хозяйства.
Коллективизация сельского хозяйства явилась для Советской страны экономической необходимостью. Если социалистическая промышленность развивалась по принципу расширенного воспроизводства и вытесняла капиталистические элементы, то мелкое крестьянское хозяйство не всегда могло обеспечить даже простое воспроизводство и к тому же служило питательное средой для роста капиталистических элементов. Это противоречие между промышленностью и сельским хозяйством, отставание сельского хозяйства тормозило развитие производительных сил страны. На XV съезде ВКП(б), в 1927 г., товарищ Сталин говорил:
«Выход в переходе мелких и распылённых крестьянских хозяйств в крупные и объединённые хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники.
Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, коллективной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных приёмов интенсификации земледелия.
Других выходов нет» [150].
Если в первый период существования Советского государства состояние производительных сил (невозможность дать деревне передовую сельскохозяйственную технику — тракторы, комбайны и т. п.) не позволяло осуществить перевод миллионов крестьянских хозяйств на путь социалистического развития, то в результате политики индустриализации была подготовлена материальная основа перехода к социализму. Создание промышленности сельскохозяйственного машиностроения дало возможность снабдить деревню десятками и сотнями тысяч тракторов и других сельскохозяйственных машин. Новые производительные силы с необходимостью требовали перехода к крупному, социалистическому сельскому хозяйству, к социалистическим производственным отношениям в деревне.
Перевод миллионов крестьянских хозяйств на социалистический путь развития был облегчен национализацией земли, осуществленной Великой Октябрьской социалистической революцией. Советский крестьянин не был так прикован к клочку своей земли, как крестьянин на Западе. Переход к коллективизации был подготовлен также насаждением всех форм кооперации, развитием кооперативной общественности в деревне, длительной воспитательной работой коммунистической партии, показом опыта лучших совхозов и колхозов, предоставлением ссуд и кредита колхозам, налоговых льгот колхозникам. Немалую роль в подготовке коллективизации сыграла политическая изоляция кулачества, осуществленная партией и советской властью в ходе хлебозаготовок 1927 и 1928 гг. Партия сплотила вокруг себя деревенскую бедноту и середняцкие массы против кулачества, саботировавшего хлебозаготовки. Так был подготовлен переход к сплошной коллективизации крестьянского хозяйства.
Сплошная коллективизация крестьянского хозяйства и осуществленная на ее основе ликвидация кулачества как класса явились глубочайшим революционным переворотом, скачком из старого качественного состояния общества в новое качественное состояние, равнозначным по своим последствиям Октябрьскому перевороту.
«Своеобразие этой революции состояло в том, что она была произведена сверху, по инициативе государственной власти, при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь» [151].
Как политика коммунистической партии в области индустриализации страны, так и ее политика в области коллективизации встретила ожесточенное, бешеное сопротивление капиталистических элементов и их агентуры — троцкистов, правых оппортунистов, националистов.
Чтобы осуществить труднейшую после завоевания власти задачу социалистической революции — перевод мелких крестьянских хозяйств на социалистический путь развития — и ликвидировать самый многочисленный эксплуататорский класс — кулачество, надо было разбить политически агентуру кулачества — бухаринцев, троцкистов, кондратьевцев, разгромить их вражеские теории — теорию самотека, теорию равновесия секторов хозяйства, теорию мирного врастания кулачества в социализм, теорию устойчивости мелкого крестьянского хозяйства и т. п.
Задачу теоретического, идейного разгрома врагов социализма, врагов коллективизации крестьянского хозяйства осуществил И. В. Сталин. Здесь особое место занимает гениальная работа товарища Сталина «К вопросам аграрной политики в СССР» (декабрь 1929 года). Товарищ Сталин разоблачил буржуазный и антинаучный характер бухаринской теории самотека, согласно которой крестьянское хозяйство будто бы само, без организующей и преобразующей роли Советского государства и коммунистической партии перейдет на путь социализма. Товарищ Сталин дал глубоко научное, теоретическое обоснование путей и средств перевода миллионов крестьянских хозяйств на социалистический путь развития, на путь коллективного хозяйства. Решающей материальной предпосылкой перевода мелкого крестьянского хозяйства на путь социализма явились новые производительные силы, созданные в деревне. Эти новые производительные силы требовали новых, социалистических производственных отношений между людьми, перехода к крупному коллективному хозяйству. Но переход трудящегося крестьянства к социализму не мог совершиться самотеком, стихийно, без организующей роли социалистического города, без классовой борьбы против кулачества — главного врага коллективизации. Необходимо было организовать бедняцкое и середняцкое крестьянство на борьбу против кулачества. Сплошная коллективизация крестьянского хозяйства была неразрывно связана с ликвидацией кулачества как класса.
Лишь решительное, смелое наступление социализма против капиталистических элементов, разгром классовых врагов и их агентуры — троцкистов и бухаринцев — обеспечили победу социализма над капитализмом, безраздельное торжество социалистического способа производства во всем хозяйстве страны.
«Все антипартийные махинации троцкистов и правых, вся их «работа» по части саботажа мероприятий нашего правительства преследовали одну цель: сорвать политику партии и затормозить дело индустриализации и коллективизации. Но партия не поддавалась ни угрозам одних, ни воплям других и уверенно шла вперед, несмотря ни на что. Заслуга партии состоит в том, что она не приспосабливалась к отсталым, не боялась итти против течения и всё время сохраняла за собой позицию ведущей силы. Не может быть сомнения, что без такой стойкости и выдержки коммунистическая партия не смогла бы отстоять политику индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства» [152].
Осуществляя историческое дело коллективизации крестьянского хозяйства, коммунистическая партия вела борьбу не только против сторонников теории самотека, но и против «левацких» перегибов, угрожавших погубить колхозное движение. Великое политическое значение имела статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» (2 марта 1930 г.), в которой подчеркивался со всей силой принцип добровольности колхозного строительства и указывалось на необходимость учитывать своеобразие различных районов СССР при определении темпов коллективизации. Выправляя допущенные партийными работниками ошибки в области коллективизации, товарищ Сталин нанес «сильнейший удар врагам Советской власти, надеявшимся на то, что на почве перегибов им удастся восстановить крестьянство против Советской власти» [153].
Итак, при возникновении социалистического способа производства в сельском хозяйстве действует общая закономерность развития, открытая Марксом: зависимость изменения производственных отношений от развития производительных сил. Вместе с тем в возникновении и развитии социалистического способа производства в советской деревне имеется и своеобразие. «В течение 8—10 лет,— пишет товарищ Сталин,— мы осуществили в сельском хозяйстве нашей страны переход от буржуазного индивидуально-крестьянского строя к социалистическому, колхозному строю. Это была революция, ликвидировавшая старый буржуазный хозяйственный строй в деревне и создавшая новый, социалистический строй. Однако этот переворот совершился не путём взрыва, т. е. не путём свержения существующей власти и создания новой власти, а путём постепенного перехода от старого буржуазного строя в деревне к новому. А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершён по инициативе существующей власти при поддержке основных масс крестьянства» [154].
В результате победы ленинско-сталинской политики социалистической индустриализации и коллективизации, в ожесточенной классовой борьбе капитализм был вытеснен из всех областей хозяйства СССР, экономические корни его были подорваны и выкорчеваны. Вместо старого, капиталистического экономического базиса был создан новый, социалистический базис.
2. Производительные силы социалистического общества
В годы сталинских пятилеток все отрасли народного хозяйства—промышленность, земледелие, транспорт—были реконструированы на базе самой передовой современной техники. С точки зрения уровня техники СССР не только догнал главные страны капитализма, но и перегнал их. Характеризуя результаты технической реконструкции социалистического хозяйства, товарищ Сталин говорил на XV111 съезде ВКП(б): «Можно сказать без преувеличения, что с точки зрения техники производства, с точки зрения насыщенности промышленности и земледелия новой техникой, наша страна является наиболее передовой в сравнении с любой другой страной, где старое оборудование висит на ногах у производства и тормозит дело внедрения новой техники» [155].
Социалистический способ производства опирается ныне на самую передовую технику. Социалистическая промышленность СССР в состоянии производить и производит всевозможные машины, механизмы, станки, инструменты, необходимые промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, армии.
При общем бурном росте социалистической индустрии машиностроительная промышленность росла и развивалась еще более гигантскими темпами. Так, если в 1940 г. крупная промышленность по сравнению с 1913 г. выросла в 12 раз, то машиностроение возросло в 50 раз. Доля машиностроения в объеме всей промышленности СССР в 1940 г. составляла 36,3% (в США в 1935 г. эта доля была равна 17,6%, в Великобритании—16,2%). Это значит, что машиностроительная промышленность занимает первое место среди всех отраслей промышленности СССР. Ей принадлежит ведущая роль. В результате осуществления послевоенной сталинской пятилетки объем машиностроения по сравнению с довоенным периодом возрос в два раза.
Роль техники при социализме
Характерной чертой техники социализма является то, что машина ставится на службу человеку. Выше мы видели, как в условиях капитализма машина превращается в орудие порабощения рабочего. В условиях социалистического способа производства наука и техника поставлены на службу трудящимся. Здесь технический прогресс ведет к облегчению труда человека, к увеличению его власти над силами природы, к расцвету личности, к росту благосостояния народа.
Техническая политика социалистического государства направлена к тому, чтобы насытить техникой все отрасли народного хозяйства. А в условиях капитализма техника вводится только там, где она обеспечивает получение высокой прибыли.
Противоположность социалистического и капиталистического способов производства, различие роли техники при капитализме и социализме получают свое отражение даже в характере развития техники, в конструкции машин, станков.
На первый взгляд кажется, что конструкция машины или станка определяется чисто техническими условиями, расчетами. Это, конечно, так. Типы машин и станков в определенном отношении зависят и от их назначения: быть ли им средством облегчения труда рабочего или служить средством эксплуатации. Старший мастер московского завода «Калибр» Н. Российский пишет:
«С огромным возмущением читал я недавно описание станков фирмы «Балей» — «последний крик» капиталистической техники. Работая на этом станке, человек пользуется одновременно двумя рукоятками, ножными педалями и хомутом. Да, американские конструкторы создали хомут выпуска середины XX века! В этот хомут рабочий впрягается и движениями туловища перемещает продольный супорт. Так рабочий в течение смены «вытанцовывает» 800 изделий. Станок этот получил зловещую кличку — «Чарльстон». Но это — еще не все. Конструкторы предусмотрели, что рабочий может позволить себе недостаточно интенсивно «танцовать», и они нашли способ, чтобы устранить такую «опасность». Над самой головой рабочего смонтирован аппарат для стока масла, в случае если рабочий во-время не сделает нужное движение, масло выльется ему на голову.
Такова постыдная, американская «новинка» середины XX века, представляющая собою еще один вид издевательства и глумления американских монополистов над рабочими» [156].
Этот пример служит яркой иллюстрацией того, как капиталистическое применение машин отражается на их конструкции.
В условиях социализма перед техникой ставится диаметрально противоположная капитализму задача: облегчить труд, максимально увеличить его производительность, заменив тяжелые, трудоемкие и однообразные, односложные, отупляющие мозг и крайне утомляющие работника операции машиной. Этой цели подчинена автоматизация и телемеханизация производства, которая может полностью развиться лишь при социализме. Советское машиностроение применяет принцип всесторонней автоматизации производства, что позволяет осуществлять через соответствующую аппаратуру без непосредственного участия человека не только отдельные производственные операции, но и комплексы связанных друг с другом операций. На долю человека, рабочего во все возрастающей мере выпадает функция распорядителя машин и системы машин, контролера за их пуском, ходом, работой.
«Плановое производство станков позволило систематически совершенствовать их конструкции в направлении увеличения производительности, дальнейшей автоматизации, повышения точности их работы и срока службы без ремонта, облегчения обслуживания, удобства отвода стружки и уборки, повышения безопасности работы, а также повышения технологических качеств для изготовления. Советские конструкции станков начали развиваться как «узловые», т. е. как конструкции, состоящие из отдельных функционально независимых узлов, монтируемых на станине и связываемых при необходимости между собой нужными кинематическими цепями. Этот путь позволяет более глубокое проведение принципов стандартизации и кооперации в изготовлении, облегчает периодическую модернизацию отдельных узлов, требующих улучшения, удешевляет и ускоряет изготовление, облегчает сборку и последующий ремонт станков» [157].
Автоматика и телемеханика в условиях социализма облегчают труд, делают его содержательным и более производительным, сокращают время производства изделий, трудоемкость операций. Значительные успехи в деле автоматизации и механизации достигнуты в машиностроительной промышленности СССР. Советские конструкторы создали фотокопировальный станок автомат, изготовляющий детали по чертежу, вложенному в станок, без непосредственного участия рабочего. На многих заводах автоматизирована транспортировка и подача деталей к станкам. Это освобождает рабочих от однообразной, утомительной и мало производительной работы.
Огромные успехи в деле автоматизации производства достигнуты в области металлурги (в доменном и мартеновском производстве), в электроэнергетике, угольной, горнорудной и нефтяной промышленности. В главном зале Днепрогэса работает всего 9 человек.
Угольная и горнорудная промышленность были наиболее отсталыми в старой России. В такой капиталистически развитой стране, как Англия, и даже в значительной мере в США угольная промышленность до сих пор является технически отсталой. В СССР в настоящее время добыча каменного угля почти полностью механизирована. Место кайла и обушка заняли пневматический отбойный молоток и врубовая машина. Расширяется применение горного комбайна, производящего подрубку угольного пласта, отбойку угля и погрузку его на транспортер. Транспортировка угля также механизирована. Делегация шотландских горняков, побывавшая в 1949г. в СССР и посетившая Подмосковный и Донецкий угольные бассейны, в брошюре, изданной в Англии, пишет: «Осмотрев эти шахты, мы заявляем, что это самые механизированные шахты, какие мы когда-либо видели, и что при подобной механизации тяжелый труд в шахтах устранен» [158].
Таково свидетельство шотландских горняков. В их заявлении есть некоторая зависть к русским товарищам. Эта здоровая зависть должна вызвать у них чувство гнева к английским капиталистам и их лейбористским слугам — Бенину, Эттли, Криппсу.
Развитие техники социалистического общества открывает в перспективе возможность перехода от автоматизации отдельных процессов производства, отдельных агрегатов к созданию автоматизированных цехов и целых заводов, управляемых квалифицированными, технически и культурно высокоразвитыми работниками, стоящими на уровне современных инженерно- технических работников.
Повсеместное осуществление автоматизации производства требует всесторонней электрификации хозяйства страны. Недаром великий Ленин говорил, что коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны. По абсолютному уровню энерго- и электровооружения СССР занимает второе место в Европе, а по степени электрификации наша социалистическая промышленность уже обогнала европейские страны. Коэфициент электрификации (т. е. отношение мощности электромоторов к мощности всех двигателей, обслуживающих рабочие машины) поднялся в СССР за годы довоенных сталинских пятилеток с 0,65 до 0,85, превзойдя уровень всех стран Европы, а по ряду отраслей — и уровень США.
Техническая революция в сельском хозяйстве
В результате коллективизации крестьянского хозяйства вместо океана раздробленных мелких хозяйств в СССР на основе социалистических отношений сложилось самое крупное и самое механизированное в мире сельское хозяйство.
На основе социализма сельское хозяйство СССР добилось огромных успехов. Так, посевные площади в 1938 г. по отношению к 1913 г. возросли на 32 млн. гектаров. В 1940 г. социалистическое сельское хозяйство имело 530 тыс. тракторов, 182 тыс. комбайнов, 288 тыс. грузовых автомашин. Хотя тракторный парк в США по своей численности также значителен, но тракторы применяются в США лишь в сравнительно крупных капиталистических хозяйствах, а 70% хозяйств совсем не имеют тракторов. Трактор в США используется в пять раз менее производительно, чем в СССР. Парк комбайнов в СССР уже в 1937 г. в два раза превосходил парк комбайнов в США, и каждый комбайн в социалистическом хозяйстве использовался в три раза более производительно.
В этих фактах обнаруживается преимущество социализма перед капитализмом, и это свидетельствует о том, что современные производительные силы требуют социалистических производственных отношений.
Советское сельское хозяйство стало самым механизированным. Для сравнения можно указать, что в США механизирована только половина пахоты и одна треть посева, в то время как в СССР в 1940 г. машинно-тракторные станции обрабатывали 94,5% всей посевной площади колхозов. Европейские капиталистические страны еще больше отстали в этом отношении.
Социалистическое сельское хозяйство имеет на вооружении кроме тракторов, комбайнов, различных систем плугов, культиваторов, сеялок, сенокосилок и такие сельскохозяйственные машины, как льнотеребилки, льнокомбайны, полностью механизирующие уборку льна, хлопкоуборочные машины, сложные зерноочистительные машины большой производительности, коноплеуборочные машины, силосные комбайны, молотилки для различных культур. Советские конструкторы создали самоходный комбайн, рассчитанный на работу без тракторной тяги. Не только промышленность, но и сельское хозяйство СССР все более электрифицируется.
Важнейшая производительная сила – люди социалистического общества
Наряду с изменением орудий производства в СССР изменились, усовершенствовались методы труда, методы производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Вместе с изменением орудий труда, вместе с возникновением новых отраслей производства в условиях социалистического способа производства формировались и новые люди, люди социалистического общества. Маркс говорил, что современный рабочий класс капиталистических стран является историческим продуктом целого ряда экономических переворотов, завершившихся возникновением современной крупной промышленности, Рабочий класс СССР является творцом величайшей социалистической революции и вместе с тем ее результатом. За годы существования советского строя рабочий класс СССР изменился коренным образом. Из угнетенного, эксплуатируемого класса он превратился в класс, свободный от гнета и эксплуатации и стоящий во главе государства.
Советский рабочий, крестьянин, интеллигент — это освобожденные от эксплуатации, сознательные труженики социалистического общества, люди развитые, инициативные, постоянно повышающие свой культурно-технический уровень. Наука и техника при социализме служат трудящимся, облегчают их труд, способствуют повышению их благосостояния. Прошлый труд, воплощенный в средствах производства, при социализме перестал господствовать над живым трудом, над трудящимися, средства производства перестали быть орудием эксплуатации.
При социализме труд впервые приобретает творческий характер, и работник получает возможность всестороннего развития. Наука, умственный труд не противостоят больше рабочим, физическому труду как антагонистическая сила. Умственный труд не только в виде труда техника, инженера, конструктора, агронома, но и как составная часть труда самого рабочего-новатора и колхозника-стахановца непосредственно вплетается в процесс производства, становится материальной производительной силой. Работники социалистического производства - это люди типа Николая Российского, Генриха Борткевича, Павла Быкова, Дмитрия Макеева, Александра Чутких, Прасковьи Ангелиной, Лидии Корабельниковой, это смелые новаторы, рационализаторы производства, люди, революционизирующие процесс труда, добивающиеся все новых и новых высоких показателей производительности труда и наиболее высокого качества продукции.
Рабочие в условиях социализма освободились от целого ряда черт, которые привил им капитализм, строй частной собственности и угнетения. Например, при капитализме неизбежно отношение к труду, как к делу подневольному. Рабочий класс СССР в условиях социализма выработал у себя новые черты, новые качества.
Основные черты, характеризующие советского рабочего как новую, революционную производительную силу, это дух новаторства, смелая инициатива, ломающая старое, отживающее и мешающее развитию производительных сил, творческое отношение к труду, чуждое самоуспокоенности, высокий уровень общей и технической культуры, сочетание умственного и физического труда, отношение к труду, как к общественному долгу, как к делу чести, к делу славы, к делу доблести и геройства. Эти черты нашли свое лучшее выражение и воплощение в стахановцах и в стахановском труде. Характеризуя стахановцев как новый тип рабочего, рожденный социалистическим строем, И. В. Сталин говорил:
«Что это за люди? Это, главным образом,— молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами. Большинство из них прошло так называемый технический минимум и продолжает пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности, они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко учат и толкают их вперед, ибо это — люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать» [159].
В своей статье «Поиски нового» токарь Ленинградского завода имени Свердлова Генрих Борткевич пишет: «Было время, когда лучшей похвалой рабочему служило выражение: «золотые руки». Сейчас мера другая. Навык, природная сметка, как бы велики они ни были, передовому советскому рабочему недостаточны. Работа у станка — это уже не один только физический труд. Это и труд умственный. Он связан с вычислениями, с техническим творчеством.
Трудно представить себе стахановца, который не следил бы за газетами, не заглядывал бы в книги, причем не только в те, что связаны с его специальностью. Жизнь идет вперед. Мы не можем отставать от нее. Отстать — значит успокоиться, а самоуспокоенность чужда советскому человеку. По самой природе своей он постоянно стремится к новому. Такими воспитала нас партия Ленина — Сталина.
Высокие скорости — это скорости советского рабочего, хозяина станка, завода, своей страны. А достигаются они только постоянным кропотливым трудом» [160].
Таков новый духовный облик рабочего, неизвестный прежней истории общества. Советские люди — это люди широкого кругозора, творчески относящиеся к своему труду, испытывающие подлинную радость от своего вдохновенного труда. Токарь московского завода шлифовальных станков Павел Быков пишет о результатах своего труда:
«Ставлю на каждую деталь свое клеймо — маленькую «пятерку», в последний раз оглядываю результаты дневного труда и желаю деталям «счастливого пути». Недавно это были почти бесформенные и некрасивые заготовки, сейчас, стройные, с причудливой, но разумной формой, сверкающие, они невольно приковывают взор... Не один десяток тысяч всевозможных деталей выточил я за шестнадцать лет работы на заводе, и не на одну сотню заводов моей страны разошлись они вместе со станками с нашей заводской маркой «МСЗ». Сознание этого приносит мне глубокое удовлетворение» [161].
Как изменились в условиях социализма люди, производители материальных благ, наглядно видно и на примере работников сельского хозяйства. Единоличное крестьянское сельское хозяйство знало лишь одного универсального работника — крестьянина, хлебопашца; разделение труда внутри деревни было крайне слабо развито. В колхозном сельском хозяйстве широко развито разделение труда: имеются трактористы, комбайнеры, машинисты, шоферы, механики, агрономы, зоотехники, полеводы, бригадиры, звеньевые, конюхи, доярки, заведующие животноводческими фермами, колхозники-хлопководы, колхозники — специалисты по разведению свеклы, кок-сагыза и т. д и т. п. В 1938 г. в МТС числилось: 943 тыс. трактористов, 247 тыс. комбайнеров, 215 тыс. шоферов, 33 тыс. механиков. По данным, опубликованным в «Систематическом словаре занятий» в 1939 г., из 17 тыс. существующих в СССР специальностей в сельском хозяйстве имеется 700 специальностей.
Благодаря высокой механизации социалистического сельского хозяйства сельскохозяйственный труд превращается в разновидность индустриального труда. Прежний крестьянин, работавший на жалком клочке земли при помощи примитивных орудии производства — сохи, однолемешного плута, деревянной бороны, убиравший хлеб при помощи косы, серпа и обмолачивавший его деревянным цепом, был рабом земли, рабом природы, темным, забитым, неграмотным, надеявшимся на милость бога. Советский крестьянин-колхозник, как и советский рабочий, — это человек, работающий при помощи современных машин, опирающийся на науку. Это грамотный и развитой работник, который руководствуется революционным девизом великого Мичурина: не ждать милостей от природы, а взять их у нее. При помощи и под руководством социалистического города наши крестьяне активно преобразуют природу: они осуществляют грандиознейшие планы полезащитных лесонасаждений, прорывают каналы, изменяют течение рек, подчиняют стихийные силы природы своей власти. Это люди, сознающие мощь социалистического коллективного труда, освободившиеся от рутины, косности, предрассудков. Это новаторы, прокладывающие новые пути в развитии производства, в методах труда. Это люди широчайших замыслов и планов, вдохновителем их является партия Ленина — Сталина. Прежний крестьянин руководствовался в своей хозяйственной практике стародедовскими обычаями, правилом: «так поступали деды наши». Колхозный крестьянин не останавливается на достигнутом, он непрерывно стремится вперед, к новым, более высоким урожаям.
На фабриках и заводах, в совхозах и колхозах осуществляется кооперация социалистического труда. Если даже в условиях подневольного труда кооперация рождала новую производительную силу, то тем более велико значение кооперации социалистического труда. Она еще в большей мере повышает мощь объединенного труда, рождает дух творческого соревнования, создает новую производительную силу, намного превышающую сумму сил обособленных индивидов.
3. Социалистические производственные отношения
Социалистические отношения сотрудничества и взаимной помощи
Основу социалистических производственных отношений составляет общественная социалистическая собственность на средства производства. Эта собственность утвердилась в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на средства производства.
В условиях социализма фабрики, заводы, земля и другие средства производства превращены в могучий источник роста благосостояния трудящихся и уже не могут стать средством эксплуатации человека человеком. Если при капитализме рост богатства капиталистов означает рост нищеты трудящихся и идёт рука об руку с разорением миллионов, то при социализме во всемерном умножении общественного богатства заложен материальный источник благополучия всего общества и каждого гражданина.
Социалистические производственные отношения — это отношения товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи освобожденных от эксплуатации работников, Эти общественные производственные отношения охватывают, собой как связи между производителями внутри завода, фабрики, шахты, совхоза, колхоза, так и взаимные связи между трудящимися всей страны, занятыми в различных отраслях производства.
Частная собственность на средства производства разъединяет людей, ставит их во враждебные, антагонистические отношения друг к другу. Социалистическая собственность соединяет и объединяет людей в процессе производства и во всей социальной жизни; она умножает силы людей, увеличивает их энергию,
В условиях капитализма экономическим законом является непримиримая взаимная борьба конкурентов: добивай отстающего, вытесняй его, истребляй — это волчий закон хищников, звериный закон джунглей. В условиях социализма, наоборот, господствует товарищеское сотрудничество и взаимопомощь.
Отношения товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи, вырастающие на основе социалистической собственности, ярко проявляются в социалистическом соревновании. Среди рабочих одного и того же цеха, завода, одной отрасли производства есть отстающие и передовые. Закон социалистического соревнования, сформулированный Лениным и Сталиным, состоит в том, что передовые помогают отстающим подтянуться до уровня передовых и добиваются общего подъема. Это и есть одно из выражений отношений товарищеского сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации трудящихся.
Взаимопомощь и сотрудничество осуществляются и в отношениях между заводами, фабриками, шахтами, колхозами, совхозами целыми отраслями производства, республиками и народами Советского Союза. Так, например, передовая по своему экономическому развитию Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика оказала и оказывает огромную помощь другим союзным республикам в их хозяйственном и культурном развитии. А в наше время весь советский народ оказывает социалистическую помощь странам народной демократии, вступившим на путь строительства социализма.
В СССР ликвидировав антагонизм, существовавший между городом и деревней. Социалистический город активно помогает деревне, а социалистическая индустрия — социалистическому сельскому хозяйству. Отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи выражаются также во всенародном социалистическом соревновании областей и республик.
Особенность социалистических производственных отношений, отличающая их от производственных отношений предшествовавших общественно-экономических формаций, как уже было выше указано, заключается в том, что они устанавливаются не стихийно, а сознательно. Социалистическая экономика может строиться только сознательно, ибо при ее строительстве «должны быть учтены потребности всего общества в целом, должно быть организовано хозяйство планомерно, сознательно, в общероссийском масштабе» [162].
Однако из этого нельзя сделать вывод о том, будто социалистические производственные отношения определяются сознанием людей или сводятся к духовным отношениям. Производственные отношения в отличие от идеологических отношений есть материальные отношения, они представляют собой объективную реальность. Социалистические производственные отношения устанавливаются людьми сознательно, но вовсе не по произволу. Характер этих отношений, как отношений товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи, определяется не просто субъективным желанием людей, а объективным состоянием производительных сил, общественным характером производства. Современные производительные силы требуют их общественного применения и использования. Социалистические производственные отношения полностью соответствуют общественной природе современных производительных сил, являются формой их развития.
Две формы социалистической собственности
Общественная социалистическая собственность существует в СССР в двух формах: в форме государственной (всенародной) и кооперативно-колхозной.
Государственная форма собственности распространяется на землю и ее недра, на леса и воды, на фабрики, заводы, шахты, рудники, совхозы, МТС, транспорт и средства связи, банки, на основной жилой фонд городов. Все перечисленные средства производства, средства связи и сообщения являются всенародным достоянием, достоянием всего социалистического общества.
Хозяйственные постройки и предприятия колхозов и кооперативных организаций, их инвентарь, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот, животноводческие фермы, семенной и страховой фонд составляют кооперативно-колхозную социалистическую собственность.
В различии форм социалистической собственности — общенародной (государственной) и кооперативно-колхозной—отражается различие достигнутого уровня развития производительных сил социалистического общества в промышленности и в сельском хозяйстве, а также отражены особенности перехода к социализму рабочего класса и трудящегося крестьянства.
Государственная общенародная социалистическая собственность — это высшая форма социалистической собственности.
Она возникла в результате экспроприации буржуазии и помещиков, развивается и умножается в результате труда рабочих промышленности, транспорта, совхозов, МТС, в результате всенародного труда. Государственные советские предприятия — это предприятия последовательно социалистического типа, принадлежащие всему народу. Государственная социалистическая собственность выражает собой высшее обобществление средств производства и труда в масштабе всей страны.
Кооперативно-колхозная форма социалистической собственности возникла в результате добровольного обобществления решающих средств производства крестьян, объединившихся в колхозы. Колхозы — это социалистические предприятия, ибо они основаны на обобществлении решающих средств производства, в них уничтожена эксплуатация человека человеком. Колхоз представляет собой по сравнению с государственными социалистическими предприятиями менее высокую форму обобществления социалистического труда: кроме земли, которая является всенародным достоянием, средства производства в колхозе и продукты труда принадлежат не всему народу, а данному колхозу. Но колхозная форма, созданная творчеством передового крестьянства, руководимого Советским государством и коммунистической партией, — это наиболее целесообразная форма хозяйства, которая обеспечила массовый переход всего крестьянства на социалистический путь развития. Колхоз как социалистическая форма хозяйства дает возможность приспособлять личные интересы колхозников к общественным интересам. Рост благосостояния колхозников зависит от количества и качества труда в колхозе, от укрепления колхоза, от умножения колхозной, а также всенародной социалистической собственности. Колхозная форма допускает личное приусадебное хозяйство колхозников, личную собственность на корову, на мелкий скот, птицу, на мелкий инвентарь. Это облегчает удовлетворение личных бытовых нужд колхозников.
При правильном сочетании общественных и личных интересов личное приусадебное хозяйство колхозника служит делу укрепления колхоза, делу упрочения и развития социалистических производственных отношений. При нарушении колхозного устава, при отсутствии большевистского руководства колхозами может возникнуть и не раз возникала опасность раздувания приусадебного хозяйства за счет колхозного, увеличения приусадебных земель за счет колхозных, переключения труда колхозников в их приусадебное, личное хозяйство — опасность возрождения мелкобуржуазных тенденций. Эти опасные тенденции были вскрыты Центральным Комитетом ВКП(б) и Советским правительством и преодолены. Но кое-где эти мелкобуржуазные тенденции еще возрождаются, и против них необходимо вести решительную борьбу.
Политика социалистического государства и коммунистической партии, направленная на защиту колхозной собственности, против разбазаривания колхозных земель, на строгое соблюдение устава колхозной жизни, привела к большевистскому укреплению колхозов.
Большевистское руководство колхозами является важнейшим условием развития и укрепления колхозного строя. Социалистическая природа колхозов обусловлена не только тем, что в них обобществлены средства производства и труд колхозников в пределах артели. Социалистическая природа колхозов, существующие в них общественно-производственные отношения обусловлены также и тем, что колхозы являются частью общей социалистической системы хозяйства: они основаны на земле, принадлежащей социалистическому государству, колхозники обрабатывают землю при помощи средств производства (тракторов, комбайнов и других машин), сосредоточенных в МТС и представляющих собственность социалистического государства. Поэтому кооперативно-колхозная форма собственности теснейшим образом связана с государственной.
Колхозная социалистическая собственность не только укрепляется и умножается, она развивается дальше. Показателем этого развития служит, например, создание межколхозных электростанций, строительство ирригационных сооружений совместными усилиями ряда колхозов. Развитие колхозной социалистической собственности выражается также в объединении мелких колхозов в более крупные колхозы, что дает возможность вести рациональное хозяйство, применить правильный севооборот, основанный на данных агрономической науки, иметь в колхозах агрономов, зоотехников, инженеров, использовать передовую технику.
Государственная собственность является ведущей формой социалистической собственности в СССР. Это объясняется, во-первых, тем, что она представляет собой высшую форму обобществления средств производства, выражающую собой их принадлежность всему обществу; во-вторых, тем, что в государственной собственности находятся наиболее важные, решающие средства производства и прежде всего социалистическая индустрия, представляющая ведущую силу всего народного хозяйства; в-третьих, тем, что государственная собственность является преобладающей по своему удельному весу в народном хозяйстве. Уже к 1937 г. в государственной собственности находилось 97,35% основных производственных фондов в промышленности и 76% основных производственных фондов в сельском хозяйстве.
4. Основные черты социалистического способа производства
Коренная противоположность социалистического способа производства капиталистическому
Способ производства характеризуется прежде всего способом соединения непосредственных производителей со средствами производства. Все антагонистические способы производства так или иначе были основаны на отделении непосредственных производителей от средств производства. Социалистический способ производства, наоборот, характеризуется воссоединением непосредственных производителей со средствами производства. Здесь ассоциированные, объединившиеся производители работают коллективно, при помощи средств производства, представляющих общественную (общенародную и колхозно-кооперативную) собственность. Здесь вещественные условия труда уже не противостоят производителям как чуждая или враждебная, антагонистическая сила. Между трудящимися и средствами производства не стоит капиталист, от которого зависит воссоединение этих вещественных и личных факторов производства в процессе труда. В условиях социализма рабочая сила перестала быть товаром.
При капитализме процесс производства является одновременно процессом эксплуатации, процессом производства прибавочной стоимости. При социализме эксплуатация человека человеком уничтожена, произведенный продукт принадлежит не капиталисту, а самим производителям в лице их государства, общества, колхоза. Развитие социалистического производства служит не обеспечению капиталистической прибыли, а подъему материального и культурного уровня трудящихся, оно подчинено не принципу конкуренции, а принципу планового руководства.
Социалистическое производство носит непосредственно общественный характер. Здесь связь между производителями дана уже в общественной собственности на средства производства. Эта связь дана и в едином общественном, государственном плане производства, предусматривающем распределение средств производства между различными отраслями хозяйства. Эта связь дана в регулируемой, планируемой государством, обществом подготовке и распределении рабочей силы. Общественный характер социалистического производства обнаруживается и через советскую торговлю, при помощи которой осуществляется распределение произведенных государственными предприятиями и колхозами продуктов.
В отличие от стихийности и анархии, характеризующих развитие капиталистического способа производства, важнейшей и неотъемлемой чертой социалистического способа производства является плановость производства и распределения. Социалистический способ производства развивается по принципу расширенного воспроизводства. При капитализме расширенное воспроизводство означает не только рост производительных сил, но и расширенное воспроизводство капиталистических производственных отношений, отношений эксплуатации, рост богатства немногих и нищеты масс. Расширенное социалистическое воспроизводство означает: 1) рост производительных сил общества, 2) расширение социалистических производственных отношений, 3) возрастание общественного социалистического богатства, 4) неуклонный рост материального благосостояния народных масс. В отличие от цикличного, прерывного, катастрофического движения капиталистического производства социалистическое производство развивается непрерывно, неуклонно, неодолимо по восходящей линии.
Технический базис социалистического способа производства является наиболее подвижным и революционным. Как отмечалось выше, при капитализме на пути введения технических усовершенствовании всегда стоят многочисленные препятствия. Для капитала, писал Маркс, «закон повышающейся производительной силы труда имеет не безусловное значение. Для капитала эта производительная сила повышается не тогда, когда этим вообще сберегается живой труд, но лишь в том случае, если на оплачиваемой части живого труда сберегается больше, чем прибавится прошлого труда...» [163].
Социалистический способ производства освободил развитие производительных сил от всех препятствий, которые порождались капиталистическими отношениями. Антагонизм между рабочим и машиной в условиях социализма устранен навсегда. Там, при капитализме, рабочий — раб машины. В условиях социализма рабочий — хозяин машины, труд становится во все возрастающей мере творчеством, источником радости, наслаждения. При социализме труд становится не только обязанностью, но и постепенно превращается в потребность человека.
В первой фазе развития социалистического способа производства еще сохраняется противоположность умственного и физического труда. Но вместе с уничтожением эксплуататорских классов и эксплуатации здесь уже полностью уничтожен былой антагонизм труда умственного и физического. Развитие идет ко все большему их сближению, гармоническому сочетанию. Люди физического труда одновременно являются в СССР изобретателями, рационализаторами производства, прокладывающими новые пути в развитии методов труда и техники и обогащающими науку.
В условиях капитализма развитие производительных сил сопровождается разорением, обнищанием деревни, углублением противоположности и антагонизма между городом и деревней. Для социалистического способа производства характерно постепенное преодоление противоположности между городом и деревней. Былая пропасть, разделявшая город и деревню, в СССР уже исчезла. Сельскохозяйственный труд превращается и в значительной мере уже превратился (поскольку он механизирован и основан на рациональном применении науки) в разновидность индустриального труда.
Полное соответствие производственных отношений и производительных сил – главный источник развития социалистического способа производства
Устранив революционным путем отжившие свой век капиталистические производственные отношения, рабочий класс России в союзе с трудящимся крестьянством устранил главное препятствие на пути развития производительных сил страны. Установление высших по своей форме, по своему типу — социалистических производственных отношений открыло полный простор для развития производительных сил СССР.
Социалистические производственные отношения — это форма развития производительных сил социалистического общества. В социалистических производственных отношениях заложены новые источники и стимулы развития производительных сил, неизвестные другим формам производства. Возникновение и упрочение социалистического способа производства означало возникновение новых источников, движущих мотивов, новых закономерностей развития производительных сил.
Буржуазные критики социализма утверждали, что уничтожение частной собственности убьет личную инициативу, предприимчивость, являющуюся, по их мнению, главным и решающим источником развития производства. На деле оказалось, что именно уничтожение частной собственности на средства производства и замена ее общественной, социалистической собственностью создает новые, невиданные ранее источники развития производства, производительных сил.
Самый глубокий источник развития социалистического способа производства заложен в нем самом, в его природе, а именно — в полном соответствии производительных сил и производственных отношений. Общественной природе производительных сил здесь полностью соответствует общественная социалистическая собственность на средства производства.
«Здесь производственные отношения находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил, ибо общественный характер процесса производства подкрепляется общественной собственностью на средства производства.
Поэтому социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ними нелепостей.
Поэтому производительные силы развиваются здесь ускоренным темпом, так как соответствующие им производственные отношения дают им полный простор для такого развития» [164].
Полное соответствие производственных отношений производительным силам является источником высоких темпов развития производительных сил социалистического общества, источником неуклонного, непрерывного подъема. Все прежние типы производственных отношений, в том числе и капиталистический, были исторически ограниченными формами развития производительных сил. Капитализму, с одной стороны, присуща тенденция к безграничному развитию производительных сил, а с другой стороны, он постоянно ставит границы, преграды их развитию. Этот антагонизм заложен в природе капитализма и разъедает его подобно раковой опухоли. Весь ход развития капитализма связан с развитием этого антагонизма. Отсюда периодические экономические катастрофы, кризисы, разрушение производительных сил. Социалистический способ производства свободен от подобных антагонизмов. Социалистические производственные отношения дают неограниченный простор развитию производительных сил.
Социалистический способ производства, конечно, знает свои противоречия, свои формы борьбы между новым и старым, свои особые формы преодоления этих противоречий. Но это неантагонистические противоречия, они разрешаются в рамках и на основе полного соответствия социалистических производительных сил и социалистических производственных отношений. Так, внутри социалистического способа производства возникают и разрешаются противоречия между развивающимися производительными силами и существующими формами организации и разделения труда. В ходе индустриализации СССР возникло противоречие: быстрый рост передовой промышленной техники натолкнулся на недостаток квалифицированных кадров, владеющих новой техникой, новыми машинами. Это противоречие развития производительных сил было разрешено путем массовой подготовки квалифицированных рабочих и технической интеллигенции.
Производство не стоит на месте. Орудия, которые недавно считались последним словом передовой техники, сегодня уже устаревают. Приемы, навыки труда и нормы, считавшиеся раньше наивысшими, перекрываются стахановцами наших дней. Стахановское движение является одной из форм обнаружения и преодоления противоречий в движении производительных сил социалистического общества.
Производственные отношения при социализме также не остаются неизменными, они развиваются, растут вширь и вглубь. Их развитие обусловливается в конечном счете развитием социалистических производительных сил. Удельный вес общенародной социалистической собственности как в городе, так и в деревне возрастает. Кооперативно-колхозная форма социалистической собственности, как мы видели, также развивается.
На данной стадии развития социалистического способа производства правильное сочетание двух форм социалистической собственности обеспечивает наиболее быстрое и успешное развитие производительных сил социалистического общества. А придет время, когда на базе более высокого уровня производительных сил отпадут различия между двумя формами социалистической собственности и совершится переход к единой всенародной собственности. Это будет достигнуто на высшей фазе коммунизма.
Но при всех изменениях общественная собственность навсегда сохранится как основа, как форма, обеспечивающая безграничный простор развитию производительных сил. Это не исторически преходящая форма, подобная феодальной, капиталистической, а такая, которая содержит в себе безграничные источники развития производительных сил, именно потому что в высшей своей форме она всенародна и, как народ, непреходяща.
Решающая роль социалистического государства и его экономической политики в развитии производительных сил
Из особенностей социалистического способа производства, а также из особой природы Советского государства вытекает новая роль государства в развитии производительных сил.
Государство в предшествующих социализму антагонистических общественных формациях оказывает известное влияние на развитие производительных сил. Оно воздействует на экономику через законодательство, налоговую и таможенную политику в т. д. Но нигде и никогда это государство не было руководителем, организатором экономического развития. При социализме государство направляет, планирует и организует развитие производительных сил общества.
В условиях частной собственности на средства производства хозяйствующими субъектами являются собственники средств производства, и государство не имеет возможности направлять развитие производства. Рабовладельческое, феодальное и буржуазное государство, будучи политическим орудием эксплуататоров, лишь обеспечивает внешние, политические условия для процесса эксплуатации (подавление возмущения трудящихся, забастовок, восстании и т. п.).
Социалистическое государство выражает интересы рабочего класса и всех трудящихся в целом, являющихся важнейшей производительной силой. Социалистическому государству принадлежат решающие средства производства. Вот почему оно является могучим источником развития производительных сил. Оно выполняет особую функцию, несвойственную всем прежним типам и формам государства: функцию хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитательную.
Социалистическое государство является орудием, при помощи которого рабочий класс создает новый, социалистический способ производства. Но не только возникновение социалистического уклада, а и дальнейшее развитие социалистического производства невозможно без сознательного руководства. Социалистическое хозяйство не может развиваться самотеком. Организованность, планомерность, дисциплина, единство воли требуются самой природой социализма. Их обеспечивает социалистическое государство.
Государственное руководство экономикой осуществляется через экономическую политику, через научно разработанные хозяйственные планы, через организационную работу по осуществлению народнохозяйственных планов, через подготовку, подбор и расстановку кадров руководителей хозяйства, инженерно-технических работников. Социалистическое государство осуществляет плановую подготовку и переподготовку рабочей силы и организованное ее распределение между различными отраслями производства. Оно выступает в качестве организатора социалистического соревнования.
Социалистическое планирование, осуществляемое государством, имеет силу экономического закона. Направление, темпы, масштабы развития производительных сил СССР определяются народнохозяйственным планом. Социалистическое планирование есть научное планирование. Оно учитывает потребности развития материальной жизни социалистического общества, исходит из реального учета объективных возможностей социалистического накопления, строится на основе полного и всестороннего использования всех возможностей развития, которые даются социалистическим способом производства, социалистическим строем в целом. Объективные экономические законы сознательно используются социалистическим государством для обеспечения максимальных темпов развития производительных сил.
Социалистический план в руках Советского государства является сродством: 1) для обеспечения экономической независимости СССР и укрепления его обороноспособности; 2) для укрепления социалистических производственных отношений и обеспечения неуклонного дальнейшего движения страны вперед, к коммунизму; 3) для непрерывного повышения уровня материальной и культурной жизни трудящихся. Для решения этих задач государственный план устанавливает наиболее целесообразные пропорции между отраслями народного хозяйства, преодолевает возникающие диспропорции путем создания государственных резервов и их правильного использования.
В развитии взаимообусловливающих друг друга отраслей социалистического хозяйства возникают противоречия, которые разрешаются социалистическим государством, его планирующей, организующей и направляющей деятельностью. В свое время недостаточное развитие черной металлургии задерживало развитие машиностроения и станкостроения, что отрицательно отражалось на развитии всех остальных отраслей социалистического хозяйства. Перед Советским государством стояла задача — обеспечить высокие темпы тяжелой промышленности, а внутри нее — машиностроения, от которого зависит развитие всего хозяйства страны. Под руководством коммунистической партии эта задача была разрешена социалистическим государством. Партийному и государственному руководству приходится преодолевать «местнические» тенденции, подчинять узкие отраслевые интересы интересам целого, обеспечивая всеобщий неуклонный, непрерывный и нарастающий процесс развития производительных сил социализма.
Большевистская критика и самокритика, социалистическое соревнование помогают партии и государству вскрывать и разрешать противоречия, возникающие в развитии социалистического производства.
Таким образом, социалистическое государство, руководимое коммунистической партией, является важнейшим и решающим фактором развития производительных сил социалистического общества.
Социалистический способ распределения – могущественный стимул развития производительных сил
Способом производства определяется характер распределения народного дохода. Уничтожение частной собственности на средства производства и ликвидация эксплуататорских классов коренным образом изменили распределение народного дохода, расширили возможности накопления, т. е. вложения средств на расширение и развитие производства. Все, что раньше шло на содержание эксплуататорских, паразитических классов и их многочисленной челяди, в условиях социализма идет на расширение производства и на повышение материального и культурного благосостояния трудящихся. Рост материального благосостояния народа в свою очередь оказывает влияние на развитие производительных сил, на рост производительности труда.
Капиталистическому способу производства свойственно антагонистическое противоречие между производством и потреблением, отставание платежеспособного спроса от размеров производства. В условиях социализма производство опирается на растущие общественные и личные потребности трудящихся, так как распределение национального дохода осуществляется в интересах систематического подъема материального и культурного уровня трудящихся и в интересах расширенного социалистического воспроизводства. Вместе с уничтожением эксплуатации в СССР навсегда уничтожены нищета, безработица. На основе неуклонного развития производства непрерывно растет платежеспособный-спрос, обгоняя рост производства.
В соответствии с социалистическим способом производства и достигнутым на первой фазе коммунизма уровнем развития производительных сил в СССР установлен социалистический принцип распределения: «От каждого по его способностям, каждому по его труду». В отличие от капитализма, где существует эксплуатация человека человеком и капиталисты получают доход не по труду, а по капиталу, где рабочие получают неравную оплату за равный труд, в условиях социализма каждый трудящийся получает за равный труд равную оплату, и тот, кто больше и лучше работает, больше и получает. В СССР осуществлен принцип: «Кто не трудится, тот не ест». Труд в социалистическом обществе есть священная обязанность каждого трудоспособного гражданина.
Социалистический принцип распределения является могущественным стимулом развития производительных сил и повышения производительности труда. Он создает материальную заинтересованность трудящихся в результатах их труда. Оплата по количеству и качеству труда стимулирует рост квалифицированных кадров рабочей силы. Сочетание могучих факторов — высокой социалистической сознательности и материальной заинтересованности в результатах труда — служит источником и движущим мотивом развития производительных сил социалистического общества. Социалистический принцип распределения находит свое выражение в различных формах оплаты труда, применяемых в СССР и способствующих неуклонному росту производительных сил.
Социалистическое соревнование – могучий источник развития производительных сил
Ускорение развития производительных сил при социализме определяется прежде всего тем, что социализм будит, развязывает инициативу, творческие силы миллионов людей, которые при капитализме были скованы, задавлены.
В СССР осуществлена величайшая в истории смена труда подневольного трудом на себя, на свое государство, на все общество. Здесь трудящиеся заинтересованы не только в успехах своего личного труда, но и в успехах всего предприятия, ибо фабрика, шахта, совхоз, колхоз являются общественной собственностью и рассматриваются как свое родное предприятие, с судьбами которого неразрывно связано благосостояние каждого. Трудящиеся СССР заинтересованы не только в успехах своего предприятия, но и в успехах всего народного хозяйства страны. Они понимают, что их благосостояние зависит от успехов социалистической родины, ее процветания, развития, могущества, а успехи страны зависят от каждого труженика, где бы он не работал. Поэтому граждане СССР трудятся с энтузиазмом и ревностно следят за успехами всех отраслей хозяйства.
Отвечая на вопрос первой американской рабочей делегации в 1927 г., товарищ Сталин говорил:
«Это правильно, что основным двигателем капиталистического хозяйства является извлечение прибыли. Верно также и то, что извлечение прибыли не является ни целью, ни двигателем нашей социалистической промышленности. Что же, в таком случае, является двигателем нашей индустрии?
Прежде всего, то обстоятельство, что фабрики и заводы принадлежат у нас всему народу, а не капиталистам, что фабриками и заводами управляют не ставленники капиталистов, а представители рабочего класса. Сознание того, что рабочие работают не на капиталиста, а на своё собственное государство, на свой собственный класс,— это сознание является громадной двигательной силой в деле развития и усовершенствования нашей промышленности» [165].
В 1936 г. к стахановцу кузнецу А. Бусыгину, установившему мировой рекорд производительности труда, обратился представитель заводов Форда: «Я имею к вам, мистер Бусыгин, поручение от Форда пригласить вас работать на его завод в Детройте. Вам там будут созданы самые лучшие условия. Мы вас забросаем золотом». Тов. Бусыгин ответил посланцу Форда:
«Передайте Форду ...что советский рабочий себя за золото но продает. Я работаю для советского народа, для своей великой родины и всю жизнь буду ей служить. Работать для того, чтобы набивать деньгами карманы капиталистов, я не стану. А что касается хороших условий, то я их имею у себя на родине» [166].
В этом ответе нашли отражение роль рабочего в социалистическом производстве, социалистический характер производственных отношений, новые стимулы и источники развития производительных сил и повышения производительности труда.
На почве социалистических производственных отношений возникло и получило развитие социалистическое соревнование, невиданный ранее могучий источник и двигатель развития производительных сил. Ленин писал в 1918 г.: «Социализм не только не угашает соревнования, а напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами» [167].
Ленину и Сталину принадлежит историческая заслуга в том, что они открыли в социалистическом соревновании новую закономерность и движущую силу развития социалистического хозяйства, метод строительства социализма и коммунизма.
Первым массовым выражением социалистического соревнования и творческой инициативы трудящихся в развитии производства явились коммунистические субботники. Новым этапом в развитии социалистического соревнования масс явилось движение рабочих-ударников, развернувшееся в начале первой пятилетки. По призыву коммунистической партии на фабриках, заводах, на новостройках возникли ударные бригады. Они ставили своей задачей ускорить выполнение производственных заданий по выпуску продукции, по срокам строительства. Социалистическое соревнование, зародившееся первоначально в промышленности, на транспорте, в дальнейшем захватило и трудящихся социалистического сельского хозяйства.
Без социалистического соревнования, без ударничества, без великого энтузиазма и героизма в области труда невозможно было бы добиться в кратчайшие сроки грандиознейших успехов в развитии производительных сил. В июне 1930 г., на XVI съезде ВКП(б), товарищ Сталин говорил:
«Теперь уже не может быть сомнения, что одним из самых важных фактов, если не самым важным фактом, нашего строительства является в данный момент социалистическое соревнование фабрик и заводов, перекличка сотен тысяч рабочих о достигнутых результатах по соревнованию, широкое развитие ударничества.
Только слепые не видят, что в психологии масс и в их отношении к труду произошёл громадный перелом, в корне изменивший облик наших заводов и фабрик» [168].
Самым важным в социалистическом соревновании является то, что оно осуществило коренной переворот во взглядах людей на труд, превратило труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался прежде, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства.
В противовес капиталистической конкуренции, порожденной частной собственностью на средства производства, социалистическое соревнование является выражением общественной собственности на средства производства и возникших на ее основе отношений товарищеской взаимопомощи, сотрудничества.
«Социалистическое соревнование и конкуренция,— указывал товарищ Сталин,— представляют два совершенно различных принципа.
Принцип конкуренции: поражение и смерть одних, победа и господство других.
Принцип социалистического соревнования: товарищеская помощь отставшим со стороны передовых, с тем, чтобы добиться общего подъёма.
Конкуренция говорит: добивай отставших, чтобы утвердить своё господство.
Социалистическое соревнование говорит: одни работают плохо, другие хорошо, третьи лучше,— догоняй лучших и добейся общего подъема.
Этим, собственно, и объясняется тот небывалый производственный энтузиазм, который охватил миллионные массы трудящихся в результате социалистического соревнования. Нечего и говорить, что конкуренция никогда не может вызвать чего- либо похожего на подобный энтузиазм масс» [169].
Социалистическое соревнование является коммунистическим методом строительства социализма. Оно развивается вместе с развитием социалистического способа производства. Высшей формой и высшим этапом социалистического соревнования явилось стахановское движение, возникшее в 1935 г.
Стахановское движение зародилось тогда, когда советская промышленность была уже реконструирована на базе новой, передовой техники. Возникновение стахановского движения как массового движения рабочего класса означало, что у нас сформировались новые кадры рабочих, вполне овладевших передовой техникой. «Новые люди из рабочих и работниц, освоившие новую технику, послужили той силой, которая оформила и двинула вперед стахановское движение» [170].
Вдохновителем и организатором стахановского движения явилась коммунистическая партия. Партия выдвинула задачу: энтузиазм строительства новых заводов необходимо дополнить энтузиазмом их освоения. Лозунг «овладеть техникой» служил выражением этой исторической задачи. Стахановское движение явилось ответом масс на призыв коммунистической партии и Советского государства.
Стахановское движение — это массовое движение передовых рабочих и колхозников, призванное осуществить и осуществляющее революцию в области производительности труда. Товарищ Сталин говорил на первом Всесоюзном совещании стахановцев в 1935 г.:
«...Социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества. Но для того, чтобы социализм мог добиться этой своей цели и сделать наше советское общество наиболее зажиточным,— необходимо иметь в стране такую производительность труда, которая перекрывает производительность труда передовых капиталистических стран. Без этого нечего и думать об изобилии продуктов и всякого рода предметов потребления. Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы, как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну» [171].
Стахановцы — это новаторы, прокладывающие новые пути в развитии производства, в методах труда, в развитии техники. Они раскрыли и показали на деле, что социалистический способ производства обеспечивает высшую производительность труда. Стахановское движение знаменует собой начало культурно-технического подъема рабочего класса, оно подрывает самые основы противоположности между умственным и физическим трудом. «Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?» [172].
Дальнейший ход развития стахановского движения целиком подтвердил этот прогноз И. В. Сталина. Те показатели, которые были достигнуты в области производительности труда в середине 30-х годов пионерами стахановского движения—Стахановым, Дюкановым, Сметаниным, Марией Демченко и другими, ныне уже оставлены позади более высокими образцами производительности труда. Стахановское движение выдвинуло тысячи новых имен, Героев Социалистического Труда, ведущих за собой многомиллионную армию трудящихся.
Стахановское движение стало в наше время поистине всенародным, охватившим не только промышленность, транспорт, но и сельское хозяйство СССР. Передовые колхозники-стахановцы, тысячи Героев Социалистического Труда в сельском хозяйстве доказали, что они, как и стахановцы промышленности, в состоянии дать высокую производительность социалистического труда, которая обеспечит стране изобилие предметов потребления. Если бы урожайность всех наших полей была примерно такой же, какой добились десятки тысяч передовиков сельского хозяйства, наша страна получила бы удвоенное количество продуктов сельского хозяйства, стала бы в два раза богаче продуктами питания.
Стахановское движение с каждым годом подымается на все более высокую ступень развития. В настоящее время все более и более широкое распространение получает метод коллективной стахановской работы. У нас уже существуют не только стахановские участки, но и стахановские цехи и заводы. Одним из образцовых стахановских заводов является московский завод измерительных приборов «Калибр».
Социалистическое соревнование направлено не только к увеличению количества продукции, но и к повышению ее качества, к снижению себестоимости. Заводы, фабрики, шахты соревнуются между собой за мобилизацию внутренних резервов, за полное и рациональное использование оборудования, за сверхплановые внутренние накопления для ускорения развития производства, за экономию металла, топлива, электроэнергии, за четкость и ритмичность работы и т. п.
Социалистическое соревнование — важнейший источник развития производительных сил социалистического общества. В нём выражается новое, коммунистическое отношение к труду, глубокий и животворный советский патриотизм. Любовь к советский родине, сознательная забота об ее дальнейшем расцвете являются могущественнейшим источником развития производительных сил. В. М. Молотов 6 ноября 1947 г. говорил:
«Широта размаха и содержание соревнования определяют теперь достигнутый здесь или там уровень коммунистического отношения к труду среди советских людей. Всеобщий характер соревнования является важнейшим рычагом подъёма производительности труда» [173].
Социалистическое соревнование ныне стало всенародным и охватывает 90% рабочих и служащих, многие миллионы колхозников. Социалистическое государство, поощряя развитие стахановского движения. рост социалистического соревнования, ввело систему премирования и награждений за выдающиеся успехи в области социалистического труда. Только за период с 1945 по 1949 г. орденами и медалями СССР награждено свыше 510 тыс. рабочих, колхозников, ученых, инженеров, врачей, учителей и других работников за выдающиеся успехи в развитии хозяйства, науки, культуры, искусства. За этот же период 4 800 работников промышленности и передовиков сельского хозяйства награждены званием Героя Социалистического Труда.
Наука и её влияние на развитие производительных сил социалистического общества
Огромную и все возрастающую роль в развитии производительных сил социалистического общества играет наука.
Уже капиталистический способ производства знаменовал собой переход от чисто эмпирических, рутинных способов совершенствования техники, орудий производства к сознательному применению в промышленности и сельском хозяйстве данных естествознания. Но вместе с тем капитализм в силу своих антагонистических противоречий ставит, особенно в современную эпоху, препятствия свободному использованию открытий науки и техники для развития производства.
Только социалистический способ производства открыл безграничные возможности для всестороннего использования науки во всех отраслях хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Социализм немыслим без всестороннего использования высших достижений науки и техники.
Социалистическое хозяйство все, во всех своих отраслях, снизу доверху строится на научной основе. Вся экономическая политика Советского государства, определяющая направление, характер и темпы развития производительных сил социалистического общества, базируется на точном знании законов общественного развития, на строго научном знании экономических законов развития общества в частности. Советские хозяйственные планы, планы размещения и развития производительных сил — это научные планы. Они разрабатываются на основе марксистской политической экономии, на основе данных естествознания и технических наук.
Знаменитый план ГОЭЛРО (план электрификации РСФСР), который Ленин назвал второй программой партии, а товарищ Сталин — «мастерским наброском действительно единого и действительно государственного хозяйственного плана», был построен на основе высших достижений науки и техники. Главная идея этого плана выражена в словах Ленина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Этот научно обоснованный план, составленный лучшими учеными и специалистами страны под руководством партии Ленина — Сталина, был досрочно претворен в жизнь.
Знаменитые планы сталинских пятилеток также разрабатывались на основе данных науки. Сила народнохозяйственных планов СССР состоит в том, что они научно обоснованы и за ними стоят миллионы людей, сознательных строителей социализма, претворяющих их в жизнь.
Современное размещение производительных сил СССР осуществлено на основе указаний Ленина и Сталина, на научной основе. Без тщательного изучения, обследования природных богатств страны нельзя было создать второй угольно-металлургической базы на востоке СССР, нельзя было создать такие новые промышленные центры, как «Второе Баку», Балхашстрой и другие.
Роль науки в развитии производительных сил социалистического общества особенно ярко обнаруживается в развитии сельского хозяйства. При капитализме частная собственность на землю, анархия производства, стихийная сила рынка на каждом шагу ставят препятствия широкому применению агрономической науки и передовой техники в земледелии. Крестьянин, фермер в своем карликовом хозяйстве не в состоянии использовать ни передовой сельскохозяйственной техники (трактор, комбайн), ни достижений биологической и агрономической науки.
Даже буржуазные ученые вынуждены говорить о противоречии между современными достижениями агрикультуры и отсталостью сельскохозяйственного производства. Так, например, английский ученый Даниэль Холл в статье «Наука и сельское хозяйство» пишет: «Раньше говорили, что величайшим благодетелем общества был человек, который вырастил два колоса вместо одного. В наше время, когда народы (следовало бы сказать — капиталистические монополии и буржуазные правительства, находящиеся на службе монополий.— Ф. К.) вырабатывают соглашения об ограничении производства и даже об уничтожении продуктов земледелия, — дело обстоит иначе. Теперь человек науки, занимающийся агрикультурой, чувствует себя виноватым перед обществом. В течение двух поколении его упрашивали повышать плодородие земли и уменьшать издержки производства. Теперь же американский профессор агрикультуры пишет мне: «Десять миллионов акров хлопчатника и несколько тысяч акров табачных плантаций были запаханы. Последний план состоит в том, чтобы уничтожить около пяти миллионов свиней весом меньше ста фунтов и двести тысяч свиноматок. Если это принесет национальное процветание, то я свою жизнь потратил зря»» [174].
Судьба великих агробиологических открытий Докучаева, Костычева, Тимирязева, Мичурина, Вильямса в условиях царской России может служить примером того, какие препятствия ставит капитализм применению науки в сельском хозяйстве. Только в условиях социализма эти открытия получили широчайшее применение.
Социалистическое сельское хозяйство явилось основой расцвета советской сельскохозяйственной науки. Никогда еще в истории ни в одной стране ученые не имели такой базы для своих научных исследований, как в условиях социализма. Нигде, ни в одной стране сельскохозяйственная наука не имела и не имеет столько приверженцев, последователей, поборников, энтузиастов, как в Советской стране. Миллионы колхозников являются проводниками учения Мичурина, Лысенко, Вильямса, Докучаева в сельском хозяйстве.
Ярким примером новой роли науки в развитии производительных сил в социалистическом обществе может служить принятый в октябре 1948 г. грандиозный сталинский план борьбы с засухой, план создания полезащитных лесонасаждений, водоемов и применения агрономических мероприятий, обеспечивающих устойчивые высокие урожаи. План полезащитных лесонасаждений и травопольной системы земледелия основан на многолетнем опыте научно-исследовательских институтов, передовых колхозов и совхозов; в него входят следующие основные мероприятия:
«а) посадка защитных лесных полос на водоразделах, по границам полей севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озёр, вокруг прудов и водоёмов, а также облесение и закрепление песков;
б) правильная организация территории с введением травопольных полевых и кормовых севооборотов и рациональным использованием земельных угодий;
в) правильная система обработки почвы, ухода за посевами и, прежде всего, широкое применение чёрных паров, зяби и лущения стерни;
г) правильная система применения органических и минеральных удобрении;
д) посев отборными семенами приспособленных к местным условиям высокоурожайных сортов;
е) развитие орошения на базе использования вод местного стока путём строительства прудов и водоёмов» [175].
Этот грандиозный план, рассчитанный на три пятилетки, успешно выполняется трудящимися под руководством Советского государства и коммунистической партии, при участии деятелей советской агробиологической науки. В противовес капитализму с его хищническим отношением к почве, превращающим плодороднейшие районы в своеобразные «зоны Сахары», осуществление советского плана преобразования природы, опирающегося на высшие достижения современной науки и техники, сохраняет и увеличивает плодородие почвы, ограждает сельское хозяйство от «капризов» природы, от всяких неожиданностей и случайностей. Этот план обеспечит устойчивые высокие урожаи — одну из важнейших основ изобилия продуктов питания.
Социалистический способ производства обеспечивает непрестанное, безграничное развитие производительных сил, такое развитие, перед которым померкнет все достигнутое человечеством в течение предшествующей истории.
Ярким примером нарастающего размаха развития производительных сил социалистического общества служит начало строительства двух величайших гидроэлектростанций на Волге — Куйбышевской и Сталинградской, а также строительства Главного Туркменского канала Аму-Дарья — Красноводск и Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов.
Одним из символов строительства социализма на первом этапе развития советского общества был «Волховстрой». Затем гигантский «Днепрострой» оставил далеко позади «Волховстрой». В настоящий период постепенного перехода от социализма к коммунизму строительство могущественных гидростанций на Волге выражает новый, высший этап в развитии производительных сил социалистического общества. Строительство этих гидростанций означает дальнейший важный этап в развитии технической, материальной базы коммунизма.
Две новые гидроэлектростанции на Волге дадут 20 млрд. киловатт-часов дешёвой электроэнергии для промышленности, для городов. Мощность двух новых гидростанций на Волге превзойдёт мощность всех современных электростанций Италии, Швеции и Швейцарии, вместе взятых.
Но не только в этом состоит значение новых электростанций. Новые гидротехнические сооружения на Волге, на Днепре и Аму-Дарье дадут возможность создать мощную оросительную систему, позволяющую обводнить около 20 млн. гектаров земли. Гидростанции на Волге, Днепре и Аму-Дарье дадут возможность ускорить процесс электрификации сельского хозяйства.
Гидростанции на Волге, Днепре и Аму-Дарье — это важный этап в строительстве коммунизма, один из показателей могучего развития производительных сил социалистического общества.
Опираясь на новые, невиданные ранее закономерности и движущие мотивы развития производительных сил, овладевая этими экономическими законами, социалистическое государство под руководством коммунистической партии организует ускоренное развитие производительных сил, необходимых для перехода к полному коммунизму.
Глава шестая. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы
1. Значение марксистско-ленинской теории классов и классовой борьбы
Марксизм показал, что вся предшествующая история человечества (за исключением истории первобытного общества, ещё не знавшего классового деления) является историей борьбы классов.
Марксистская теория классов и классовой борьбы позволила открыть закономерность в кажущемся хаосе исторических событий, причины революционных движений масс, приводящих к социальным революциям. «Только изучение совокупности стремлений всех членов данного общества или группы обществ способно привести к научному определению результата этих стремлений. А источником противоречивых стремлений является различие в положении и условии жизни тех классов, на которые каждое общество распадается» [176].
Исторический материализм объясняет классовую структуру общества характером и особенностями способа производства.
Коренное отличие марксистско-ленинской теории классов и классовой борьбы от предшествовавших теорий
О том, что общество делится на богатых и бедных, имущих и неимущих, знали задолго до Маркса и Энгельса. Однако основы классового деления, его коренные причины оставались скрытыми. Во всех предшествующих капитализму антагонистических общественно-экономических формациях разделение на классы выступало в форме разделения на сословия, было прикрыто правовой (юридической) оболочкой, освящено традицией, правом, религией. Только с возникновением и развитием капиталистических отношений классовое расчленение обнажилось: в обществе все в большей и большей мере выступало разделение на два противоположных класса, один из которых владеет средствами производства, а другой — лишен их, обладая лишь своей рабочей силой. В эту эпоху, в эпоху капитализма, и были сделаны первые попытки вскрыть основу классового деления.
Крупнейшие представители английской буржуазной политической экономии конца XVIII и начала XIX в. — Адам Смит и Давид Рикардо пытались доказать, что деление капиталистического общества на классы — не случайное явление, что оно связано с экономическими отношениями. Смит утверждал, что весь общественный продукт распадается на три части — ренту, заработную плату и прибыль и «составляет доход трех различных классов народа: тех, кто живет на ренту, тех, кто живет на заработную плату, и тех, кто живет на прибыль с капитала. Это три главных, основных и первоначальных класса в каждом цивилизованном обществе». Таким образом, существование классов землевладельцев, пролетариев и капиталистов Смит объяснял различными источниками, способами получения дохода.
Хотя эта попытка открыть экономическую основу классового деления представляла шаг вперед в изучении общества, она еще не вскрывала действительных причин классового деления, ибо они лежат не в сфере распределения, а в сфере производства. К тому же у Смита и у Рикардо деление общества на три класса — землевладельцев, капиталистов, пролетариев — выступало как естественное и вечное. Ни Смит, ни Рикардо не видели того, что разделение общества на классы сложилось исторически.
Французские буржуазные историки 20 — 30-х годов XIX в., т. е. периода феодальной реставрации, Тьерри, Минье, Гизо подошли к анализу классов с другой стороны. Многообразные события буржуазных революций XVII — XVIII вв. рассматривались этими историками как проявление борьбы классов и прежде всего как результат борьбы «третьего сословия» против феодалов. Ключ к пониманию политической истории они искали в гражданском быте людей, т. е. в экономических условиях существования различных классов. Однако и французские историки подобно английским экономистам не сумели вскрыть подлинную основу классового расчленения. Происхождение классов они объясняли завоеванием, тем, что один народ, покорив другой, стал господствующим классом. Классовую борьбу эти буржуазные историки признавали «законной» и необходимой лишь до тех пор, пока ее вела буржуазия против феодалов; что же касается классовой борьбы пролетариата против буржуазии, то ее они считали «величайшим злом», «социальным бичом».
Не способны были создать научную теорию классов и утопические социалисты. Они подвергали острой критике капиталистический строй, но, будучи идеалистами в понимании общественных явлений, не могли понять материальную экономическую основу классового деления. Вследствие этого у утопических социалистов не было ясного представления о расчленении общества на классы. Так, например, Сен-Симон считал, что французское общество делится на два класса: «праздных» (тунеядцев) и «промышленников» (трудящихся). К последним Сен-Симон относил всех занятых в производстве как в качестве рабочих, так и в качестве предпринимателей. Противоречия между пролетариями и предпринимателями казались Сен-Симону несущественными, он считал возможным примирить эти противоречия и установить «идеальный промышленный строй», в котором «промышленники» станут первым классом. На взглядах Сен-Симона, как и других утопических социалистов начала XIX в., лежал отпечаток незрелости капиталистических отношений, когда противоположность между буржуазией и пролетариатом еще недостаточно проявилась.
Чтобы выработать научную теорию классов, нужно было стать на позиции нового класса, последовательно революционного, заинтересованного в уничтожении всякой эксплуатации и способного ввиду этого безбоязненно вскрыть глубочайшие основы классового деления. Идеологами такого класса — революционного пролетариата — и выступили Маркс и Энгельс.
В противоположность буржуазным теориям, увековечивавшим классовое деление, Маркс и Энгельс не рассматривали классы как нечто вечное и незыблемое, а, напротив, открыли исторически преходящий характер каждой формы классового общества и классового деления вообще. Они впервые открыли связь между разделением общества на классы и условиями материальной жизни общества, показали, что существование классов вытекает из способа производства, господствующего в данном обществе.
«Что касается меня, — писал Маркс Вейдемейеру 5 марта 1852 г., — то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» [177].
Значение марксистско-ленинской теории классов и классовой борьбы заключается в том, что она дает научную основу для политики, тактики пролетариата и указывает ему пути борьбы за социализм. Марксизм впервые с научной точностью определил положение и роль каждого из классов капиталистического общества и с полной ясностью выразил историческую роль пролетариата как единственного класса, способного возглавить борьбу за свержение капитализма, за создание бесклассового коммунистического общества. Маркс и Энгельс всесторонне, научно доказали, что классовая борьба пролетариата с необходимостью ведет к завоеванию им политической власти, к установлению диктатуры пролетариата, которая является важнейшим орудием для построения коммунизма.
«Тактической основой научного социализма, — указывал товарищ Сталин, — является учение о непримиримой классовой борьбе, ибо это — лучшее оружие в руках пролетариата. Классовая борьба пролетариата — это то оружие, при помощи которого он завоюет политическую власть и затем экспроприирует буржуазию для установления социализма» [178].
Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы является надежным идейным оружием революционной партии пролетариата.
2. Определение классов
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин показали, что источник классового деления общества нужно искать в характере способа производства. В соответствии с достигнутым уровнем развития производительных сил между людьми устанавливаются определенные производственные отношения. Состояние производственных отношений характеризуется тем, в чьем владении находятся средства производства: в распоряжении всего общества или отдельных лиц, групп, классов, использующих средства производства для эксплуатации других лиц, групп, классов.
Если средства производства находятся в распоряжении всего общества (как это, например, было при первобытно-общинном строе), то нет почвы для существования общественных классов. Если средства производства находятся в собственности той или иной части общества (как это имеет место при рабовладельческом, феодальном или капиталистическом строе), то общество разделено на классы. Главная, решающая черта классового общества — разделение общества на такие группы, из которых одни владеют средствами производства, а другие частично или полностью лишены их. Это и дает возможность одной части общества присваивать себе труд другой.
Наиболее глубокое и всестороннее определение классов дал В. И. Ленин в брошюре «Великий почин»: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства» [179].
Итак, Ленин указывает, что классы различаются друг от друга прежде всего своим местом в исторически определенной системе общественного производства. Это значит, что каждый класс связан с тем или иным исторически определенным способом производства. Каждому антагонистическому способу производства свойственно свое разделение общества на классы: рабовладельческому способу производства — разделение на рабовладельцев и рабов, феодальному — на феодалов и крепостных, капиталистическому — на капиталистов и пролетариев. Внутри каждой системы общественного производства эти классы занимают диаметрально противоположное положение: один из них является господствующим, другой — подчиненным.
Различие места в системе общественного производства вытекает из различного отношения классов к средствам производства. Господствующий класс обладает монополией на средства производства, т. е. ему принадлежит собственность на все или по крайней мере на важнейшие средства производства, тогда как угнетенный класс полностью или частично лишен собственности на средства производства. Как отмечает Ленин, отношение классов к средствам производства большей частью закрепляется и оформляется в законах: государство охраняет собственность господствующего класса. Так, например, при капитализме закон стоит на страже частной собственности как экономической основы капиталистического строя, объявляя ее «священной и неприкосновенной».
Из различного отношения к средствам производства как коренного, решающего признака вытекают и все остальные признаки классов, в том числе и роль классов в общественной организации труда. Господствующие, эксплуататорские классы, составляющие меньшинство населения, сосредоточивают в своих руках управление производством, заведывание государственными делами, превращают умственный труд в свою монополию, тогда как огромное большинство населения, принадлежащее к угнетенным, эксплуатируемым классам, обречено на изнуряющий, тяжелый физический труд.
Тот класс, который владеет средствами производства, как правило, руководит производством. Маркс отмечал в «Капитале»: «Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием, — наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист. Высшая власть в промышленности становится атрибутом капитала, подобно тому как в феодальную эпоху высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собственности» [180].
В эпоху империализма в среде господствующих классов выделяется обширный слой рантье, который живет доходами с ценных бумаг, «стрижкой купонов». Это паразитический слой, который не выполняет никакой организаторской роли в производстве. Растущий паразитизм буржуазии свидетельствует о том, что этот класс уже отжил свое время, что он не только не нужен производству, но прямо мешает его развитию и, следовательно, должен быть насильственно устранен.
Различным отношением к средствам производства определяется также различие в способах получения и размерах той доли общественного богатства, которой располагает каждый класс. Так, например, капиталист получает свой доход в виде прибыли на вложенный им в предприятие капитал путем присвоения прибавочной стоимости, произведенной наемным рабочим. Напротив, наемный рабочий, пролетарий, получает свой доход в виде заработной платы, которая едва возмещает стоимость его рабочей силы.
Эксплуататорские классы, представляющие ничтожное меньшинство населения, присваивают, как правило, большую часть народного дохода. В царской России в 1913 г. эксплуататорские классы, составлявшие 15,9% населения страны, присваивали 75% народного дохода, а трудящиеся, составлявшие 84,1% населения, получали лишь 25% народного дохода. Таким же приниженным остается и поныне положение трудящихся в капиталистических странах. В США накануне второй мировой войны трудящиеся, составлявшие 78,6% населения, получали 44,4% народного дохода; в Англии трудящиеся, составлявшие 88,2% населения, располагали 40,8% народного дохода. Вторая мировая война и послевоенный период еще более углубили эту противоположность между богатством меньшинства и нищетой большинства. Чудовищно возросли прибыли американских монополистов, которые составили за 1940 — 1948 гг. 106,8 млрд. долларов (не считая налогов). Эта сумма более чем в полтора раза превышает весь народный доход США за предвоенный 1938 г. В то же время резко сократилась доля рабочего класса в народном доходе, и снизился его жизненный уровень. Более 80% населения США не имеют необходимого минимума средств для поддержания нормального существования.
Исходя из способа производства как решающей основы классового деления, исторический материализм приходит к признанию непримиримости интересов антагонистических классов. Различие места в укладе общественного хозяйства, указывает Ленин, дает возможность одному классу присваивать себе труд другого, что и делает их интересы объективно непримиримыми, порождая между ними непримиримую классовую борьбу.
Для современной буржуазной социологии характерно то, что при определении классов полностью игнорируется материальная основа классового деления. Все усилия буржуазных социологов направлены к тому, чтобы доказать недоказуемое: будто на базе буржуазной «демократии» исчезает противоположность классов. Существование классов буржуазные социологи связывают не с условиями материальной жизни людей, а с теми или иными сторонами их психической жизни. Так, например, американские социологи Уорнер и Лант в книге «Социальная система современного общества» (1942) утверждают, что основой для различения классов является не их положение в экономической системе общества, а их социальный «ранг». В соответствии с этим Уорнер и Лант разделили население обследованного ими американского города на 6 классов, которым даже не дали названий, а именуют их как «наивысший», «высший», «средний» и т. д. Принадлежность к тому или иному классу, уверяют они, определяется не столько богатством, сколько социальными связями человека, тем, с кем он общается, и т. д. Таким образом, деление капиталистического общества на два враждебных друг другу класса подменяется неопределенным делением людей на «ранги», чтобы скрыть, замазать коренной классовый антагонизм между буржуазией и пролетариатом. Однако жизнь все нагляднее раскрывает картину ожесточенной классовой борьбы в капиталистических странах, беспощадно разоблачая все вымыслы ученых лакеев империализма и подтверждая истинность марксистско-ленинской теории классов.
3. Происхождение классов
Классы и классовое неравенство рассматриваются многими буржуазными социологами как вечное и естественное явление, вытекающее из «природы» человека. Такой взгляд не имеет ничего общего с наукой, а служит лишь оправданию классового господства буржуазии.
В действительности классы — продукт исторического развития, они не вечны. Возникновению классового общества повсеместно предшествовал первобытно-общинный строй, при котором не было ни разделения людей на классы, ни эксплуатации человека человеком. Из разложения первобытно-общинного строя возникли первые классовые общества. На Востоке — в древнем Египте их возникновение датируется концом пятого и началом четвертого тысячелетий до н. э. В Европе классовое общество появилось намного позднее: на Крите — во втором тысячелетии, а в древней Греции — не раньше начала первого тысячелетия до н. э. История классового общества охватывает, следовательно, всего около 6 — 7 тыс. лет и представляет относительно небольшой отрезок человеческой истории. Но за эти несколько тысячелетий человечество прошло несравненно больший путь развития, чем за все предшествовавшие сотни тысяч лет своего существования.
Предпосылки возникновения классов
Первой предпосылкой появления классов было увеличение производительности труда. «Пока производительность труда не достигла определенного уровня, — указывал Маркс, — в распоряжении рабочего нет того избыточного времени, без которого невозможен прибавочный труд, невозможны, следовательно, и капиталисты, но невозможны в то же время и рабовладельцы, феодальные бароны, одним словом — какой бы то ни было класс крупных собственников» [181].
Развитие производительных сил привело к тому, что стало возможным часть производимого продукта отчуждать от работника, одним людям жить за счет труда других. Эта возможность превратилась в действительность в результате появления общественного разделения труда, а вместе с ним — частной собственности на средства производства, что и явилось второй важнейшей предпосылкой классового деления общества. С появлением частной собственности стало неизбежным имущественное неравенство внутри общины: отдельные роды и семьи богатели, другие нищали и оказывались в экономической зависимости от первых. Этим и были созданы предпосылки для возникновения классов.
Пути образования классов
Первым расчленением общества на классы было разделение на рабовладельцев и рабов. Рабство возникло первоначально путем обращения военнопленных в рабов. Возникновение рабства предполагало уже сравнительно высокую ступень экономического развития общества. До того как общество достигло этой ступени, вооруженные столкновения между племенами не приводили к появлению рабства; пленных съедали, убивали, иногда принимали в общину как равноправных членов.
Превращать пленных в рабов могли лишь тогда, когда: 1) производительность труда настолько возросла, что пленный стал производить больше, чем необходимо для его физического существования, и 2) возникла потребность в привлечении дополнительных рабочих рук. Оба эти условия начали складываться на той общественной ступени, когда получило значительное развитие скотоводство, земледелие и домашнее ремесло. Первые зачатки рабства развились в рамках патриархальной родовой общины. Это было домашнее, или патриархальное, рабство, при котором раб использовался в качестве домашней прислуги, челяди. По свидетельству путешественников, такой характер рабство носило, например, у гиляков и ульчей; в рабство у них обращались исключительно чужеплеменники. Общая численность рабов была сравнительно невелика. Рабский труд имел подчиненное значение: рабы использовались главным образом на домашних работах, основная производственная работа по-прежнему выполнялась свободными членами рода. Рабы считались помощниками своих хозяев, жили в одном доме с ними, питались той же пищей, иногда даже вступали в брак со свободными. Рабство еще не было наследственным. У племен, достигших более высокого развития (например, у индейцев северо-западного побережья Северной Америки), рабство начало принимать уже иную форму. Значительно увеличилось число рабов. Рабский труд стали применять в наиболее важных областях производства. Получила значительное развитие работорговля; рабы наряду со скотом и другими товарами служили предметом обмена между племенами. Рабство стало наследственным, дети рабов должны были навсегда оставаться рабами. Впоследствии на смену патриархальному рабству, еще уживавшемуся с родовыми отношениями, пришла новая форма рабства. «...Рабство, только возникавшее и бывшее спорадическим на предыдущей ступени развития, становится теперь существенной составной частью общественной системы; рабы перестают быть простыми помощниками; десятками их гонят теперь работать на поля и в мастерские» [182].
Развитие рабства подрывало первобытное равенство членов рода и способствовало росту имущественного расслоения среди свободного населения. Расширившаяся работорговля, военные походы за рабами представляли множество удобных случаев для обогащения отдельных лиц. Собственниками рабов становились вожди племени и главы состоятельных семей. Используя труд рабов, они имели возможность еще быстрее умножать свое богатство. Так из массы членов рода выделялась родовая знать, как, например, эвпатриды в Греции, знатные у древних германцев и т. д.
Выделению родовой знати в сильной мере способствовало учащение войн. Участившиеся войны привели к созданию военной дружины. Военный вождь собирал вокруг себя толпу предприимчивых и жаждавших добычи молодых людей, превращал их в отряды телохранителей, в постоянное, готовое к бою войско. Такие постоянные дружины существовали, например, у древних германцев. Как указывает Энгельс, в них содержался уже зародыш упадка старинной народной свободы, во-первых, потому, что они явились зачатком особой вооруженной власти, находившейся в распоряжении военного вождя, во-вторых, потому, что их организацию можно было сохранить только путем постоянных войн и разбойничьих набегов. Еще Тацит в своем описании древних германцев заметил, что «прокормить большую дружину можно только грабежом и войной». Грабительские войны усиливали власть верховного военачальника и других вождей. С усилением их власти, с укреплением военной дружины эти органы родового строя начали отрываться от породившего их общества, их интересы оказались в противоречии с интересами массы населения.
Обособлению племенной знати способствовала также наследственность общественных должностей. Вошедшее в обычай замещение родовых должностей членами определенных семей превратилось в мало оспариваемое право этих семей на занятие общественных должностей. Эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться в особый привилегированный класс.
Так наряду с расчленением общества на рабов и рабовладельцев сложилось и другое классовое деление, возникла противоположность между богатыми и бедными, «благородными» и простым народом. Эта противоположность вполне отчетливо выступает, например, в греческом обществе в эпоху Гомера. Верхний слой общества составляли родовая знать, главы родов, обычно входившие в состав старейшин, и базилевсы, выполнявшие функции военачальников, судей и верховных жрецов. Гомер именовал их «владыками богатых», «обладателями нив хлебородных», «садов плодоносных», называл их «равными богам», «благородными», «хорошими», «жирными», «тучными» людьми и противопоставлял «худородным», «дурным» людям. Основную массу населения в гомеровской Греции составлял простой народ — «демос», состоявший из свободных земледельцев и ремесленников.
Дальнейшее развитие привело к усилению господства родовой знати и разорению массы свободного населения, попадавшего в долговую зависимость от богатых. В VII — VI вв. до н. э. на полях Аттики повсюду торчали столбы с надписями, извещавшими, что этот участок земли заложен такому-то лицу. По свидетельству Аристотеля, «бедные находились в порабощении не только сами, но также и дети и жены. Назывались они пелатами и шестидольниками [183], потому что на таких арендных условиях обрабатывали поля богачей. Вся же вообще земля была в руках немногих. При этом, если эти бедняки не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих и детей» [184].
Господство родовой знати, эксплуатировавшей своих же сородичей, стало с течением времени невыносимым. Между тем развитие производства, рост торговли, увеличение населения разрушали прежнее единство рода и племени. Благодаря разделению труда выросли города — центры ремесла и торговли. Развитие производства и торговли вело к образованию в городах нового слоя богатых — промышленников и купцов, успешно конкурировавших со старой, родовой знатью.
В ряде политических революций, начиная с преобразований Солона и кончая переворотом Клисфена, в Афинах были разрушены остатки старого, родового строя. Родовая знать была оттеснена и уступила место новому эксплуататорскому слою, не связанному рамками родовых отношений. В результате этого народившееся в Афинах классовое общество освободилось от оболочек родовых отношений, и на первое место выступил антагонизм между основными классами рабовладельческого общества — рабовладельцами и рабами.
Критика теории насилия
В буржуазной социологии распространена теория, объясняющая происхождение классов насилием. Один из сторонников этой теории, Дюринг, утверждал, что истинное начало частной собственности — это захват имущества по праву сильного. Порабощение одних людей другими объявлялось последователями этой теории результатом завоевания. Многие из них добавляли к этому, что народы делятся на «высшие» и «низшие» расы, что побеждает всегда «высшая» раса, которая подчиняет и покоряет себе «низшую» расу.
Эта антинаучная и реакционная теория получила распространение еще в прошлом веке, но особенно широко пропагандируется империалистической буржуазией в XX в. Теория насилия служит идеологам империализма «обоснованием» права на военные захваты и подавление народов зависимых стран. Эта теория занимала видное место в человеконенавистнической идеологии фашизма, а ныне используется империалистами США и Англии.
Еще Маркс и Энгельс вскрыли полную несостоятельность теории насилия и подвергли ее уничтожающей критике. Возникновение частной собственности, указывал Энгельс в «Анти-Дюринге», не было результатом обмана или насилия. Институт частной собственности должен был существовать раньше, чем грабитель получил возможность присваивать себе чужое имущество: «...насилие, хотя и может сменить владельца имущества, но не может создать частную собственность как таковую» [185]. Насилием никогда не определяется характер присвоения чужого имущества. «И способ грабежа опять-таки определяется способом производства», — указывает Маркс [186]. Как будет использовано захваченное имущество, в чью собственность оно поступит, это зависит от господствующих общественных отношений, а вовсе не от самого факта насилия. Так, например, первоначально имущество, захваченное на войне, обращалось в общественную, а не в частную собственность. По свидетельству М. Ковалевского, у осетин военная добыча — скот, рабы — была объектом общего присвоения. Военнопленный становился рабом всей общины, продукты его труда поступали в общую казну [187]. Только с течением времени, когда внутри общины появляются частнособственнические отношения, военная добыча становится средством личного обогащения и ускоряет рост имущественного неравенства. Из этого видно, что сам по себе факт насилия еще не объясняет возникновения частной собственности.
Как показывает история, классы возникали и у тех народов, где не было никакого завоевания (об этом наглядно свидетельствует приведенный выше пример возникновения классов в Афинах). Когда же завоевание действительно имело место, то его результаты определялись тем, на какой ступени экономического развития находились завоеватель и завоеванные. Почему, например, завоевание Рима варварскими племенами способствовало крушению рабовладельческого строя и подготовке условий для формирования в дальнейшем феодального строя? Это объясняется не фактом завоевания, а прежде всего теми историческими условиями, при которых завоевание совершалось.
Отвергая теорию насилия, основоположники марксизма вместе с тем указывали, что насилие играло и играет значительную роль в истории. Насилие не было первопричиной появления частной собственности, классового деления общества и классовой эксплуатации, но оно способствовало их усилению и закреплению. Насилие играло в истории также и другую, а именно революционную роль. По выражению Маркса, насилие являлось повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. При помощи насилия революционные классы ломали отжившие отношения старого общества. Однако ни в том, ни в другом случае насилие не было самодовлеющей силой; прежде чем стать причиной изменения экономических отношений, оно являлось их следствием.
4. Классовая структура рабовладельческого, феодального и капиталистического общества
Способ производства и классовая структура общества
Сущность классовой эксплуатации состоит в присвоении одной частью общества, владеющей средствами производства, труда непосредственных производителей. «Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, — указывал Маркс, — рабочий, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства, будет ли этим собственником афинский... [аристократ], этрусский теократ... [римский гражданин], норманский барон, американский рабовладелец, валашский боярин, современный лэндлорд или капиталист» [188].
Каждому антагонистическому способу производства присуща особая форма присвоения чужого труда, особый способ классовой эксплуатации. Какие именно средства производства становятся объектом классовой монополизации (земля, орудия труда или сам работник, рассматриваемый как средство производства), — это зависит от конкретных исторических условий, от особенностей данного способа производства, от уровня развития производительных сил. А в связи с этим изменяются и способы эксплуатации.
Рабство, крепостничество, наемный труд образуют три сменяющие друг друга способа эксплуатации, характеризующие ступени развития классового общества. «Рабство — первая форма эксплуатации, присущая античному миру, — говорил Энгельс; — за ним следуют: крепостное право в средние века, наемный труд в новое время. Таковы три великие формы порабощения, характерные для трех великих эпох цивилизации» [189].
Рабовладельцы и рабы, феодалы и крепостные крестьяне, буржуа и пролетарии — это основные классы соответствующих общественно-экономических формаций. Их существование непосредственно вытекает из того способа производства, который характерен для данной общественно-экономической формации. Без них этот способ производства невозможен. Это классы-антагонисты, в их взаимоотношениях и борьбе выражается основное противоречие данного способа производства.
Каждый из антагонистических способов производства порождает лишь два основных класса. Однако наряду с господствующим способом производства в классовых формациях могут сохраняться и остатки прежних способов производства или возникать ростки новых способов производства в виде особых укладов хозяйства. С этим связано существование неосновных, переходных классов.
Из объективного положения каждого класса в системе общественного производства вытекает и его социальная роль. Является ли данный класс революционным или консервативным, заинтересован ли он в ниспровержении или в упрочении существующего общественного порядка, это зависит от занимаемого им места в исторически определенной системе общественного производства, от исторической ступени развития данного способа производства.
«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» [190],— указывали Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», характеризуя классовые общества. Борьба классов пронизывает собою всю историю классового общества. Ее результатом являлось, как указывали авторы «Манифеста», революционное переустройство всего общественного здания или общая гибель борющихся классов.
Классовая борьба является движущей силой развития классового общества. Только через борьбу классов осуществляется переход от одного способа производства к другому. Смена одного общественного строя другим, более высоким общественным строем происходит путем революции, представляющей самую острую форму столкновения классов.
Классы никогда добровольно не сдаются. Реакционные классы, выступающие как носители отживших производственных отношений, не уходят добровольно со сцены. Революционным классам приходится силой свергать их господство, устанавливать свою власть, чтобы упразднить старые производственные отношения и утвердить новые.
Поэтому без ожесточенной борьбы с отжившими классами ни одна великая революция не могла довести до конца своих задач, а новый общественный строй всегда рождался из старого в жестоких муках борьбы. В беседе с английским писателем Уэллсом И. В. Сталин говорил:
«Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но Вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов» [191].
Классовая структура докапиталистических обществ
При первых двух формах эксплуатации — рабстве и крепостничестве — производитель являлся в той или иной степени лично зависимым и приравнивался к средствам производства.
Раб представлял собственность рабовладельца, которая ничем не отличалась от собственности на вещь. Присвоение прибавочного продукта в рабовладельческом обществе осуществлялось посредством прямого принуждения. С этим в свою очередь были связаны крайне грубые и жестокие формы эксплуатации.
В рабовладельческих обществах существовали не только основные классы — рабовладельцы и рабы, но и мелкие земледельцы — крестьяне, а также ремесленники, сохранившиеся от патриархальной эпохи. По мере развития рабовладельческого способа производства, роста торгово-денежных отношений крестьяне разорялись, попадали в долговую зависимость от ростовщиков, вытеснялись более дешевым рабским трудом. История рабовладельческого общества знает немало революционных движений крестьян, пытавшихся отстоять себя от крупных землевладельцев. Такой характер имело, например, в Риме движение крестьян, возглавлявшееся братьями Гракхами (133 — 123 гг. до н. э.). Маркс указывал, что «в античном мире классовая борьба разыгрывается преимущественно в форме борьбы между должником и кредитором и в Риме кончается гибелью должника-плебея, который замещается рабом» [192]. Это приводит к еще большему обострению основного противоречия рабовладельческого общества — антагонизма между рабами и рабовладельцами.
История рабовладельческого общества заполнена борьбой рабов против своих угнетателей. Из истории древней Греции известны, например, восстания рабов в Аргосе в 494 г. до н. э., восстания в городах Сицилии, в Спарте и т. д. Восставшие рабы иногда объединялись с беднотой из свободных и совместно боролись против своих угнетателей. Из истории древнего Рима также известны многочисленные восстания рабов, например восстания под руководством Евна и Клеона в Сицилии в 138 — 132 гг. до н. э., восстание рабов и свободных под предводительством Аристоника в Малой Азии и, наконец, величайшее восстание рабов древности под предводительством Спартака, в котором участвовало более 100 тыс. рабов и которое продолжалось около трех лет (74 — 71 гг. до н. э.).
Революционные движения рабов в конце концов подорвали рабовладельческий строй и привели его к гибели. Ослабленная изнутри противоречиями рабовладельческого способа производства, под ударами революции рабов и натиском варварских племен извне рабовладельческая Римская империя в конце V в. пала. Однако революция рабов, сыгравшая крупную историческую роль в ликвидации рабовладельческого строя, не увенчалась и не могла увенчаться победой рабов и приходом их к власти. Это объясняется тем, что класс рабов не был носителем нового, более прогрессивного способа производства. Рабы мечтали освободиться от рабства, но не были в состоянии создать новое общество, не могли даже ясно понять, к чему приведет их борьба.
Классовая борьба в рабовладельческом обществе и высшая форма этой борьбы — революция рабов — подготовили переход к феодальному обществу, постепенно сложившемуся на развалинах Римской империи.
На смену рабовладельческой форме эксплуатации явилась феодальная. В отличие от раба крепостной крестьянин уже располагал своим небольшим хозяйством, некоторыми орудиями производства. Однако феодал был собственником главного средства производства — земли, что и давало ему возможность присваивать труд крестьянина. Феодальная система хозяйства, так же как и рабовладельческая, предполагала личную зависимость производителя. В феодальной деревне производство осуществлялось руками класса крепостных крестьян.
Производство в феодальном городе осуществлялось ремесленниками, сословно организованными в цехи и корпорации. В городах позднего средневековья цеховые мастера превратились в слой эксплуататоров, а подмастерья — в эксплуатируемую массу производителей.
История феодального общества представляет картину ожесточенной классовой борьбы эксплуатируемых против эксплуататоров, крестьян против феодалов, подмастерьев против мастеров. Угнетенные крестьяне во всех странах боролись за землю, которая была захвачена феодалами, и за освобождение от крепостной зависимости. Эта борьба вылилась в ряд восстаний, в которых крепостные крестьяне пытались покончить со своими угнетателями. Крупнейшими из этих восстаний были: в Англии восстание крестьян под предводительством Уота Тайлера (1381), во Франции — движение крестьян, получившее название «Жакерия» (1358), в Италии — восстание Дольчино (1303 — 1307), в Германии — крестьянская война (1524 — 1525), в России — грандиозные крестьянские восстания под предводительством Ивана Болотникова (1606 — 1607), Степана Разина (1666 — 1671), Емельяна Пугачева (1773 — 1775). Все эти крестьянские восстания были подавлены феодалами, но тем не менее сыграли крупную историческую роль в подготовке условий для свержения феодализма.
Слабость крестьянских движений была в их стихийности и неорганизованности. Как указывали основоположники марксизма-ленинизма, крестьяне могли одержать победу над феодалами лишь под руководством сплоченного революционного класса города. Такой класс складывался в недрах феодального общества по мере развития нового, капиталистического способа производства. С развитием ремесла и торговли росла торговая буржуазия, появились неимущие плебеи, подмастерья и т. д. Все эти слои общества участвовали в классовой борьбе. Наиболее решительные выступления против феодализма связаны с движениями не только угнетенного крестьянства, но и плебейства — низшего слоя городского населения, подмастерьев, городской бедноты. Однако городская беднота была слишком слаба, неорганизованна и темна, чтобы стать вождем крестьянства. Тем классом, который возглавил борьбу крестьян, стала в буржуазных революциях XVII — XIX вв. на Западе буржуазия. С ростом классовой борьбы пролетариата буржуазия превратилась в реакционный класс, и в XX в. в России и других странах вождем крестьянства стал революционный пролетариат. Под руководством пролетариата крестьянство России освободилось от царского гнета, от власти помещиков и капиталистов.
Особенности классовой структуры капиталистического общества
В результате победы буржуазных революций место феодального строя занял капиталистический строй, ставший ареной острейшей классовой борьбы между эксплуатируемыми и эксплуататорами, прежде всего между основными классами этого общества — пролетариатом и буржуазией.
Капиталистический способ производства заменил феодальную форму эксплуатации капиталистической. При капитализме рабочий считается юридически свободным, но находится в экономической зависимости от капиталиста. Основой производственных отношений при капитализме является собственность капиталиста на средства производства, тогда как пролетарий владеет только своей рабочей силой, которую он вынужден, чтобы не умереть с голоду, продавать капиталисту. В соответствии с этим капиталистический способ эксплуатации характеризуется присвоением прибавочного труда рабочего, осуществляемым в результате найма рабочего капиталистом. Такую систему эксплуатации Маркс и Энгельс характеризовали как систему наемного рабства.
Этой особенностью капиталистической формы эксплуатации объясняется и то, что при капитализме деление общества на классы освобождается от сословных оболочек.
При рабовладельческом и феодальном строе классовое деление общества принимало форму деления на сословия. Принадлежность к тому или иному сословию считалась наследственной. Каждому сословию были присущи определенные юридические права и обязанности. Таким образом, «различие классов фиксировалось и в сословном делении населения, сопровождалось установлением особого юридического места в государстве для каждого класса. Поэтому классы рабского и феодального (а также и крепостного) общества были также и особыми сословиями. Напротив, в капиталистическом, буржуазном обществе юридически все граждане равноправны, сословные деления уничтожены (по крайней мере в принципе), и потому классы перестали быть сословиями. Деление общества на классы обще и рабскому, и феодальному, и буржуазному обществам, но в первых двух существовали классы-сословия, а в последнем классы бессословные» [193].
Однако пережитки сословного деления сохраняются в большинстве капиталистических стран. Особенно значительны они в тех странах, где не была проведена решительная ломка отживших феодальных отношений (например, в Германии, Японии, Англии и др.). В эпоху империализма наиболее реакционные круги буржуазии (прежде всего итальянские и германские фашисты) пытались даже восстановить сословное деление.
В свое время, когда буржуазия была еще революционным классом, она боролась против сословных привилегий. Ныне реакционная буржуазия, чтобы удержать свое классовое господство, готова вернуть общество к средневековью, готова защищать самые дикие сословные предрассудки. Но, как и всякие попытки повернуть историческое развитие вспять, эти реакционные стремления осуждены на провал. Об этом достаточно убедительно свидетельствует крах германского и итальянского фашизма.
Антагонизм между буржуазией и пролетариатом
Устранив сословные деления, капитализм упростил классовые противоречия, сделал более явным раскол общества на два больших, стоящих друг против друга враждебных класса — буржуазию и пролетариат.
Вопреки фактам и очевидности буржуазные идеологи нередко пытаются представить устранение сословных делений как исчезновение всяких классовых делений. В этом отношении особенно характерна своим бесстыдством и наглой софистикой американская пропаганда. Американские буржуазные политики, социологи, журналисты усердно распространяют легенду о том, что в США нет различных классов, что там каждому предоставлен «свой шанс» и каждый чистильщик сапог может стать миллионером. В арену этой лживой пропаганды была превращена даже сессия Экономического и Социального совета организации Объединенных наций, где в 1948 г. официальный представитель США Торп выступил с россказнями о том, будто в США рабочие являются предпринимателями, а предприниматели — рабочими.
Эти лживые сказки, служащие для одурачивания простаков, разоблачаются капиталистической действительностью на каждом шагу. Чего стоит болтовня об отсутствии классов в США, если статистика показывает, что 1% населения США — капиталистическая верхушка — владеет 59% всего богатства страны, 12% населения владеют 33% богатства, а на долю остальных 87% населения — рабочих и фермеров — приходится лишь 8% национального достояния! Чего стоят разглагольствования о «равных шансах», если большей частью достояния нации распоряжаются 60 семейств США [194]. Жизнь убеждает пролетария, что ему предоставляется лишь один «шанс»: трудиться, пока есть силы, подвергаясь постоянной угрозе безработицы, а по достижении 45 — 50 лет оказаться окончательно выброшенным за ворота завода без всяких средств к существованию.
Развитие капитализма неуклонно ведет к усилению эксплуатации пролетариата. Об этом свидетельствует прежде всего рост нормы прибавочной стоимости, которая представляет мерило капиталистической эксплуатации [195]. По данным американской «Ассоциации по исследованию проблем труда» за 50 лет, с 1889 по 1939 г., норма прибавочной стоимости в обрабатывающей промышленности США увеличилась почти в полтора раза (на 41%). (Исчислено по данным таблицы, приведенной в исследовании «Некоторые тенденции в развитии американского капитализма», Государственное издательство иностранной литературы, 1950, стр. 95.) К этому следует еще добавить систематический рост интенсивности труда, преждевременно старящей рабочего. Именно США являются родиной «потогонной системы» организации труда Тэйлора, конвейерного производства, при котором у рабочего не остается времени даже для того, чтобы отереть пот с лица.
Антагонизм между основными классами капитализма — пролетариатом и буржуазией — вытекает из природы капиталистического способа производства, из законов его развития. На основе анализа капиталистического способа производства Маркс доказал, что при капитализме неизбежно относительное и абсолютное обнищание рабочего класса. Сформулированный Марксом закон капиталистического накопления гласит:
«Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, размеры и энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютная величина пролетариата и производительная сила его труда, тем больше промышленная резервная армия. Свободная рабочая сила развивается вследствие тех же причин, как и сила расширения капитала. Следовательно, относительная величина промышленной резервной армии возрастает вместе с возрастанием сил богатства. Но чем больше эта резервная армия по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, нищета которого обратно пропорциональна мукам его труда. Наконец, чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная резервная армия, тем больше официальный пауперизм. Это — абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления» [196].
Относительное обнищание рабочего класса выражается в том, что систематически снижается доля рабочего класса и, наоборот, возрастает доля капиталистов в народном доходе. Но дело не только в относительном обнищании рабочего класса. Как указывал Ленин в 1912г., «рабочий нищает абсолютно, т. е. становится прямо-таки беднее прежнего, вынужден жить хуже, питаться скуднее, больше недоедать, ютиться по подвалам и чердакам» [197].
Развитие капитализма все больше и больше подтверждает выводы Маркса и Ленина об относительном и абсолютном обнищании рабочего класса. Все глубже становится пропасть между богатством, накапливающимся на одном полюсе, и нищетой, растущей на другом полюсе капиталистического общества. В результате исследования распределения доходов, проведенного в 1939 г., около двух третей всех семейств США было отнесено к разряду находящихся «постоянно на грани голода» или «борющихся с нищетой».
После войны положение трудящихся в США еще более ухудшилось. Сократилась и продолжает сокращаться реальная заработная плата рабочего класса и вследствие наступления на нее со стороны предпринимателей и вследствие роста безработицы и инфляции. По подсчетам прогрессивного немецкого экономиста Ю. Кучинского, в конце 1947 г. нужно было бы повысить заработную плату рабочих США почти на 50%, чтобы она только покрывала стоимость жизни [198].
Если таково положение пролетариата в США, то что же говорить о положении рабочих в «маршаллизированной» Западной Европе, которую американский монополистический капитал все больше и больше старается подчинить своим хищническим поползновениям! Во Франции доля заработной платы рабочих и служащих сократилась с 45% национального дохода в 1938 г. до 39% в первой половине 1948 г., тогда как доля капиталистов возросла с 29% до 43%. Под давлением американского капитала сокращается производство в жизненно необходимых отраслях промышленности Франции, Италии и других западноевропейских стран, и рабочие выбрасываются на улицу, пополняют армию безработных.
Все это с неизбежностью ведет к обострению классовых антагонизмов в капиталистическом мире.
Неосновные классы при капитализме
Как указывал Маркс, «капиталист и наемный рабочий — единственные деятели и факторы производства, отношение и противопоставление друг другу которых вытекает из сущности капиталистического способа производства» [199]. Но кроме этих основных классов в большинстве капиталистических стран существуют неосновные классы: крупные землевладельцы (помещики), мелкая буржуазия (ремесленники, мелкие крестьяне). В зависимости от степени развития капитализма удельный вес этих слоев, а также их положение в обществе бывают весьма различными.
В ряде капиталистических стран, в особенности в странах со слабо развитой промышленностью, сохранились до сих пор сильные пережитки феодализма. К числу этих пережитков относится крупное помещичье землевладение, связанное с эксплуатацией малоземельного крестьянства. В качестве особого класса помещики существовали в ряде стран Юго-Восточной и Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния и др.). Установление в этих странах народно-демократической власти, которая осуществила решительные аграрные реформы, привело к ликвидации класса помещиков. Сильное влияние оказывали помещики на общественную и политическую жизнь Германии. Прусские юнкеры (помещики) вместе с магнатами монополистического капитала вскормили и поддерживали германский фашизм. После разгрома германского фашизма помещичье землевладение в советской зоне оккупации Германии полностью ликвидировано; однако в западных зонах Германии оно продолжает существовать при поддержке американских и английских оккупационных властей. Как особый класс сохранились помещики в многочисленных колониальных и полуколониальных странах, где их поддерживают как свою опору империалисты господствующих капиталистических стран. Сращивание помещиков с монополистическим капиталом, взаимная поддержка, которую помещики и буржуазия оказывают друг другу в борьбе против демократии, против народа, характерны для эпохи империализма.
Мелкая буржуазия, в особенности крестьянство, также представляет собой слой, сохранившийся от феодализма. В большинстве капиталистических стран этот слой довольно многочисленен и составляет от 30 до 45% населения. В странах капиталистически менее развитых средние слои (крестьяне, ремесленники и т. п.) представляют значительное большинство населения (до 60 — 70%). По своему экономическому положению эти средние слои, связанные с мелкотоварным производством, занимают промежуточное положение между пролетариатом и буржуазией. Их роднит с пролетариатом то, что они живут личным трудом, являются трудящимися и угнетаются помещиками и капиталистами; их роднит с буржуазией то, что они являются частными собственниками, товаропроизводителями. По мере развития капитализма средние слои размываются, расслаиваются, распадаются: подавляющее большинство ремесленников, мелких крестьян разоряется, нищает, теряя свою собственность и переходя в ряды пролетариата; небольшое меньшинство обогащается, пробирается в ряды буржуазии. Поэтому с развитием капитализма крестьянство перестает быть единым классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую буржуазию.
Социальная роль крестьянства может быть различна в зависимости от тех исторических условий, при которых совершается развитие капитализма. На Западе после буржуазных революций XIX в. крестьянство представляло слой свободных мелких землевладельцев, придавленных господством капитала, распыленных, атомизированных, не способных к совместным действиям. В России, стоявшей в конце XIX — начале XX в. накануне буржуазно-демократической революции, крестьянство еще оставалось классом, но классом не капиталистического, а крепостного общества, т. е. классом-сословием. В то же время социальная дифференциация крестьянства уже получила в России сильное развитие. «Поскольку в нашей деревне, — писал Ленин в 1902 г., — крепостное общество вытесняется «современным» (буржуазным) обществом, постольку крестьянство перестает быть классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую буржуазию (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую). Поскольку сохраняются еще крепостные отношения, — постольку «крестьянство» продолжает еще быть классом, т. е., повторяем, классом не буржуазного, а крепостного общества. Это «поскольку-постольку» существует в действительности в виде крайне сложного сплетения крепостнических и буржуазных отношений в современной русской деревне» [200].
Исходя из этого, Ленин определял и политику пролетарской партии по отношению к крестьянству. В борьбе против помещиков и самодержавия — на буржуазно-демократическом этапе революции — пролетариат мог рассчитывать на поддержку всего крестьянства. Отсюда и вытекал лозунг Ленина: вместе со всем крестьянством против помещиков и самодержавия при нейтрализации буржуазии за демократический переворот. При переходе к социалистической революции — в борьбе против капитализма — пролетариат не мог рассчитывать на поддержку всего крестьянства, а лишь на поддержку беднейшего крестьянства, полупролетарских слоев населения; здесь на первое место должен был выступить классовый антагонизм внутри крестьянства. Отсюда и вытекал лозунг Ленина: вместе с беднейшим крестьянством и вообще полупролетарскими слоями населения против буржуазии при нейтрализации мелкой буржуазии, за социалистический переворот.
Классовая борьба в России в революциях 1905 и 1917 гг. подтвердила правильность этого ленинского анализа. В ходе революционной борьбы был на деле осуществлен союз пролетариата с крестьянством, о котором пророчески писал Ленин еще в своей книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Тем самым была практически доказана реальная возможность превращения крестьянства, его эксплуатируемого большинства, из резерва буржуазии, каким оно было в революциях на Западе, в резерв пролетариата, в его союзника.
Следуя примеру русского рабочего класса, пролетариат во всех капиталистических странах ныне успешно ведет борьбу за завоевание трудящегося крестьянства на свою сторону. За последние годы значительно возросло влияние коммунистических партий на крестьян во Франции и Италии. Развитие аграрного кризиса, усиление эксплуатации деревни монополистическим капиталом все нагляднее показывает мелкому и среднему крестьянству, что капитализм несет ему лишь разорение и гибель. Французские коммунисты, по словам М. Тореза, разъясняют крестьянам, что перед ними два пути: «или путь, на который их до сих пор тянет буржуазия... это путь капитализма, путь эксплуатации, путь нужды, неизбежной экспроприации и войны; или путь социализма в союзе с рабочим классом, т. е. земля для тех, кто ее обрабатывает, возвращение земли тем, которые были ее лишены, и, таким образом, как в городе, так и в деревне экспроприация экспроприаторов и мир для всех» [201]. В Италии, где в 1949 г. развернулось широкое движение крестьян и батраков, занимающих пустующие помещичьи земли, рабочий класс оказывает могучую поддержку этому движению, организуя забастовки и манифестации, протестуя против полицейских расправ с крестьянством. Борьба пролетариата за превращение трудящегося крестьянства в резерв социалистической революции увенчалась полной победой в странах народной демократии, использующих богатейший опыт социалистического строительства в СССР.
Общественные прослойки капиталистического общества
Наряду с основными и неосновными классами в обществе могут существовать более или менее многочисленные группы и прослойки людей, которые не занимают самостоятельного положения в производстве материальных благ, а потому и не составляют особого класса.
Своеобразный общественный слой составляет интеллигенция. Она возникла еще в рабовладельческом и феодальном обществах, но большее развитие получила при капитализме. К интеллигенции в современном обществе относятся инженеры, техники и другие представители технического персонала, врачи, адвокаты, артисты, художники, писатели, учителя и работники науки, большая часть служащих — экономисты, статистики, бухгалтеры и т. д. Все это люди, для которых занятие тем или иным видом умственного труда является профессией, т. е. служит основным источником существования.
Интеллигенция никогда не была и не может быть особым классом. Но она не является внеклассовой. Она представляет слой людей умственного труда, служащий тому или иному классу: буржуазная, мелкобуржуазная, пролетарская интеллигенция.
Ввиду того что в капиталистическом обществе доступ к образованию для детей трудящихся крайне затруднен, ряды интеллигенции пополняются по преимуществу выходцами из имущих слоев: из буржуазии, дворян, чиновников, отчасти имущих крестьян и лишь в самой незначительной степени из рабочих.
Не представляя собой самостоятельной силы, интеллигенция в капиталистическом обществе в основной своей массе обслуживает интересы господствующих, эксплуататорских классов. По характеру своей деятельности большая часть интеллигенции тесно связана с имущими классами. Так, например, техническая интеллигенция выполняет не только функции руководства технологическим процессом, но и функции надзора за рабочими. Капиталисту нужны, по выражению Маркса, «промышленные обер-офицеры» (управляющие) и «унтер-офицеры» (мастера), распоряжающиеся во время процесса труда от имени капитала. Другая часть интеллигенции — буржуазные ученые, писатели, учителя, художники, артисты и т. д. — разрабатывает или распространяет господствующую в капиталистическом обществе идеологию, внедряет в сознание масс буржуазную идеологию и мораль, идеологически оправдывает господство буржуазии.
В прошлом интеллигенция, особенно интеллигенция мелкобуржуазная, народническая, нередко пыталась ставить себя над классами. Она объявляла себя «независимой», «внеклассовой» силой, несущей в общество идеалы «высшей справедливости», разума и т. д. На самом же деле интеллигенция служила имущим классам, защищала и отстаивала их грязно-корыстные интересы. Иллюзии «независимости», «неклассовости» интеллигенции были давно развенчаны марксистами, а в революционные годы сама жизнь развеяла эти иллюзии в прах. Достаточно напомнить, каким упорным и злостным сопротивлением часть старой интеллигенции встретила Октябрьскую социалистическую революцию в России, каким долгим и мучительным оказался процесс дифференциации старой интеллигенции, когда ей пришлось выбирать, с кем идти — со своим народом, с рабочими и крестьянами, освобождающимися от эксплуатации, или против народа, с разбитыми революцией помещиками и капиталистами.
При этом отношение различных слоев интеллигенции к пролетарской революции не было одинаковым, что объяснялось разнородностью ее состава в капиталистическом обществе. В среде интеллигенции имелись богатые верхи, тесно связанные по своему жизненному положению с имущими классами и в своем большинстве явно враждебно отнесшиеся к пролетарской революции; имелись средние слои, близкие к мелкой буржуазии и долго занимавшие выжидательную позицию; имелись многочисленные низы (низшие служащие, учителя, фельдшеры и др.), положение которых немногим отличалось от положения наемных рабочих; эта наиболее многочисленная часть старой интеллигенции вскоре после победы революции присоединилась к народу и пошла за Советской властью.
Интеллигенция не способна к самостоятельной политике, ее деятельность определяется тем, каким классам она служит. При капитализме интеллигенция в массе своей обречена на роль служанки капитала. Как бы ни утешала она себя надеждами на то, что будущее принадлежит «технократии» (т. е. власти технической интеллигенции), ее надежды остаются иллюзорными. Иногда проповедники подобных иллюзий ссылаются на то, что капиталисты постепенно теряют организаторские функции в производстве, что эти функции переходят к представителям интеллигенции: техническим, коммерческим и финансовым руководителям предприятий, администраторам, инженерам и т. д. На этом основании матерый изменник социализма австрийский социал-демократ К. Реннер готов даже объявить, что капиталист уже «исчез», что техническая и административно-техническая интеллигенция становится новой силой, которая способна, подобно мажордому, лишить короля трона [202].
Рассуждения Реннера преследуют одну цель — отвлечь массы от атаки на частнокапиталистическую собственность. Что же касается роли интеллигенции при капитализме, то нужно обладать поистине безграничными способностями к жульничеству и наглой софистике, чтобы наемников капитала, выполняющих по приказу собственников функции управления и надзора, объявить господами производства, его действительными руководителями.
В беседе с английским писателем Г. Уэллсом И. В. Сталин показал всю иллюзорность представлений о самостоятельной роли «организаторов» капиталистического производства, технической интеллигенции. «...Капитализм, — говорил товарищ Сталин, — будет уничтожен не «организаторами» производства, не технической интеллигенцией, а рабочим классом, ибо эта прослойка не играет самостоятельной роли. Ведь инженер, организатор производства работает не так, как он хотел бы, а так, как ему прикажут, как велит интерес хозяина» [203]. Товарищ Сталин отметил главное условие, при котором интеллигенция может обрести действительную, а не иллюзорную силу:
«Интеллигенция может быть сильна, только если соединится с рабочим классом. Если она идет против рабочего класса, она превращается в ничто» [204].
Пролетариат, будучи классом эксплуатируемым, лишенным доступа к образованию и культуре, не имеет при капитализме сколько-нибудь благоприятных условий для формирования своей интеллигенции; эта задача решается им в основном после завоевания политической власти. Однако формирование пролетарской интеллигенции начинается еще при капитализме, где в ходе революционной борьбы пролетариата из его среды выдвигается все большее число «революционеров по профессии» (Ленин). На сторону пролетариата переходят также наиболее смелые и революционные люди из среды буржуазной интеллигенции, решившие связать свою судьбу с судьбой рабочего класса. «Как и всякий другой класс современного общества, — отмечал Ленин, — пролетариат не только вырабатывает свою собственную интеллигенцию, но и берет себе также сторонников из числа всех и всяких образованных людей» [205]. Выходцами из среды буржуазной интеллигенции были основоположники научного коммунизма Маркс, Энгельс, Ленин. Складывающаяся при капитализме революционная пролетарская интеллигенция играет чрезвычайно важную роль в выработке социалистической идеологии пролетариата.
В прошлом только единицы и десятки смелых и революционных людей из интеллигенции переходили на сторону рабочего класса. В современную эпоху, когда загнивание капитализма привело общество в тупик и угрожает гибелью всем завоеваниям культуры, когда все явственнее становится духовный маразм буржуазии, широкие слои честных и мыслящих людей из среды интеллигенции переходят на сторону коммунизма. Борьба рабочего класса за мир, за социализм, за народную демократию, против империалистических поджигателей войны, против фашистской империалистической реакции ныне привлекает на свою сторону все более и более широкие слои интеллигенции капиталистических стран. Такие люди, как крупнейший американский писатель Теодор Драйзер, незадолго до своей смерти вступивший в коммунистическую партию, писатель Говард Фаст, певец Поль Робсон, крупнейшие французские физики Поль Ланжевен и Жолио-Кюри, художник Пикассо, английские физики Берналл, Блеккет, немецкие писатели Томас Манн, Келлерман и тысячи других, вступили в ряды борцов против империалистических поджигателей войны и против фашистской реакции. Вместе с тем загнивание капитализма влечет за собою моральную деградацию и разложение значительной части буржуазной интеллигенции, все более откровенно и цинично служащей империализму и содействующей ему в подготовке новых захватнических войн.
Кроме интеллигенции в капиталистическом обществе существуют и другие общественные прослойки. Жесточайшая капиталистическая эксплуатация ведет к разорению народных масс, к росту нищеты и порождает довольно многочисленную прослойку деклассированных элементов, так называемый «люмпен-пролетариат» (нищие, проститутки, воры, жулики и т. д.). Эта прослойка состоит из людей, опустившихся «на дно», потерявших постоянную работу и живущих нищенством, подачками, случайными заработками, воровством и т. п. Как свидетельствует история, этот слой может быть легко подкуплен и использован буржуазией для борьбы против революционного пролетариата. Особенно широко использует для этой цели «люмпен-пролетариев» современная империалистическая реакция: гитлеровцы в своих штурмовых отрядах и отрядах СС, фашистские банды Ку-клукс-клана в США и т. п.
5. Историческая роль пролетариата и его классовая борьба
Пролетариат — единственный последовательно революционный класс
На основе анализа классовой структуры и закономерности развития капиталистического общества Маркс и Энгельс пришли к открытию всемирно-исторической роли рабочего класса как единственного класса, способного низвергнуть капитализм и привести общество к коммунизму.
Маркс и Энгельс показали, что пролетариат, освобождая себя, освобождает всех трудящихся, ибо он уничтожит частную собственность на средства производства и тем самым ликвидирует всякую эксплуатацию. Пролетариат лишен собственности на средства производства, не владеет ничем, кроме своей рабочей силы, и вследствие своего пролетарского положения наиболее революционен. Пролетариям нечего терять в революции, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир, заявили Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии».
Всемирно-историческая революционная роль пролетариата определяется также тем, что он является таким трудящимся классом, который связан с наиболее передовой формой хозяйства — с крупным производством — и ввиду этого растет как класс из года в год. В силу условий своего труда на крупном производстве пролетариат легко поддается организации, он больше, чем какой-либо другой из трудящихся классов, способен к сплоченным, сознательным, организованным действиям. Пролетариат стоит несравненно выше остальных трудящихся по степени своей классовой сознательности.
Согласно учению Маркса и Энгельса пролетариат является единственным последовательно революционным классом капиталистического общества. Остальные трудящиеся, в том числе и крестьяне, бывают при капитализме революционны лишь при известных условиях. Если они революционны, указывали Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», то постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата или поскольку они борются под руководством пролетариата.
Пролетариат ведет борьбу против капитализма не в одиночестве. В противоположность оппортунистам II Интернационала, отрицавшим революционные возможности трудящегося крестьянства, марксизм-ленинизм учит, что пролетариат может и должен вести за собой трудящееся крестьянство в борьбе против капитализма. Продолжая учение Маркса и Энгельса об исторической роли пролетариата, Ленин и Сталин разработали вопрос о гегемонии пролетариата в революционном движении. Они исходили из того неоспоримого факта, что капитал эксплуатирует не только пролетариев, но и миллионы людей из полупролетарских слоев города и деревни, которые поэтому могут и должны стать союзниками пролетариата в борьбе за свое освобождение от капиталистического гнета. Свержение капитала осуществляется не изолированным пролетариатом, а пролетариатом — гегемоном (т. е. руководителем, вождем) революционного движения, ведущим за собой своих союзников — полупролетарские массы города и деревни, в том числе большинство крестьянства. Как единственный до конца революционный класс современного общества, пролетариат призван быть вождем трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за их освобождение. «Пролетариат революционен лишь постольку, поскольку он сознает и проводит в жизнь эту идею гегемонии» [206],— учил Ленин.
Жизнь полностью подтвердила ленинско-сталинскую идею гегемонии пролетариата. В России в силу особенностей ее исторического развития сложился революционнейший в мире рабочий класс. Переплетение в царской России капиталистического гнета с гнетом крепостническим, колониальным, военным, безобразные формы эксплуатации на предприятиях, нестерпимый политический гнет — все это порождало со стороны русского пролетариата особую силу революционного отпора. В России в отличие от Западной Европы каждая серьезная стачка превращалась в громадный политический акт, противопоставлявший рабочих всему существовавшему в стране политическому режиму и закалявший их. Революционной организованности русского пролетариата способствовала также небывалая концентрация промышленности. На крупных предприятиях (с количеством рабочих более 500 человек) в России работало 54% всех рабочих, тогда как в США — 33%. Как указывал товарищ Сталин, уже одно это обстоятельство при наличии такой революционной партии, как партия большевиков, «превращало рабочий класс России в величайшую силу политической жизни страны» [207]. В России, несмотря на меньший сравнительно с главными странами капитализма удельный вес пролетариата в населении страны, сила его была несравненно большей, ибо он представлял собой закаленный в революционных боях класс, во главе которого стояла наиболее революционная и испытанная пролетарская партия — партия большевиков, нанесшая сокрушительное поражение всем оппортунистическим партиям. Под руководством этой партии в ходе трех русских революций — буржуазно-демократической революции 1905 г., буржуазно-демократической революции в феврале 1917 г. и социалистической революции в октябре 1917 г. — пролетариат России закалился как класс, проявил себя классом-руководителем, вождем революционного движения, сумевшим объединить вокруг себя многомиллионные массы трудящегося и эксплуатируемого люда. В этой борьбе вырабатывались славные революционные традиции русского рабочего класса, развивалась и крепла та замечательная черта, которую товарищ Сталин назвал русским революционным размахом.
Формы классовой борьбы пролетариата
По определению основоположников марксизма-ленинизма, классовая борьба пролетариата имеет три формы: экономическую, политическую и идеологическую.
Экономическая борьба пролетариата в условиях капитализма имеет своей задачей главным образом отстаивание профессиональных интересов пролетариата, т. е. повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда и т. д. Это необходимая борьба за повседневные нужды рабочих. Марксисты-ленинцы организуют эту борьбу и не могут отказаться от нее, если они не хотят стать на позиции гибельного для дела пролетариата «сектантства», ведущего к отрыву от масс.
Однако экономическая борьба за повышение заработной платы, уменьшение рабочего дня и т. п. не является для марксистов-ленинцев самоцелью, ибо они знают, что в рамках капитализма нельзя добиться коренного улучшения положения пролетариата. Поэтому нельзя ограничиваться борьбой за улучшение условий продажи рабочими своей рабочей силы капиталистам; необходимо вести борьбу за уничтожение самих экономических отношений, вынуждающих рабочих продавать свою рабочую силу, за освобождение пролетариата от капиталистической эксплуатации. Таким образом, кроме профессиональных интересов пролетарии имеют еще общеклассовые интересы, которые заключаются в уничтожении капитализма и построении социализма.
Осуществить эти коренные, общеклассовые интересы можно только путем революционного свержения политической власти буржуазии и установления диктатуры пролетариата. Этим и определяются задачи политической борьбы. В политической борьбе получают наиболее концентрированное выражение коренные экономические интересы пролетариата. Вот почему главной, определяющей формой классовой борьбы пролетариата является политическая борьба.
Разъясняя коренное различие между марксистским и либеральным понятиями классовой борьбы, Ленин писал:
«Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Известно, что эти глубокие слова Маркса оппортунисты, порабощенные идеями либерализма, понимали превратно и старались истолковать извращенно... «Экономисты» думали, что любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. «Экономисты» признавали поэтому «классовой борьбой» борьбу за пятачок на рубль, не желая видеть более высокой, развитой, общенациональной классовой борьбы за политику...
Далее. Мало того, что классовая борьба становится настоящей, последовательной, развитой, лишь тогда, когда она охватывает область политики. И в политике можно ограничиться мелкими частностями, можно идти глубже, вплоть до основного. Марксизм признает классовую борьбу вполне развитой, «общенациональной» лишь тогда, когда она не только охватывает политику, но и в политике берет самое существенное: устройство государственной власти» [208].
К такой вполне развитой, общенациональной классовой борьбе за установление своей государственной власти пролетариат приходит не сразу. Как показали Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», вначале борьбу против капиталистов ведут рабочие отдельных фабрик, затем рабочие одной отрасли труда в данной местности. На этой ступени развития рабочий класс еще разрознен, он еще не осознал своих коренных классовых интересов и, по выражению Маркса, является классом «в себе». Но историческое развитие с необходимостью ведет к консолидации рабочего класса. Рабочие начинают выступать сообща, создавать свои организации для совместной борьбы против капиталистов. С течением времени борьба рабочих отдельных местностей сливается в общенациональную классовую борьбу: от борьбы против отдельных эксплуататоров пролетарии переходят к борьбе против всего класса капиталистов, против самого капиталистического способа производства и защищающего его государства; пролетариат осознает свои коренные классовые интересы, организуется в политическую партию и становится классом «для себя». Так осуществляется «...организация пролетариев в класс, и тем самым — в политическую партию» [209]. На этой ступени своего развития классовая борьба пролетариата необходимо становится борьбой политической.
Огромное значение для пролетариата имеет также идеологическая борьба. Классовая борьба находит свое отражение в области идеологии в виде столкновения передовых идей революционных классов с реакционными идеями отживающих классов. Революционный класс выступает не только как носитель нового способа производства, но и как носитель новых общественных идей. А так как революция не является стихийным процессом, то в эпоху революционных переворотов особенно ярко выступает великая роль новых общественных идей, призванных организовать и сплотить массы в политическую армию, способную низвергнуть отжившие порядки. Отсюда и вытекает огромное значение социалистической теории и социалистических идей в классовой борьбе пролетариата.
Выработка и распространение социалистических идей в массах пролетариата не может быть результатом стихийной классовой борьбы. Ленин и Сталин со всей силой подчеркивали, что в капиталистическом обществе рабочим усиленно навязывается буржуазная идеология, которая является господствующей идеологией. Эта идеология прививается рабочим через школу, церковь, печать, искусство и т. д. Поэтому необходима сознательная борьба за освобождение рабочих от буржуазных идей и предрассудков, за внесение социалистического сознания в массы пролетариата. Такую борьбу способна успешно вести только политическая партия пролетариата. Коммунистическая партия вносит социалистическое сознание в рабочий класс, помогает ему осознать свои коренные общеклассовые интересы.
Внесение социалистического сознания в рабочее движение, осознание рабочим классом своей исторической роли является необходимым условием превращения стихийной классовой борьбы в борьбу сознательную. Опыт рабочего движения в России под руководством партии Ленина — Сталина показывает, что только сознательная классовая борьба пролетариата, вооруженного идеологией марксизма-ленинизма, способна привести кратчайшим путем к победе над буржуазией, к ниспровержению капитализма и утверждению социализма. С другой стороны, опыт рабочего движения в Англии и США, где пролетариат в течение ряда десятилетий находится под влиянием тред-юнионистской, реформистской идеологии, показывает, что пролетариат, не осознавший своей исторической роли, обречен влачить ярмо капиталистической эксплуатации.
Буржуазия крайне заинтересована в том, чтобы затемнить классовое сознание пролетариата, отравить его своей тлетворной идеологией, подорвать его веру в собственные силы. В наши дни, когда капитализм изжил себя и вступил в эпоху своего крушения, реакционная буржуазия при помощи своих холопов — правых социалистов — вроде Бевина и Эттли в Англии, Блюма и Ги Молле во Франции, Спаака в Бельгии, Реннера в Австрии, Шумахера в Германии, Сарагата в Италии и др., особенно рьяно старается отравить душу рабочего класса ядом сомнения и неверия в собственные силы, яростно клевещет на коммунизм и восхваляет капитализм. В этих условиях борьба революционной партии пролетариата против буржуазной идеологии приобретает исключительное значение.
Социалистическая революция — решающее средство ниспровержения капитализма
Характеризуя формы классовой борьбы пролетариата, основоположники марксизма всесторонне выяснили значение таких средств борьбы, как забастовки, демонстрации, участие в парламентах, вооруженные выступления и т. д. «Классовая борьба пролетариата имеет многообразные формы, — указывал товарищ Сталин. — Классовой борьбой является, например, стачка — всё равно, будет она частичной или всеобщей. Классовой борьбой являются, несомненно, бойкот, саботаж. Классовой борьбой являются также манифестации, демонстрации, участие в представительных учреждениях и пр. — всё равно, будут ли это общие парламенты или местные самоуправления. Всё это различные формы одной и той же классовой борьбы» [210].
Ленин и Сталин учат, что каждая из этих форм нужна пролетариату. Партия пролетариата должна владеть всеми формами классовой борьбы, выдвигая и используя каждую из них сообразно конкретной исторической обстановке. Она должна умело сочетать легальные и нелегальные формы борьбы, парламентские и внепарламентские. Попытки раз и навсегда выпятить какую-либо одну из этих форм, отбросив другие, Ленин и Сталин всегда решительно отвергали как метафизические, односторонние и вредные. Вместе с тем Ленин и Сталин указывали, что стачки, бойкот, участие в парламентах, манифестации, демонстрации являются лишь подготовительными средствами, но ни одна из этих форм борьбы, взятая отдельно, не представляет собой решающего средства, при помощи которого пролетариат сумеет разрушить капитализм.
Так, например, всеобщая стачка представляет могучее средство борьбы пролетариата, но нельзя разрушить капитализм только всеобщей стачкой. Это наглядно подтвердила всеобщая забастовка в Англии в мае 1926 г., в которой участвовало свыше 5 млн. рабочих. Несмотря на громадный размах движения, эта забастовка потерпела неудачу. Ограничив забастовку экономической борьбой, предатели рабочего класса, лейбористы и реакционные лидеры профсоюзов, обрекли ее тем самым на неминуемый провал. «Ибо, как показывает история, общая забастовка, не переведённая на рельсы политической борьбы, неминуемо должна провалиться» [211].
Не является решающим средством свержения капитализма и парламентская борьба. Оппортунисты II Интернационала и их еще более гнусные преемники — нынешние правые социалисты — рассматривают парламентскую борьбу как главную форму борьбы, проповедуют возможность мирного завоевания власти пролетариатом. Ленин и Сталин беспощадно разоблачали такую предательскую политику.
«Ограничивать борьбу классов борьбой внутри парламента, или считать эту последнюю высшей, решающей, подчиняющей себе остальные формы борьбы, значит переходить фактически на сторону буржуазии против пролетариата» [212],— указывал Ленин. Коренные вопросы борьбы классов решаются не голосованием, а всеми формами классовой борьбы, вплоть до вооруженного восстания и гражданской войны. Вот почему коммунисты, не отвергая участия в парламенте, решительно борются против «парламентских иллюзий», против оппортунистических представлений о возможности для пролетариата достичь власти без серьезной борьбы, лишь путем завоевания большинства голосов. С такими оппортунистическими «парламентскими иллюзиями» в своих рядах пришлось вести борьбу и после второй мировой войны французской, итальянской, японской и другим коммунистическим партиям.
Ленин и Сталин учат, что решающим средством, при помощи которого пролетариат может свергнуть капиталистический строй, является социалистическая революция. Пролетариат должен организоваться под руководством коммунистической партии и повести решительную атаку на буржуазию, чтобы до основания разрушить капитализм. А этого нельзя достигнуть без открытых схваток между классами, без вооруженного восстания, которое является самой острой и решающей формой борьбы классов. Не готовясь к вооруженной борьбе, не создавая пролетарской гвардии, немыслимо одержать победу над отжившим строем. Этому учит опыт всех трех русских революций и особенно Великой Октябрьской социалистической революции. Победа Китайской народной революции, возглавляемой рабочим классом и коммунистической партией, еще и еще раз подтверждает, что только вооруженная борьба дает возможность свергнуть отживающий строй, разгромить силы реакции.
Критика реформистских теорий «примирения» классов
В противоположность марксистам-ленинцам, стоящим на позициях непримиримой классовой борьбы пролетариата и пролетарской революции, правые социалисты отстаивают политику «примирения» классов, политику реформ. Оппортунисты выхолащивают и урезывают классовую борьбу, сводят ее к борьбе за реформы, за отдельные «улучшения» существующего порядка или же, как это делают правые социалисты и профбюрократы типа Грина и Мэррея в США, совершенно отказываются от классовой борьбы против буржуазии, перейдя на сторону последней и предавая пролетариат.
Стремление сгладить, примирить антагонизм между классами — характерная черта мелкобуржуазных политиков, реформистских партий и течений, которые не видят или не хотят видеть коренной материальной основы противоположных классовых интересов и считают, что их можно примирить добрыми пожеланиями, уговорами. Идея примирения классов, теория гармонии классовых интересов служит эксплуататорам, призвана затушить революционную освободительную борьбу угнетенных классов.
Предательская политика реформистов нередко обосновывается при помощи так называемой «распределительной» теории классов. Эту теорию усердно проповедовали теоретики II Интернационала — Бернштейн, Каутский и др. Приверженцами распределительной теории классов в России были «легальные марксисты», «экономисты», эсеры и др. Распределительная теория усматривает основу классовых различий в различии источников и размеров их дохода и тем самым смазывает антагонизм классов. Ведь различия в источнике и размерах доходов существуют не только между классами, но и внутри классов. На этом основании некоторые представители распределительной теории выделяют в особые классы чиновников, врачей, деятелей искусства и т. п. Вместо двух основных классов-антагонистов у них получается множество общественных классов.
Коренной порок распределительной теории классов Ленин определял следующими словами: «Искать основного отличительного признака различных классов общества в источнике дохода, значит выдвигать на первое место отношения распределения, которые на самом деле суть результат отношений производства. Ошибку эту давно указал Маркс, назвавший не видящих ее людей вульгарными социалистами. Основной признак различия между классами — их место в общественном производстве, а следовательно, их отношение к средствам производства» [213].
В противоположность реформистам, которые ограничивают сферу классовой борьбы пролетариата борьбой за распределение общественного дохода на почве существующего строя, в пределах капиталистического способа производства, революционные марксисты указывают, что классовая борьба ведется пролетариатом за уничтожение капиталистического способа производства, за коренное преобразование всего общественного строя.
Скатываясь все дальше по пути предательства интересов рабочего класса, правые социалисты ныне окончательно отреклись от марксистской теории классов и классовой борьбы. Предатель рабочего класса Леон Блюм заявлял, что социализм осуществится не в результате классовой борьбы, а в результате «нравственного самоусовершенствования» отдельных индивидов. «Мы должны сделать жизнь лучшей, совершенствуя самих себя», — лицемерно взывал этот мошенник и холуй буржуазии. Он призывал рабочих к христианскому смирению, уговаривал их: не боритесь со своими угнетателями, а совершенствуйтесь духовно! Чтобы оценить всю подлость рассуждений защитника англо-американского империализма Леона Блюма, нужно еще добавить, что он уверял рабочих, будто главным препятствием на пути к социализму является классовое сознание рабочих и их классовая борьба. Это поистине верх цинизма и лакейства перед буржуазией! В соответствии с установками Блюма французские правые социалисты на своем съезде в 1946 г. исключили из программы партии понятие «классовой борьбы» как якобы «несвойственное марксизму».
Из тех же установок исходят и английские лейбористы. Лейбористский теоретик Ласки уговаривал английскую буржуазию и рабочих сотрудничать друг с другом, чтобы избежать революции. Накануне парламентских выборов в Англии в 1945 г. лейбористы называли себя партией «всего народа», а один из их лидеров, Моррисон, утверждал, что только лейбористы могут с успехом защищать интересы всех классов, всех слоев населения. Но кому же ныне не известно, чьи интересы «с успехом» защищают английские лейбористы?! Это интересы монополистического капитала, интересы империалистов, перед которыми они пресмыкаются, а вовсе не интересы народа!
Еще более цинично и нагло предают интересы пролетариата американские правые социалисты и реакционные профсоюзные лидеры. Вожаки Американской федерации труда Грин и др. призывают рабочих повышать производительность труда, уверяя их, будто это приведет к увеличению доли рабочих в национальном продукте, к росту заработной платы и предотвращению кризисов. Лидеры Конгресса производственных профсоюзов Мэррей и др. заявляют, будто в США нет классов, а стало быть, нет классовой борьбы. Реакционные профсоюзные лидеры срывают забастовки американских рабочих, организуют штрейкбрехерство, подрывают единство рабочего класса, раскалывают профсоюзы, чтобы поставить их на службу монополистическому капиталу в его наступлении на рабочий класс и в подготовке новой империалистической войны.
Американские профбюрократы открыто выступают против демократии, против национально-освободительного движения, они поддерживают агрессию американского империализма против Корейской народно-демократической республики, против Китая, против Вьетнама; тем самым они разоблачают себя, как агентуру монополистического капитала, империалистической реакции.
Если в прошлом реформисты, стремясь отвлечь пролетариат от борьбы за завоевание власти, урезывали и ограничивали его классовую борьбу, сводили ее к отвоеванию отдельных уступок у капиталистов, к борьбе за мизерное повышение заработной платы, за незначительные улучшения условий труда и т. д., то ныне правосоциалистические предатели и реакционные лидеры профсоюзов отреклись даже от такой экономической борьбы. Под флагом налаживания «сотрудничества» классов они помогают империалистам переложить все тяготы подготовки новой войны на плечи трудящихся, снизить реальный жизненный уровень рабочего класса и еще более умножить и без того непомерные прибыли капиталистических монополий [214].
Идея «сотрудничества» антагонистических классов всегда служила и служит средством укрепления господства эксплуататоров, оправданием предательства интересов рабочего класса, орудием идейного разоружения и одурачивания масс в интересах буржуазии. Неудивительно, что правые социалисты, продавшиеся душой и телом капиталу, сделали эту идею своим символом веры.
Марксизм-ленинизм противопоставляет реформистским вымыслам суровую правду классовой борьбы, непримиримость интересов противоположных классов. Разоблачая буржуазную теорию «солидарного» общественного прогресса, Ленин указывал на роль классовой борьбы как двигателя истории.
«По учению социализма, т. е. марксизма... — писал Ленин, — действительным двигателем истории является революционная борьба классов... По учению буржуазных философов, двигатель прогресса — солидарность всех элементов общества, сознавших «несовершенство» того или иного учреждения. Первое учение — материалистично, второе — идеалистично. Первое — революционное. Второе — реформистское. Первое обосновывает тактику пролетариата в современных капиталистических странах. Второе — тактику буржуазии» [215].
Лучшим опровержением реформистского учения о «солидарности» классов служит сама действительность. История капиталистических стран показывает, что классовую борьбу нельзя надолго отодвинуть, заглушить, что рано или поздно противоположность классовых интересов неизбежно проявляется и ведет к открытым столкновениям классов.
6. Классы и партии
Классовая сущность политических партий
Во всяком обществе, где имеются противоположные классы, развертывается классовая борьба, которая неизбежно принимает характер политической борьбы. Этой борьбой руководят политические партии. Буржуазные социологи и политики стараются затушевать связь между партиями и классами; они рассматривают партию лишь как идейное объединение, как союз единомышленников, придерживающихся одинаковых политических взглядов, вне всякой зависимости от их классовой принадлежности.
Ревизионисты и в этом вопросе плетутся в хвосте за буржуазными профессорами. Один из теоретиков II Интернационала, Г. Кунов, заявлял, что партия есть не более как «идеологическое образование, представительница особого комплекса политических идей». «В рядах всякой партии, — говорил он далее, — в том числе и социал-демократии, находятся элементы различных классов, с различными классовыми интересами. С точки зрения теории классов, партия отнюдь не есть нечто цельное» [216]. Такое определение партии отрывает партию от ее материальной классовой основы; оно выражает политическое соглашательство партий II Интернационала.
В действительности деление на партии и партийная борьба являются не чем иным, как самым полным и оформленным выражением политической борьбы классов. И это особенно наглядно видно в переломные моменты исторического развития.
«Всего яснее выступает деление всякого общества на политические партии во время глубоких, потрясающих всю страну, кризисов...— указывал Ленин. — Серьезная борьба отметает прочь всякие фразы, все мелкое, наносное; партии напрягают все свои силы, обращаясь к массам народа, и массы, руководимые верным инстинктом, просвещенные опытом открытой борьбы, идут за теми партиями, которые выражают интересы того или иного класса» [217].
Политическая партия всегда выражает интересы того или иного класса. По своему составу она есть часть класса и притом его наиболее активная часть. Однако это вовсе не означает, будто все партии открыто признают себя защитниками интересов того или иного класса. Если революционная партия пролетариата выступает открыто, не имея нужды скрывать, интересы какого класса она защищает, то реакционные буржуазно-помещичьи партии тщательно прячут свое подлинное классовое лицо. Они прикрывают свою корыстную защиту интересов эксплуататоров всякого рода лживыми фразами об интересах «народа», «демократии», «человечества» и т. д.
Маркс отмечал, что чем более обостряются классовые противоречия, тем лицемернее становится буржуазия, и чем более она становится лицемерной, тем возвышеннее становится язык ее идеологов. Так в наши дни корыстные интересы американских империалистов, претендующих на мировое господство, стремящихся к закабалению других народов, прикрываются лживой космополитической фразеологией насчет установления «всемирного гражданства», «объединения» всего человечества. Так враги свободы рядятся в одежды свободы, продажные наемники капитала объявляют себя бескорыстными защитниками труда, предатели национальных интересов именуют себя «национальными» партиями.
Ленин учил трудящихся не давать себя обманывать подобного рода лживыми заверениями, учил вскрывать подлинное классовое лицо буржуазных и мелкобуржуазных партий, проверять партии не по их вывескам, словам, лозунгам и резолюциям, а по их делам.
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, — указывал Ленин, — пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» [218].
Буржуазные и мелкобуржуазные партии
В большинстве капиталистических стран существует многопартийная политическая система. Как правило, число политических партий в этих странах бывает больше, чем число классов.
Так, например, в царской России в IV Государственной думе, избранной в 1912 г., было представлено около десятка различных помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных партий и партийных группировок: правые (монархические помещичьи партии националистов, националистов-прогрессистов и др.), опиравшиеся на черносотенный «Союз русского народа», октябристы (буржуазно-помещичья партия «Союз 17 октября»), кадеты (конституционно-демократическая партия) и прогрессисты, эсеры (социалисты-революционеры), социал-демократы — меньшевики и др. Многочисленность политических партий в царской России объяснялась прежде всего сложностью классовой структуры страны: в России наряду с классами капиталистического общества (буржуазией и пролетариатом) продолжали существовать классы феодально-крепостнического общества — помещики и крестьяне. К тому же некоторые партии являлись выразителями интересов отдельных слоев, групп одного и того же класса. Конечно, расхождение между такими партиями не могло быть глубоким, оно касалось лишь второстепенных вопросов, тогда как в разрешении главных, решающих вопросов они действовали заодно.
Пестрота политических группировок в капиталистическом обществе используется буржуазией для того, чтобы сбить с толку трудящихся, затруднить им ориентировку, прикрыть, затушевать основной классовый антагонизм между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Так происходит, например, во Франции, где частая смена кабинетов министров и правящих партий прикрывает классовую сущность государства — господство класса капиталистов.
В отличие от многопартийной системы, которая характерна для большинства капиталистических стран, в некоторых странах (Англия, США) имела место двухпартийная система. В Англии на протяжении всего XVIII в. и первой половины XIX в. чередовались у власти две политические партии — тори и виги, представлявшие соответственно интересы земельной аристократии и буржуазии. В дальнейшем их наследниками явились партии консерваторов и либералов, а в наше время — консерваторы и лейбористы. В Соединенных Штатах Америки с середины XIX в. сложились две большие партии — демократы и республиканцы. С течением времени и в Англии и в США все больше стирались различия в классовой основе и в программах этих партий. Ленин отмечал, что после гражданской войны 60-х годов XIX в. в США «...разница между той и другой партией становилась все меньше. Борьба этих партий велась преимущественно из-за вопроса о большей или меньшей высоте таможенных пошлин. Никакого серьезного значения для массы народа эта борьба не имела. Народ обманывали, отвлекали от его насущных интересов посредством эффектных и бессодержательных дуэлей двух буржуазных партий» [219].
Основное назначение двухпартийной системы заключается в том, чтобы отвлечь внимание трудящихся от борьбы за их коренные классовые интересы, помешать возникновению самостоятельной рабочей партии. И надо признать, что эта цель на протяжении длительного времени достигалась господствующими классами Англии и США. Однако с ростом политической сознательности масс, с развитием классовой борьбы пролетариата стал неизбежным упадок и крах двухпартийной системы. Об этом, между прочим, ярко свидетельствует создание третьей партии в США. Оно показывает, что значительные слои американского народа глубоко разочаровались в политике обеих правящих партий — и демократов и республиканцев. Эти партии все больше и больше разоблачают себя как партии поджигателей войны, партии империалистической реакции, борющиеся за интересы капиталистических монополий, против демократических прав трудящихся США.
В некоторых капиталистических странах (Германии, Италии, Испании и др.) империалистическая буржуазия пыталась установить однопартийную систему. В этих странах фашисты уничтожали все остатки буржуазной демократии, истребляли инакомыслящих и устанавливали господство одной — фашистской партии, осуществлявшей открытую диктатуру самых реакционных слоев империалистической буржуазии. Но однопартийная система в условиях капитализма не могла и не может быть прочной. Никакими террористическими средствами нельзя надолго заглушить классовую борьбу. Если остаются классы, то остается и классовая борьба, которая в конце концов должна прорваться наружу, появляясь в форме борьбы партий, представляющих противоположные классы.
Пролетарская партия
Как и другие классы капиталистического общества, пролетариат создает свою политическую партию. Учение о партии рабочего класса разработано Лениным и Сталиным.
Марксистская партия представляет собой передовой отряд, авангард пролетариата. Все другие организации пролетариата — его профессиональные союзы, кооперативы, культурно-просветительные объединения и т. п. — служат ему опорными пунктами в классовой борьбе, но не могут разрешить ее коренной задачи — организовать пролетариат для ликвидации капиталистических порядков, для социалистической революции. Только политическая партия способна объединить деятельность всех пролетарских организаций и направить ее в одно русло, превратить пролетариат в сознательный класс, подготовить его к социалистической революции и привести к победе социализма.
Марксистско-ленинская партия способна осуществить эту задачу, потому что она вбирает в себя лучших людей из всех массовых организаций рабочего класса, потому что она обладает наибольшим опытом и закалкой в классовой борьбе, потому что она представляет высшую форму классовой организации пролетариата.
Марксистско-ленинская партия — это руководитель революционной борьбы рабочего класса, его политический вождь. Условия, обстановка классовой борьбы пролетариата крайне сложны. Они не менее, если не более, сложны, чем условия современной войны. И, подобно тому как на войне ни одна армия не может обойтись без опытного штаба, если не хочет обречь себя на поражение, так и в классовой борьбе рабочий класс не может обойтись без своей политической партии. Партия — это штаб пролетариата, осуществляющий руководство всей его борьбой. История классовой борьбы непреложно доказала, что без опытной и умелой революционной партии пролетариат не может одержать победу над своими классовыми врагами, свергнуть их власть и установить свое политическое господство. Тем более не может пролетариат без руководства партии укрепить и удержать завоеванную им государственную власть и добиться осуществления социализма.
Чтобы партия пролетариата была способна осуществить свою роль вождя, руководителя его классовой борьбы, она должна представлять собой передовой, сознательный, организованный отряд пролетариата, спаянный единой волей, сильный своей сплоченностью и железной дисциплиной. Сравнивая класс пролетариев и партию пролетариев, товарищ Сталин указывал, что «партия пролетариев, как боевая группа руководителей, во-первых, должна быть гораздо меньше класса пролетариев по количеству своих членов; во-вторых, должна стоять выше класса пролетариев по своей сознательности и своему опыту; и, в-третьих, должна представлять из себя сплочённую организацию» [220].
На протяжении всей истории марксистской партии в России Ленин и Сталин постоянно вели борьбу против оппортунистов, которые стремились стереть грань между партией и классом, растворить партию в беспартийной массе и тем самым свести на нет, упразднить ее руководящую роль. Вместе с тем Ленин и Сталин подчеркивали, что различие между передовым отрядом и остальной массой рабочего класса не должно превращаться в разрыв. Партия не может руководить классом, если она не связана с беспартийными массами, если она не развивает и не укрепляет связи с массами. Партия есть воплощение связи передового отряда рабочего класса с миллионными массами рабочего класса.
Значение пролетарской партии особенно возросло в эпоху империализма, когда пролетарская революция стала прямой практической необходимостью, когда обострение классовых противоречий вплотную подвело рабочий класс к задаче штурма капитализма. «Партия, — говорит товарищ Сталин, — не могла бы подняться так высоко в своём значении, и она не могла бы покрыть собой все остальные формы организации пролетариата, если бы пролетариат не стоял перед вопросом о власти, если бы условия империализма, неизбежность войн, наличие кризиса не требовали концентрации всех сил пролетариата в одном пункте, сосредоточения всех нитей революционного движения в одном месте для того, чтобы свергнуть буржуазию и завоевать диктатуру пролетариата» [221].
Задачи пролетариата в условиях эпохи империализма потребовали партии нового типа, партии боевой и революционной, способной повести пролетариат на борьбу за власть. Такой партией нового типа явилась большевистская партия, созданная в России Лениным и Сталиным. Она сложилась и выросла в борьбе с оппортунистическими партиями, социал-демократическими партиями старого типа.
Социал-демократические партии на Западе сложились в период более или менее мирного развития капитализма, наступивший вслед за поражением Парижской Коммуны (1871) и продолжавшийся до первой русской революции (1905). Условия относительно «мирного» развития способствовали росту оппортунизма в рабочем движении, распространению оппортунистических иллюзий о возможности «мирного врастания капитализма в социализм», «примирения» классов и т. д. Вербуя себе сторонников среди социалистических парламентариев, многочисленных чиновников рабочего движения и «сочувствующей» интеллигенции, оппортунисты приобретали все больший вес и влияние в западноевропейских социал-демократических партиях.
Социальной основой оппортунизма в рабочем движении явилась неоднородность рабочего класса, наличие в его составе недавних выходцев из мелкой буржуазии и рост рабочей аристократии. Рабочая аристократия — это верхушка пролетариата, его наиболее обеспеченная часть, которую капиталисты ставят в привилегированное положение по отношению ко всей остальной массе рабочих. За счет сверхприбыли, полученной от грабежа колоний и экономически зависимых стран, империалистическая буржуазия имеет возможность выше оплачивать, подкупать и развращать этот слой рабочих, раскалывая тем самым рабочий класс.
Способствуя росту оппортунизма в рабочем движении крупнейших империалистических держав (особенно таких, как Англия, Германия, США и др.), империализм в то же время привел к обострению всех противоречий капитализма. Уже первая русская революция (1905 — 1907) показала, что полоса «мирного» развития закончилась, наступал новый исторический период, период открытых столкновений классов и грандиозных революционных битв. Этот период потребовал от пролетариата перестройки всей партийной работы на новый, революционный лад, подготовки и подтягивания резервов революции, упрочения международных связей пролетариев всех стран, установления прочного союза с освободительным движением колоний и т. д.
Нужно было подвергнуть пересмотру весь арсенал II Интернационала, отбросить прочь его обветшалые теории, его методы и организационные формы, его тактику и выковать новое теоретическое и тактическое оружие. Эта задача была разрешена Лениным и Сталиным путем создания большевистской партии — партии нового типа.
Особенности большевистской партии — партии нового типа
В чем же принципиальное отличие большевистской партии как партии нового типа от старых социал-демократических партий? Западноевропейские социал-демократические партии еще задолго до войны 1914 г. выродились в партии социальных реформ, партии «гражданского мира», возлагавшие свои упования не на революционное ниспровержение, а на мирное, постепенное преобразование капиталистического строя. Именно потому, что социал-демократические партии выродились в оппортунистические партии, партии социальных реформ, они оказались в хвосте рабочего движения. Они плелись за стихийным движением, предавая коренные интересы пролетариата в угоду его минутным интересам, направляя рабочее движение исключительно по линии «выполнимых», «приемлемых» для капитализма требований. Тем самым партии II Интернационала превратились в орудие буржуазной политики, в проводников буржуазного влияния на рабочий класс.
Напротив, большевистская партия — это партия нового типа, партия социальной революции, выросшая в условиях ожесточенных классовых битв и поставившая своей задачей подготовить пролетариат к решительной схватке с буржуазией, организовать победу пролетарской революции и установить диктатуру пролетариата. Организовать победу пролетарской революции способна лишь партия, являющаяся передовым отрядом рабочего класса, идущая впереди своего класса, умеющая поднимать массы до уровня классовых интересов пролетариата, партия, вооруженная революционной теорией, сильная своей сплоченностью и организованностью, умеющая владеть всеми формами и средствами революционной борьбы. Такой партией и явилась большевистская партия.
Западноевропейские социал-демократические партии были партиями блока пролетарских и мелкобуржуазных элементов. Эти партии представляли собой «смесь, мешанину из марксистских и оппортунистических элементов, из друзей и противников революции, из сторонников и противников партийности — с постепенным идейным примирением первых с последними, с постепенным фактическим подчинением первых последним» [222].
В противоположность партиям II Интернационала большевистская партия сложилась как монолитная партия революционного пролетариата. «Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов — в этом один из лозунгов большевистской партии, как партии нового типа, принципиально отличной от социал-демократических партий II Интернационала» [223].
Историей доказано, что нельзя одержать победу над врагом, имея в своем собственном штабе лазутчиков и агентов врага. Поэтому без очищения рядов партии от оппортунистов — лазутчиков и агентов буржуазии — нельзя создать партию пролетарской революции, нельзя разгромить капитализм. Этим и объясняется та забота об идейной и классовой чистоте состава партии, которая всегда отличала большевистскую партию. Еще на II съезде партии, в 1903 г., Ленин, борясь с меньшевиками, говорил: «Наша задача — оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше...» [224]. Эту же мысль отстаивал товарищ Сталин в своей замечательной работе «Класс пролетариев и партия пролетариев», сравнивая большевистскую партию с крепостью, двери которой открываются лишь для достойных.
Западноевропейские социал-демократические партии отнюдь не являлись руководящей силой пролетарского движения. Так как главной формой классовой борьбы оппортунисты считали избирательную борьбу, то партии II Интернационала выродились в простой придаток к собственным парламентским фракциям, в аппарат для парламентской избирательной борьбы.
В противоположность партиям II Интернационала большевики рассматривают партию как высшую форму классовой организации пролетариата, призванную руководить всеми остальными пролетарскими организациями, от профсоюзов до парламентской фракции. Такую партию, ставшую руководящей силой пролетарского движения, строили и построили Ленин и Сталин.
В труднейших условиях царской России, отражая бесчисленные удары царизма и его опричников, борясь против буржуазии и ее предательской агентуры в рабочем движении — «экономистов», меньшевиков, троцкистов, анархистов, эсеров, националистов и пр., — Ленин и Сталин камень за камнем воздвигали фундамент пролетарской партии. Важнейшую роль в строительстве этой партии сыграли исторические работы Ленина «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм», заложившие идеологические, организационные, тактические и теоретические основы партии нового типа. «25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал её, как самую крепкую и самую закалённую в мире рабочую партию» [225],— говорил И. В. Сталин у гроба Ленина.
Политические партии, как и отдельные люди, проверяются в испытаниях, в борьбе. Известна судьба старых социал-демократических партий западноевропейского типа. Предательски изменив рабочему классу в годы первой империалистической войны, они скатывались все ниже и ниже по пути служения буржуазии. После первой мировой войны, когда под влиянием общего кризиса капитализма и победы Великой Октябрьской социалистической революции зашатались устои капитализма во всем мире, социал-демократические партии помогали «своей» буржуазии проводить вооруженную интервенцию против страны Советов, спасали капитализм от пролетарской революции, организовывали кровавую расправу с рабочими. После второй мировой войны, когда общий кризис капитализма еще более углубился, когда авторитет и влияние Советского Союза колоссально выросли, а от системы империализма отпали новые страны, ставшие на путь социализма, правые социалисты еще раз показали себя буржуазными партиями в рядах рабочего класса. Они всеми силами пытаются расколоть единство рабочего класса и спасти капитализм.
Десятки лет оппортунисты убаюкивали и убаюкивают рабочий класс лживыми россказнями о мирном «врастании» капитализма в социализм, о прелестях «хозяйственной демократии» и социального мира. Но ныне трудящиеся капиталистических стран могут наглядно видеть, что есть только один путь к избавлению от ярма эксплуатации — путь, указанный еще много лет назад партией Ленина — Сталина и проверенный на опыте СССР.
Большевистская партия пронесла незапятнанным знамя пролетарского интернационализма. Через годы борьбы, через пролетарскую революцию она привела трудящихся СССР к свободной и счастливой жизни. Под ее руководством воздвигнуто на одной шестой части земли величественное здание победившего социализма, ставшее оплотом и надеждой трудящихся всего мира.
По типу большевистской партии пролетариат во всех капиталистических странах создал коммунистические партии. Коммунистические партии, вооруженные теорией марксизма-ленинизма, ведут пролетариев и трудящихся всех стран по пути, проложенному партией Ленина — Сталина, к свержению капиталистического гнета, к диктатуре пролетариата, к победе бесклассового коммунистического общества.
7. Классовая борьба в странах капитализма на современном этапе
Изменение расстановки классовых сил и обострение классовой борьбы после второй мировой войны
В результате второй мировой войны, приведшей к разгрому германского, итальянского и японского фашизма, значительно изменилась расстановка классовых сил как внутри капиталистических стран, так и на международной арене.
Во время второй мировой войны, которая носила характер войны антифашистской, освободительной, наличие общих противников обусловливало на время возможность совместных действий различных по своей природе классов и государств. В этой войне, как известно, сложилась антифашистская коалиция государств, в которую входили Советский Союз, США, Великобритания и другие государства. Однако это не значит, что цели участников коалиции были тождественными. Напротив, «в лагере союзников уже во время войны существовало различие в определении как целей войны, так и задач послевоенного устройства мира. Советский Союз и демократические страны основными целями войны считали восстановление и укрепление демократических порядков в Европе, ликвидацию фашизма и предотвращение возможности новой агрессии со стороны Германии, создание всестороннего длительного сотрудничества народов Европы. США и в согласии с ними Англия ставили себе в войне другую цель — избавление от конкурентов на рынках (Германия, Япония) и утверждение своего господствующего положения» [226].
Не совпадали в войне и цели противоположных классов внутри капиталистических стран. И во время войны каждый класс таких стран, как США и Англия, действовал сообразно своей природе, своим интересам. В 1942 — 1943 гг. народные массы Англии, заинтересованные в разгроме гитлеризма и скорейшем окончании войны, требовали немедленного открытия второго фронта, тогда как правящие круги, представлявшие интересы монополистического капитала, старались оттянуть открытие второго фронта, затянуть войну, рассчитывая тем самым умножить свои прибыли и ослабить Советский Союз. В расхождении по вопросу о том, как вести войну, отражалось глубокое различие классовых интересов. Оно стало еще более явным с окончанием войны.
Окончание войны повлекло за собой обострение классовых противоречий как внутри капиталистических стран — между пролетариатом и буржуазией, так и на международной арене — между социалистической и капиталистической системами. Имевшие место еще в период второй мировой войны разногласия внутри антигитлеровской коалиции государств углубились и привели к образованию двух противоположных лагерей: лагеря социализма, мира и демократии во главе с СССР и лагеря империализма, реакции и войны во главе с США.
Разгром гитлеровского блока во второй мировой войне и победа демократических сил во главе с Советским Союзом усилили позиции лагеря демократии и социализма. Расчеты империалистических кругов США и Англии на то, что война ослабит Советский Союз и укрепит систему капитализма, оказались тщетными. Война привела не только к усилению страны победившего социализма — СССР, но и к отпадению от системы капитализма ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы, в которых возник народно-демократический строй. Серьезнейший урон понесла система империализма также в Азии в результате исторической победы народно-демократической революции в Китае. Таким образом, в итоге второй мировой войны углубился общий кризис капитализма, резко изменилось соотношение сил между двумя системами — социалистической и капиталистической — в пользу социализма.
Взяв курс на развязывание новой войны и установление своего мирового господства, империалисты США и Англии повели наступление против демократических прав трудящихся. Подготовка к новой империалистической войне сопровождается фашизацией буржуазных государств. Об этом свидетельствуют такие факты, как преследование прогрессивных деятелей и открытый террор против коммунистических партий в США, Японии, Франции, Италии, Австралии, в странах Латинской Америки и др., принятие фашистских антирабочих и антипрофсоюзных законов в США.
Усиленная подготовка войны, гонка вооружений ложится тяжелым бременем на плечи рабочего класса и всего трудящегося населения капиталистических стран. Назревание экономического кризиса еще более ухудшает тяжелое экономическое положение трудящихся. К концу 1949 г. число безработных и полубезработных в капиталистических странах достигло 45 млн. человек. Проведенное в 1949 г. по указке империалистов США обесценение валют в большинстве капиталистических стран значительно снизило реальную заработную плату рабочих, привело к новому ограблению трудящихся в пользу буржуазии.
Все это не может не вести к резкому обострению классовых противоречий в капиталистических странах, не может не вызывать серьезных классовых боев. Грозным для империалистов признаком является мощный рост забастовочного движения. Во Франции в сентябре и октябре 1948 г. развернулась грандиозная забастовка шахтеров, для подавления которой были двинуты войска, занимавшие с боем каждую шахту, каждый рабочий поселок. По приказу министра-«социалиста» Мока полиция и войска расстреливали стачечников и применяли против безоружных рабочих танки, бомбы со слезоточивыми газами и артиллерию. В Англии во время забастовок лондонских докеров в 1948 и 1949 гг. по приказу «социалиста» Эттли были введены в порт войска; предатели-лейбористы применили против рабочего класса закон о чрезвычайных полномочиях правительства, проведенный консерваторами в 1926 г., во время всеобщей забастовки.
В Италии против бастующих рабочих, против батраков и беднейших крестьян реакционное правительство «христианских демократов» де Гаспери и Шельбы посылает войска, вооруженные бронемашинами, артиллерией, автоматическим оружием. Во многих городах и селах Италии пролита кровь рабочих и крестьян, кровь борцов за мир, демократию и социализм.
В цитадели современного капитализма — в США — классовые противоречия и классовая борьба все больше и больше обостряются. В 1946 г. число забастовок достигло почти 5 тыс., в забастовках участвовало 4650 тыс. рабочих — больше, чем в любой другой год в истории США, включая и 1919 г., когда была достигнута высшая точка подъема стачечного движения американских рабочих (4160 тыс.) [227]. При помощи антирабочего закона Тафта — Хартли и судебных репрессий реакционеры пытаются подавить забастовки. В 1948 г. объединенный профсоюз горняков за организацию забастовки был оштрафован на 1 млн. 420 тыс. долларов. Восемь угольных компаний штата Огайо предъявили судебный иск профсоюзу горняков с требованием возместить в двойном размере 11 млн. долларов, которые они, по их словам, потеряли за время забастовки в 1949 г.
Несмотря на судебный террор и фашистские методы подавления, борьба рабочего класса против наступления капитала становится все более организованной, принимая характер решительного контрнаступления. Все более широкие массы трудящихся во всех странах поднимаются на борьбу против капитализма.
Империалисты ищут средство своего спасения, путь к укреплению капитализма в новой мировой войне, в военном разгроме сил демократии и социализма. Поэтому классовая борьба пролетариата и всех трудящихся против капитала приобрела характер борьбы за мир, против поджигателей новой войны.
Борьба пролетариата за прочный мир, за национальную независимость, за демократию, за социализм
В обстановке усиливающейся угрозы новой войны трудящимся необходимо использовать все средства, для того чтобы добиться прочного и длительного мира, организовать и сплотить силы мира против сил войны. Эта задача является в настоящее время центральной задачей коммунистических и рабочих партий, ей подчинена вся их деятельность.
Подготовка англо-американским империализмом новой мировой войны встречает растущий отпор народных масс. Во Франции, в Италии и в других странах рабочие развертывают массовую борьбу против производства и транспортировки военных материалов. Портовые рабочие и железнодорожники отказываются выгружать и перевозить американские военные материалы; рабочие металлургических, машиностроительных и других заводов отказываются выполнять военные заказы. Грандиозный размах приняло движение сторонников мира, охватившее не только рабочий класс, но и широкие народные массы. Впервые в истории человечества возник организованный фронт мира. На Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже и Праге в 1949 г. было представлено 600 млн. организованных борцов за мир. Во всех странах десятки и сотни миллионов людей подписали воззвание стокгольмской сессии постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия.
Борьба пролетариата и возглавляемых им народных масс за мир сливается воедино с борьбой за национальную независимость. Американские империалисты, стремясь осуществить свои планы мирового господства, попирают национальную независимость народов Европы, Азии и других континентов. Захватническая империалистическая политика правящих кругов США прикрывается идеологией космополитизма. Космополитическое отрицание национального суверенитета, проповедь установления «мирового правительства» и «всемирного гражданства» является лишь оборотной стороной, прикрытием, маскировкой воинствующего американского национализма и шовинизма.
Американским империалистам усердно помогают господствующие эксплуататорские классы западноевропейских стран и их агентура в лице правых социалистов. Они делают черное дело, подрывая национальную независимость своих народов и отдавая свои страны под ярмо американского капитала.
Давно известно, что эксплуататорские классы всегда предают свою родину, предают национальные интересы, если интересы нации оказываются в противоречии с их корыстными классовыми стремлениями. Так было, например, во Франции в 1870 г., когда спасти честь Франции, защитить Париж от наступавших пруссаков можно было, вооружив пролетариат. Но буржуазия боялась пролетариата, боялась вооружить социальную революцию. «В этом конфликте между национальным долгом и классовым интересом, — писал Маркс, — правительство национальной обороны не поколебалось ни на мгновение превратиться в правительство национальной измены» [228]. Действительным врагом, против которого оно оборонялось, был, по признанию одного из членов правительства Тьера, «не прусский солдат, а парижский рабочий» [229]. А спустя несколько десятилетий та же картина повторилась, когда магнаты французского капитала, напуганные ростом народного движения, положили свою родину под ноги Гитлеру.
Политика правящих ныне буржуазных правительств является антинациональной, предательской, а сами эти правительства — приказчики агрессивного американского империализма. Опасаясь роста демократического движения, развернувшегося в годы борьбы против германского фашизма и после его разгрома, будучи не в состоянии противостоять один на один собственному народу, буржуазия Франции, Италии, Австрии, Бельгии и других западноевропейских стран отбрасывает национальный суверенитет как ненужную ветошь. Во имя сохранения своих капиталов и капиталистической системы она предпочитает пойти навстречу хищническим поползновениям американского империализма и призывает его себе на помощь в борьбе против своего народа. «...Нас могут защитить только Трумэн и Пентагон» [230],— вопит французский реакционный «писатель» Франсуа Мориак. Мориак выразил мысли и настроения французской реакционной буржуазии.
В таких исторических условиях для пролетариата западноевропейских стран по-новому ставится вопрос о соотношении его классовых задач и задач общенациональных. Пролетариат является ныне единственным классом, способным сплотить вокруг себя все демократические и патриотические силы и взять в свои руки знамя защиты национальной независимости и национального суверенитета. Его борьба за мир, за национальную независимость, за демократию неразрывно связана с борьбой за социализм.
На современном этапе пролетариат выступает как вождь, руководитель общедемократической борьбы против империалистической реакции, угрожающей миру, безопасности и национальной независимости народов. Ввиду этого на коммунистические партии, стоящие во главе демократических сил, ложится задача развернуть борьбу против американского империализма, его союзников и пособников. Коммунистические партии должны взять в свои руки дело защиты национальной независимости и суверенитета своих стран, собирая вокруг себя все демократические и патриотические силы народа.
«В дни войны против фашизма коммунистические партии были авангардом всенародного сопротивления захватчикам; в послевоенный период коммунистические и рабочие партии являются передовыми борцами за жизненные интересы своих народов, против новой войны» [231].
Борьба за единство рабочего класса
Важнейшим условием успеха в этой борьбе является единство рабочего класса. Вторая мировая война наглядно показала значение объединения всех демократических и патриотических сил в борьбе против реакции. В странах, оккупированных фашистскими захватчиками, сложился единый демократический фронт (народный фронт, отечественный фронт), в котором объединялись на общей платформе борьбы против оккупантов все патриотические и демократические силы. Народный фронт был направлен против иностранных захватчиков, а вместе с тем и против реакционных классов и слоев общества (помещиков, монополистической буржуазии и т. д.), изменивших своему народу и сотрудничавших с фашизмом. В народный фронт входили люди, принадлежавшие к разным партиям, представлявшим различные классы и слои общества: пролетариат, крестьянство, городскую мелкую буржуазию, интеллигенцию, часть буржуазии. Ведущей силой народного фронта являлись коммунистические партии — партии пролетариата, возглавившего борьбу против фашизма.
Результатом самоотверженной борьбы коммунистов за интересы народа против фашистских оккупантов явился рост влияния коммунистических партий почти во всех странах Европы, где раньше господствовал фашизм или имела место фашистская оккупация. Как указывал товарищ Сталин, «рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он представляет вполне закономерное явление. Влияние коммунистов выросло потому, что в тяжёлые годы господства фашизма в Европе коммунисты оказались надёжными, смелыми, самоотверженными борцами против фашистского режима, за свободу народов» [232]. Ныне число коммунистов во всем мире превысило 25 млн. человек. Среди зарубежных коммунистических партий имеются такие массовые партии, как итальянская, насчитывающая 2300 тыс. членов, французская, насчитывающая 800 тыс. членов, китайская, число членов которой составляет около 5 млн., и др.
Опыт борьбы народно-освободительного фронта в годы второй мировой войны особенно наглядно показал, что: 1) победа над реакционными силами может быть достигнута лишь путем объединения всех демократических сил во главе с пролетариатом; 2) пролетариат может успешно отстоять свои классовые интересы лишь при том условии, если он действует не изолированно, а выступает как гегемон общедемократической борьбы.
Опыт, приобретенный рабочим классом в годы войны, способствовал установлению единства его рядов. После войны были достигнуты значительные успехи в борьбе за единство рабочего класса, что позволило коммунистическим партиям — последовательным борцам за пролетарское единство — достигнуть в ряде стран (Италии, Франции и других странах капитализма) серьезных побед на пути завоевания большинства рабочего класса.
Значительные успехи достигнуты также в объединении демократических сил не только в национальном, но и в международном масштабе. Об этом свидетельствует деятельность таких международных организаций, как Всемирная федерация профсоюзов, объединяющая около 80 млн. трудящихся, Международная демократическая федерация женщин, насчитывающая 80 млн. членов, Всемирная федерация демократической молодежи, объединяющая 70 млн. молодых рабочих, крестьян, служащих, учащихся и др.
Пытаясь парализовать влияние коммунистов, реакционная буржуазия при помощи своих лакеев — правых социалистов напрягает все усилия для раздробления и дезорганизации пролетарских и общенародных сил. По прямым указаниям американских и английских империалистов правые социалисты пытаются разрушить созданные в послевоенное время единые организации рабочего класса. Так, например, английские лейбористы при поддержке американской профсоюзной бюрократии выдвинули требование о том, чтобы Всемирная федерация профсоюзов прекратила свою деятельность. Однако эта попытка взорвать изнутри Всемирную федерацию профсоюзов получила отпор со стороны подавляющего большинства входящих в нее профсоюзов.
Исторический опыт последних десятилетий доказывает, что империалистической реакции удавалось наносить поражения пролетариату именно там, где он был расколот вследствие предательской политики правых социалистов. Политика раскола рабочего движения занимает одно из первых мест в арсенале средств, применяемых империалистами для развязывания новой войны, подавления сил демократии и социализма, для снижения жизненного уровня трудящихся.
Единство рабочего класса может быть создано только в борьбе против правых социалистов, проводящих буржуазное влияние, раскалывающих рабочее движение, вносящих в него разложение. Лидеры правых социалистов вроде Эттли и Бовина, Ги Молле, Шумахера, Реннера, Сарагата, Спаака и т. д. — это лакеи империализма, которые по части предательства интересов трудящихся оставили далеко позади своих предшественников из лагеря II Интернационала — Каутского и Гильфердинга, Макдональда и Реноделя. Если последние предавали интересы пролетариата в угоду «своей» национальной буржуазии, то нынешние лидеры правых социалистов предают и интересы пролетариата, и общенародные интересы, и национальную независимость своих стран. Они нашли себе хозяев в лице американских империалистов, чью разбойничью политику прикрывают лживыми фразами о «демократии» и «социализме». Правые социалисты выступают ныне как злейшие враги трудящихся, как предатели дела независимости народов и демократии, «не только как агенты буржуазии своих стран, но и как агенты американского империализма, превращая социал-демократические партии европейских стран в американские партии, в прямое орудие империалистической агрессии США» [233]. Особо реакционную роль в рабочем движении играют правые лидеры американских профсоюзов — Грин, Мэррей и др. Это — открытая агентура американских монополий по подавлению рабочего движения в США и по расколу рабочего движения в европейских странах. Вот почему разоблачение правых социалистов, изоляция их от масс является необходимым условием сплочения всех сил рабочего движения в единую, могучую армию, способную дать отпор реакции и низвергнуть капитализм.
Одной из гнуснейших разновидностей империалистической агентуры является троцкистско-фашистская клика Тито — Ранковича в Югославии, жульнически прикрывающаяся флагом социализма. У этой банды англо-американских шпионов и провокаторов с социализмом столько же общего, сколько было у гитлеровцев, называвших себя «национал-социалистами». Не надеясь завоевать власть под своим открытым флагом, буржуазия прибегает к помощи провокаторов и шпионов типа Тито — Ранковича, Трайчо Костова, Райка и т. п. Пролетарская бдительность, беспощадная борьба с этими провокаторами, агентами англо-американских и других буржуазных разведок, — одно из важнейших условий победоносной классовой борьбы пролетариата и его марксистских партий.
Значение революционной бдительности особенно возросло в современных условиях, когда империалистическая реакция избрала в качестве средства осуществления своих агрессивных планов методы фашистского террора. Не довольствуясь полицейским преследованием коммунистических партий и демократических организаций, реакционные круги капиталистических стран, и прежде всего США, прибегают к помощи фашистских убийц и провокаторов, рассчитывая таким путем обезглавить коммунистические партии, подавить демократическое движение. Однако расчеты реакции обречены на провал. Переход правящих империалистических кругов к тактике террора и политических убийств вызывает мощный отпор со стороны народных масс, заинтересованных в сохранении мира и демократических свобод.
8. Пути уничтожения классов
Уничтожение классов и создание бесклассового коммунистического общества — конечная цель партии пролетариата
Уничтожение классов и создание бесклассового коммунистического общества — конечная цель партии пролетариата. Уже первая коммунистическая организация, созданная Марксом и Энгельсом, — «Союз коммунистов» — провозгласила эту цель. «Целью Союза, — говорилось в уставе, принятом в 1847 г., — является: свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов, буржуазного общества и основание нового общества без классов и без частной собственности» [234].
Эта цель была впервые научно обоснована и определена Марксом и Энгельсом. Правда, сознание несправедливости классовых различий появилось задолго до возникновения марксизма. Однако все призывы социалистов-утопистов к уничтожению классового неравенства оставались только мечтой до тех пор, пока развитие общественного производства не создало материальных предпосылок осуществления этой цели. Уничтожение классов, указывал Энгельс, становится осуществимым не благодаря убеждению, что их существование противоречит справедливости, равенству и т. п., не вследствие простого желания отменить эти классы, а лишь вследствие новых экономических условий. «Пока общественный труд дает в совокупности продукцию, едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока труд отнимает все или почти все время громадного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы» [235]. До тех пор общество может развиваться лишь при условии разделения его на громадное эксплуатируемое большинство, занятое исключительно подневольным трудом, и незначительное эксплуататорское меньшинство, освобожденное от прямого производительного труда.
Но если раньше существование классов имело свое историческое оправдание в недостаточном развитии производства, то в дальнейшем ликвидация классов стала настоятельной необходимостью. Развитие производительных сил капиталистического общества, как мы видели, уже создало материальные предпосылки для перехода к более высокому, коммунистическому обществу.
Развитие капитализма привело к превращению буржуазии в паразитический нарост на теле общества. Господство буржуазии мешает полному использованию производительных сил, а ее кровавые истребительные войны угрожают гибелью цивилизации, ведут к разрушению уже созданных человечеством материальных и духовных ценностей. Все это свидетельствует о том, что свержение буржуазии и ликвидация ее как класса стали исторической необходимостью.
Развитие капитализма создало и тот класс, который призван осуществить эту необходимость, — революционный пролетариат. Это единственный класс, который вследствие своего положения в системе общественного производства способен осуществить ликвидацию всех и всяких эксплуататоров, привести трудящихся к уничтожению классов вообще. «Его цель — создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком» [236].
Уничтожение классов путем ожесточенной классовой борьбы пролетариата
Марксизм впервые научно определил пути уничтожения классов и указал, какие задачи необходимо решить, чтобы навсегда покончить с классовой эксплуатацией. Марксизм показал, что для уничтожения классов нужно уничтожить капитализм и создать социалистический способ производства. Так как классовое деление имеет своей предпосылкой частную собственность на средства производства, то уничтожение классов предполагает ликвидацию частной собственности и установление общественной собственности.
«Уничтожить классы, — писал Ленин, — это значит поставить всех граждан в одинаковое отношение к средствам производства всего общества, это значит — все граждане имеют одинаковый доступ к работе на общественных средствах производства, на общественной земле, на общественных фабриках и так далее» [237].
Марксизм-ленинизм учит, что задача уничтожения классов может быть решена лишь путем революционного ниспровержения эксплуататорских классов и установления диктатуры пролетариата.
Враги марксизма не раз выражали «недоумение» по поводу того, как совмещается у Маркса и Энгельса лозунг диктатуры пролетариата, предполагающий установление политического господства одного класса, с требованием уничтожения всякого классового господства. Если пролетариат будет господствующим сословием, рассуждал злейший враг марксизма Бакунин в своей книге «Государственность и анархия», то над кем же он будет господствовать? Значит, останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому государству? «(Это значит, — отвечал Маркс, — что покуда существуют еще другие классы, в особенности класс капиталистический, покуда пролетариат с ним борется (ибо с приходом пролетариата к власти еще не исчезают его враги, не исчезает старый общественный строй), он должен применять меры насилия, стало быть, правительственные меры; если сам он остается еще классом и если еще не исчезли экономические условия, на которых основывается классовая борьба и существование классов, они должны быть насильственно устранены или преобразованы, и процесс их преобразования должен быть насильственно ускорен)» [238].
В отличие от всех предшествующих господствующих классов пролетариат берет в свои руки политическую власть не для того, чтобы навсегда закрепить свое классовое господство, а для того, чтобы уничтожить всякое деление общества на классы и осуществить переход к коммунизму.
Уничтожить классы возможно только путем ожесточенной классовой борьбы пролетариата против всех сил старого мира, упорно сопротивляющихся его господству. Задолго до социалистической революции основоположники марксизма-ленинизма предсказывали, что после захвата пролетариатом власти классовая борьба не прекратится, а, наоборот, станет еще более острой.
Ленин и Сталин не раз подчеркивали, что марксистом является лишь тот, кто доводит признание классовой борьбы до признания диктатуры пролетариата. Развивая эту мысль дальше, Ленин и Сталин указывали, что и диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы в новых формах и новыми средствами. Оппортунистические теории о «затухании» классовой борьбы в эпоху диктатуры пролетариата Ленин и Сталин рассматривают как полный разрыв с марксизмом.
«Уничтожение классов, — учил Ленин, — дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает (как воображают пошляки старого социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее» [239].
Таким образом, единственный путь к уничтожению классов лежит через ожесточенную классовую борьбу пролетариата, через установление диктатуры пролетариата. Это подтверждено опытом победоносной борьбы за социализм в СССР. Это ныне подтверждается опытом классовой борьбы в странах народной демократии. Заговоры, саботаж, вредительство, шпионаж, терpop против представителей рабочего класса — все самые острые средства борьбы пускают в ход представители свергнутых, но еще не добитых там бывших правящих классов.
Опираясь на опыт СССР, коммунистические партии стран народной демократии имеют возможность быстрее разоблачать происки врагов и ускорить строительство социализма.
Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы вооружает коммунистические партии всех стран пониманием исторической неизбежности и закономерности классовой борьбы пролетариата. Она обосновывает революционную пролетарскую политику и беспощадно разоблачает предательскую реформистскую политику «гармонии интересов» пролетариата и буржуазии. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы учит партию пролетариата «не тушить классовую борьбу, а доводить ее до конца» [240].
Глава седьмая. Государство и право
1. Государство как политическая надстройка над экономическим базисом
Вопрос о государстве — это один из важнейших вопросов общественной науки, имеющий первостепенное значение для революционной борьбы пролетариата. Только марксизм-ленинизм дал научное понимание сущности государства вообще, буржуазного государства, в частности, и определил задачи пролетарской революции по отношению к буржуазному государству, доказав необходимость уничтожения, слома буржуазной государственной машины и замены ее пролетарским государством. От решения этих задач зависит экономическое, социальное и политическое освобождение рабочего класса, всех трудящихся.
Капитализм как экономическая и социальная система стал реакционным, давно исчерпал, изжил себя. Но он еще держится, продолжает существовать на значительной части территории земного шара, прежде всего и главным образом благодаря политическому насилию, осуществляемому буржуазией при помощи государства, а также благодаря духовному подавлению пролетариата буржуазией. Именно буржуазное государство является той силой, которая стоит на страже капиталистических порядков. Отстаивая свои экономические интересы или элементарные демократические права — право на забастовку, на демонстрацию, — ведя борьбу с поджигателями войны, рабочий класс, силы демократии и социализма не могут не сталкиваться с концентрированной политической мощью буржуазной реакции, воплощенной в буржуазной государственной машине. Поэтому борьба рабочего класса неизбежно выливается в борьбу за свержение политического господства буржуазии и установление своего политического господства.
Стремление буржуазных идеологов запутать вопрос о сущности государства
Ленин говорил, что немного найдется таких вопросов, которые были бы столь запутаны идеологами эксплуататорских классов, представителями буржуазной философии, социологии, юриспруденции, как вопрос о государстве. Это объясняется тем, что вопрос о сущности, о природе государства затрагивает коренные интересы эксплуататорских классов, а также и интересы угнетенных классов.
Ожидать от представителей буржуазной социологии и юриспруденции раскрытия истинной сущности государства так же нелепо, как ожидать от теологов и служителей церкви раскрытия истинной сущности религии. Классовые интересы, классовое сознание, классовый инстинкт подсказывают представителям буржуазной «науки» и публицистики, что не следует рассеивать мистический туман, которым окутано буржуазное государство в результате многовековой религиозной и иной проповеди эксплуататорских классов.
Буржуазные социологи и юристы изображают буржуазное государство как надклассовое и внеклассовое, стоящее будто бы над обществом. На этой же позиции стоят и правые социалисты, прислужники буржуазии. Так, например, один из наиболее злостных фальсификаторов марксизма, холоп австро-немецкой и американской буржуазии Карл Реннер, в брошюре «Новый мир и социализм» (1945) изображает парламентское буржуазное государство как надклассовое и уверяет, будто рабочий класс благодаря всеобщему избирательному праву превращается из угнетенного класса в класс, «врастающий в государство».
Теоретик английской лейбористской партии, враг рабочего класса и социализма, Г. Ласки в книге «Государство в теории и на практике» так определял государство:
«Под государством я разумею общество такого рода, которое интегрируется в единство с помощью обладания высшей законной насильственной власти над любым индивидуумом или группой, которые суть часть общества... Государство должно ставить своей целью удовлетворение желаний всех его граждан и удовлетворение их в равной мере». Следовательно, для Ласки современное империалистическое государство США или Англии является не органом капиталистических монополий, а властью над этими монополиями, не органом защиты интересов буржуазии и подавления трудящихся, а органом удовлетворения нужд всего народа, в том числе и подвергающихся диким насилиям и жестокостям негров и малайцев.
О действительной сущности капиталистического государства надо судить не по тому, что пишут о нем подобные Реннеру в Ласки лакеи буржуазии, а по той политике, которую ведут эти государства. Лживые и нелепые вымыслы о внеклассовом государстве опровергаются всей политикой буржуазных государств, а в особенности их деятельностью во время классовых столкновений пролетариата с буржуазией, когда все орудия власти государства — полиция, армия, суд — открыто используются для зверского, террористического подавления рабочих.
Определение государства
В действительности государство — это политическая организация экономически господствующего класса, организация, служащая в руках этого класса орудием подавления других классов. Фридрих Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» после тщательного и глубокого анализа условий и причин возникновения государства заключает:
«Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно, по общему правилу, является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. Так, античное государство было, прежде всего, государством рабовладельцев для подавления рабов, феодальное государство — органом дворянства для подавления крепостных крестьян, а современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом» [241].
В этом определении подчеркивается, во-первых, исторический характер государства: оно существовало не всегда, а возникло на определенной ступени исторического развития, когда общество раскололось на непримиримо враждебные классы. В этом определении указывается, во-вторых, что государство — это политическое орудие в руках экономически господствующих классов для подавления и обуздания классов угнетенных. Государство служит не орудием примирения классовых противоположностей, каким его изображают буржуазные социологи и юристы, а орудием подавления одним классом другого. Само возникновение государства служит доказательством непримиримости классовых противоречий. В своей классической работе «Государство и революция» В. И. Ленин, вскрывая классовую сущность государства, указывал: «Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий» [242].
Государство — это политическая надстройка, возвышающаяся над определенным экономическим базисом. Какова классовая природа экономического базиса, такова и классовая сущность государства, или иначе: какой класс господствует в области экономической, тот класс является и политически господствующей силой.
Каждый исторически определенный базис создает, порождает свою политическую и правовую надстройку, свое государство и право. Представляя собою политическую надстройку над экономическим базисом, государство всегда служит интересам господствующего класса. Оно никогда не может стоять на позициях безразличного, одинакового отношения ко всем классам, составляющим антагонистическое общество. Характеризуя роль надстройки, И. В. Сталин указывает:
«Надстройка порождается базисом, но это вовсе не значит, что она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, безразлично относится к судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись на свет,- она становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый базис и старые классы. Иначе и не может быть. Надстройка для того и создаётся базисом, чтобы она служила ему, чтобы она активно помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, отживающего свой век базиса с его старой надстройкой. Стоит только отказаться надстройке от этой её служебной роли, стоит только перейти надстройке от позиции активной защиты своего базиса на позицию безразличного отношения к нему, на позицию одинакового отношения к классам, чтобы она потеряла своё качество и перестала быть надстройкой» [243]. Именно такова роль политической надстройки — государства.
Для всех типов и форм эксплуататорских государств характерно то, что они являются политическим орудием в руках эксплуататорского меньшинства для подавления эксплуатируемого большинства населения, трудящихся. Невозможно себе представить существование общества, основанного на эксплуатации ничтожным меньшинством населения трудящегося большинства населения, без особого органа насилия, подавления, каким служит государство.
Только свержение эксплуататорских классов, осуществляемое социалистической революцией, кладет начало новому государству — диктатуре пролетариата, представляющей государство нового типа, принципиально отличное от всех предшествующих государств. Диктатура пролетариата служит орудием подавления эксплуататорских классов в интересах трудящихся, орудием освобождения трудящихся от всякого угнетения.
Важнейшие признаки государства и орудия его власти
Буржуазные социологи и юристы при рассмотрении государства выдвигают на первый план чисто внешние, несущественные его признаки или даже такие, которые совсем не являются для него чем-то специфическим, например территория, совокупность населения, принудительная власть.
Конечно, государство существует на определенной территории и в определенных территориальных границах. Но не территория сама по себе характеризует государство: территория была и в первобытном обществе, когда государства не было, она будет и при полной победе коммунизма во всем мире, когда государства не будет.
Не является признаком государства и «совокупность населения». Государство возникает лишь там и тогда, где и когда это население расколото на противоположные, антагонистические классы.
Что же касается принудительной власти, то она, по словам Ленина, есть во всяком человеческом общежитии, в том числе и в родовом обществе, и в семье, но государства там не было [244].
Буржуазные социологи и публицисты, выдвигая на первый план внешние, не характерные для государства признаки, стремятся затушевать, оставить в тени то, что действительно характеризует природу государства как особой политической организации. Главный, решающий признак государства состоит в учреждении такой общественной власти, которая в отличие от общественных организаций первобытного общества уже не совпадает непосредственно с вооруженным населением. Важнейшими органами государства являются отделенные от народа вооруженные силы — армия, полиция, жандармерия,— а также тюрьмы, суды, разведка.
«Эта особая публичная власть,— говорит Энгельс, — необходима потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы... Эта публичная власть существует в каждом государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые были неизвестны родовому устройству общества» [245].
Орудия государственной власти сосредоточиваются главным образом в армии, карательных органах, разведке, тюрьмах. Армия — это важнейший инструмент государства. В рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществе она служит для подавления трудящихся внутри страны, а также для захватнических или оборонительных войн. Для подавления трудящихся, кроме армии, каждое государство эксплуататорских классов имеет еще особые, специально подобранные отряды вооруженных людей — полицию и жандармерию. Полиция и жандармерия — это наиболее ненавистные пароду отряды вооруженных палачей, специально предназначенные для расправы с революционными рабочими и крестьянами.
Важнейшую роль в механизме государств, особенно буржуазных, играет разведка. Как и вооруженные силы, органы разведки в государствах эксплуататорских классов также служат прежде всего подавлению трудящихся. В буржуазном государстве органы разведки своим острием направлены против рабочего класса и его организаций: коммунистических партий, профессиональных союзов. Буржуазные государства, стремясь ослабить, разложить пролетарские организации, засылают в них через свою разведку шпионов, провокаторов. Используя слабости людей — тщеславие, трусость, неустойчивость,— пуская в ход шантаж, запугивание в подкуп, разведки буржуазных государств запутывают в свои шпионские сети людей и через них пытаются подорвать пролетарские организации, прежде всего коммунистические партии, стремится пробраться к руководству ими, обезглавить их. История рабочего движения России знает примеры Зубатова, Гапона и других агентов царской охранки. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Раковский, Ягода и другие троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы были разоблачены органами советской разведки как матерые шпионы, диверсанты, агенты иностранных разведок.
В настоящее время разведывательные органы буржуазных государств стремятся засылать и засылают шпионов и диверсантов в СССР и в страны народной демократии. Через органы разведок, через шпионов и диверсантов империалистические государства, в первую очередь США и Англия, стремятся выведать сведения о состоянии армии, вооружения, экономики, науки, организуют диверсии, вредительство, саботаж, провокации, террор и т. д. Разоблачение шпионской клики Тито — Ранковича в Югославии, Райка — Палфи в Венгрии, Трайчо Костова и др. в Болгарии, разоблачение предателей в Албании, Чехословакии, Румынии показало, что, опираясь на свои разведки, империалистические государства стремятся совершить государственный переворот в странах народной Демократии, как до этого они через троцкистско-зиновьевско-бухаринскую банду шпионов стремились произвести государственный переворот в СССР.
Товарищ Сталин на XVIII съезде ВКП(б) предостерег трудящихся от опасной для дела социализма недооценки силы и значения механизма буржуазных государств и их разведывательных органов и указал в связи с этим на необходимость укрепления советской разведки, на необходимость всемерного повышения большевистской бдительности советских людей. Нужно знать и уметь разоблачать коварные приемы врага, имеющего многовековой опыт управления и угнетения.
Итак, армия, полиция, жандармерия, разведка, суд, тюрьмы — вот важнейший и неотъемлемые орудия власти, государства; вместе с армией чиновников и представительными учреждениями эти органы эксплуататорского государства образуют политическую власть, стоящую над народом.
Эта политическая власть, отмечал Энгельс, все более «усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на нашу современную Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили публичную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство» [246].
Ныне в качестве примера громадного роста военно-бюрократического аппарата можно указать на США, где больше, чем в какой-либо другой капиталистической стране, развились милитаризм и чиновничество. Вооруженные силы США поглощают три четверти бюджета страны и ложатся тягчайшим бременем на трудящихся. Больше того: США превратились в арсенал вооружения для всех буржуазных государств Европы и Америки, Азии и Австралии. Опираясь на «план Маршалла» и Северо-атлантический пакт, США заставляют маршаллизированные страны усиленно вооружаться, увеличивать свои военные бюджеты. Никогда еще на народные массы капиталистических стран не обрушивалось такое бремя милитаризма, как в настоящее время. Империалистическое государство США выполняет ныне в капиталистическом мире роль мирового жандарма и палача.
Для содержания антинародной власти, колоссального аппарата подавления и насилия необходимы средства. Источником этих средств являются налоги. Взимание налогов с населения является также одним из признаков государства.
С ростом государственной машины одних налогов становится недостаточно для содержания этого аппарата принуждения. Буржуазные государства выдают векселя на будущее, делают государственные займы. Магнаты финансового капитала используют государственные долги как для ограбления масс, так и для непосредственного подчинения себе всего государственного аппарата.
Обладая государственной властью и правом взыскания налогов с населения, государственные чиновники становятся над обществом.
«Самый жалкий полицейский служитель цивилизованного государства, — писал Энгельс, — имеет больше авторитета, чем все органы родового общества, вместе взятые; но самый могущественный князь и величайший государственный деятель или полководец эпохи цивилизации мог бы позавидовать тому не из-под палки приобретенному и бесспорному уважению, с которым относятся к самому скромному родовому старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как первые вынуждены пытаться представлять собой нечто вне над ним» [247].
В отличие от прежней, догосударственной, родовой организации общества государство характеризуется разделением своих подданных по территориальному признаку: по районам, округам, штатам, волостям, уездам, губерниям и т. п. Людям классового общества это кажется вполне естественным и само собой разумеющимся. Но исторически такое деление означало переворот в общественных отношениях, разложение и гибель первобытных общинных организаций, основанных на общей собственности, на узах родства и общности происхождения. Чтобы могла утвердиться территориальная организация населения вместо родовой, потребовалась, как мы увидим ниже, упорная и длительная борьба.
2. Функции государства
«Две основные функции, — пишет товарищ Сталин,— характеризуют деятельность государства: внутренняя (главная)— держать эксплуатируемое большинство в узде и внешняя (не главная) — расширять территорию своего, господствующего класса за счет территории других государств, или защищать территорию своего государства от нападений со стороны других государств. Так было дело при рабовладельческом строе и феодализме. Так обстоит дело при капитализме» [248].
Внутренняя функция государства
Итак, главная функция государства в рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществе заключается в том, чтобы держать в узде эксплуатируемое большинство заселения. Экономическое подчинение, подавление, эксплуатация трудящихся обеспечиваются, прежде всего, монопольной собственностью господствующего класса на все или решающие средства производства. Но одной экономической зависимости трудящихся недостаточно, чтобы мог осуществляться процесс производства, основанный на эксплуатации. Чтобы заставить раба или крепостного крестьянина трудиться в хозяйстве рабовладельца или крепостника-помещика, необходимо еще и внеэкономическое принуждение, насилие, плеть надсмотрщика, государственная дубинка.
История рабовладельческого и феодального общества заполнена восстаниями рабов и крепостных крестьян против рабовладельцев и помещиков. Государство рабовладельцев и крепостников силой подавляло эти восстания и принуждало к труду на эксплуататоров. Рабовладельческое государство обеспечивало рабовладельцам приток новых рабов. Крепостническое государство прикрепляло крестьян к помещикам (крепостное право). Бежавших от непосильной эксплуатации крепостных крестьян помещичье государство через свои органы вылавливало, возвращало к владельцу-помещику, чинило над ними суд и расправу.
Капиталистическое воспроизводство основано на так называемом «свободном» наемном труде. Рабочий формально свободен от личной зависимости, он «свободно» на рынке труда продает капиталисту свой товар — рабочую силу. Пролетария вынуждает работать на капиталиста не палка, не плеть надсмотрщика, а страх голодной смерти. Но и при капитализме буржуазное государство как орган насилия также является неотъемлемым условием, обеспечивающим процесс капиталистической эксплуатации.
В период первоначального капиталистического накопления сотни тысяч, миллионы крестьян и ремесленников были насильственно лишены средств производства, внезапно вырваны из их обычной жизненной колеи. Эти люди не могли быстро освоиться с новой обстановкой, с капиталистической дисциплиной труда и превращались в нищих и бродяг. Лишь с помощью кровавого законодательства, с помощью репрессий со стороны государства обеспечивалось принуждение наемных рабочих к труду на капиталистических предприятиях. Закон английского короля Генриха VIII от 1530 г. предписывал работоспособных нищих, бродяг заточать в тюрьмы, привязывать к тачке, бичевать до тех пор, пока не заструится по телу кровь, брать клятвенное обещание «приняться за труд».
«Деревенское население,— писал Маркс,— насильственно лишенное земли, изгнанное, в широких размерах превращенное в бродяг, старались, опираясь на эти чудовищно террористические законы, приучить к дисциплине наемного труда плетьми, клеймами, пытками... Нарождающейся буржуазии нужна государственная власть, и она действительно применяет государственную власть, чтобы «регулировать» заработную плату, т. е. принудительно удерживать ее в границах, благоприятствующих выколачиванию прибавочной стоимости, чтобы удлинять рабочий день и таким образом удерживать самого рабочего в нормальной зависимости от капитала» [249].
Лишь с развитием капиталистического производства слепой гнет экономических отношений заставляет подчиняться дисциплине наемного труда, внеэкономическое принуждение к труду заменяется экономическим. Но и при этом буржуазное государство продолжает оставаться на страже как сила, обеспечивающая устои капитализма — частную собственность, эксплуатацию наемных рабочих, господство капиталистов. Буржуазное государство, республиканское или монархическое, всегда и всюду выступает в роли дубинки в руках класса капиталистов, выполняя свою главную функцию — подавление трудящихся.
В эпоху империализма буржуазное государство постоянно прибегает к мерам внеэкономического принуждения, запрещая забастовки и подавляя их силой. Против бастующих рабочих направляются нередко не только полицейские отряды, жандармерия, вооруженные банды наемников, но и регулярные войска, вооруженные пулеметами, танками, броневиками. Так, в Англии в 1949 г. лейбористское правительство послало войска в лондонский порт против бастующих докеров. В 1949 и 1950 гг. в Италии министр внутренних дел Шельба, представитель партии, называющей себя христианско-демократической, расстреливал батраков и крестьянскую бедноту на юге Италии, голодных рабочих в Модене.
Буржуазное государство или открыто запрещает забастовка рабочих, как, например, в США па основе рабовладельческого закона Тафта — Хартли, или же, если формально конституцией, законом забастовки не запрещены, все равно подавляет силой забастовочное движение. Тем самым буржуазное государство разоблачает себя как политическое орудие в руках капиталистов.
Раскрывая основное назначение, главную функцию государств эксплуататорских классов, Энгельс писал:
«Существовавшему и существующему до сих пор обществу, которое движется в классовых противоположностях, было необходимо государство, т. е. организация эксплуататорского класса для поддержания его внешних условий производства, значит, в особенности для насильственного удержания эксплуатируемого класса в определяемых данным способом производства условиях подавления (рабство, крепостничество или феодальная зависимость, наемный труд). Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в видимой корпорации, но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество: в древности оно было государством рабовладельцев - граждан государства, в средние века — феодального дворянства, в наше время — буржуазии» [250].
Свою главную функцию — подавлению трудящихся — государства эксплуататорских классов осуществляли и осуществляют как путем открытого насилия, так и путем духовного, идеологического подавления трудящихся. С этой целью они используют церковь, религию, школу. В современном буржуазном государстве наряду с церковью и школой орудием идейного подавления служит весь сложный, разветвленный аппарат пропаганды: пресса, радио, кино, театр, литература.
Внешняя функция государства
Внутренняя функция государства — подавление угнетенных классов — является главной, решающей: именно потребность эксплуататоров в подавлении трудящихся, эксплуатируемых вызвала к жизни государство. Внутренняя функция государства, прежде всего, и главным образом характеризует его природу, его сущность.
Внешняя функция государства — борьба за расширение территории своего господствующего класса за счет других государств или защита территории своего государства — теснейшим образом связана с его внутренней функцией. Внешняя политика государства всегда являлась и является продолжением его внутренней политики.
Если внутренняя политика государств эксплуататорских классов сводится к обеспечению политических условий для эксплуатации трудящихся, то их внешняя политика направлена, прежде всего, к расширению территории своего государства, к грабежу и порабощению других народов, к расширению арены эксплуатации, к включению в сферу этой эксплуатации вновь покоренных народов, населяющих захваченные территории. Даже тогда, когда рабовладельческое, феодальное или буржуазное государства осуществляют вооруженную защиту данной страны, они защищают богатства и привилегии эксплуататорского меньшинства, защищают условия, обеспечивающие этому меньшинству безраздельное господство над трудящимися своей страны.
На примере двух типов государств — социалистического и буржуазного — видно, как их внешняя функция, внешняя политика, выражает противоположную классовую природу этих государств. Советское социалистическое государство как выразитель интересов народа, трудящихся последовательно осуществляет политику мира. Прочный, длительный демократический мир необходим для строительства коммунизма, для блага всех народов. Советское социалистическое государство возглавляет ныне борьбу народов против поджигателей войны. Вместе с Советским государством борются за прочный, длительный мир и государства стран народной демократии. Наоборот, империалистические государства во главе с США и Англией проводят политику подготовки третьей мировой войны, политику захвата чужих территорий и порабощения народов. Эта агрессивная политика США и Великобритании, в корне противоречащая интересам народов, диктуется интересами капиталистических монополий, интересами буржуазии; она вытекает из природы империализма, из природы и состояния базиса капиталистического общества.
Как мы видим, внешняя функция государств, их внешняя политика, органически связана с внутренней функцией, с внутренней политикой. Если внутренняя политика реакционна и заключается в насилии, порабощении трудящихся, в угнетении национальных меньшинств, в национальной и расовой дискриминации, то и внешняя политика также реакционна, агрессивна, направлена к насилию и порабощению народов, к национальной и расовой дискриминации.
Империалистическая политика США и Великобритании в Европе и в Азии, в Африке и Южной и Центральной Америке — это политика лишения народов их национального суверенитета, политика насилия, порабощения, эксплуатации, насаждения реакционных фашистских или полуфашистских режимов. Реакция, фашизация внутри США и Великобритании находит свое выражение и дополнение во внешней реакционной политике.
Вся история эксплуататорских государств — это не только история борьбы классов, но и история захватнических (и оборонительных) войн. История буржуазного государства — это история зверской колониальной политики, направленной к тому, чтобы превратить всю территорию земного шара в арену хищнической капиталистической эксплуатации. История английского буржуазного государства есть история колониальных, грабительских войн. Территория и население порабощенных Англией колониальных стран во много раз превышают, территорию и население метрополии. История США также является историей захватнических, разбойничьих войн: против туземного населения Америки, против Испании и Мексики. За период 1 1776 по 1900 г. территория США в результате войн увеличилась с 386 тыс. до 4 млн. квадратных километров, т. е. более чем в 10 раз. Ныне вооруженные силы США, их морские и воздушные базы разбросаны на всех континентах, во всех частях земного шара. Американский империализм, империалистическое государство США — это главный враг всех свободолюбивых народов, главный враг социализма, мира и демократии. Империалистическое государство Англии — это младший партнер США по грабежу и удушению других народов. Нападение на Корейскую народно-демократическую республику, агрессия против Китайской народной республики (захват острова Тайвана), агрессия против Вьетнама — все это обнаруживает разбойничью империалистическую сущность государства США и его политики.
Как при осуществлении своей внутренней функции, так и при осуществлении внешней функции государства эксплуататорских классов опираются, прежде всего, на вооруженную силу и на органы разведки. Видное место при выполнении государством его внешней функции занимает также дипломатия. Война и дипломатия — это два метода, два способа деятельности, взаимно переплетающиеся и дополняющие друг друга.
Дипломатические методы защиты территории или расширения территории данного государства опираются всегда на военную и экономическую мощь этого государства. Дипломатический нажим, политический шантаж, экономический бойкот, бряцание оружием, угроза применения силы, «война нервов», «холодная война», игра на противоречиях между государствами — все пускается в ход государствами эксплуататорских классов для достижения своих захватнических целей.
Фальшь буржуазных учений об «общенародных» функциях буржуазного государства
Буржуазные политики и идеологи утверждают, будто капиталистическое государство выполняет такие общенародные и общественно-полезные функции, как забота о народном здравоохранении, о школах, об общественном порядке и безопасности граждан, населяющих данную страну, и т. д. Все это, по их мнению, свидетельствует о том, что государство—это надклассовая, вечная организация, необходимая всему обществу, всем слоям его населения.
Однако эти рассуждения насквозь лживы.
Буржуазное государство занимается вопросами образования, школами вовсе не потому, что озабочено просвещением народа, печется о его культурном росте, а потому, что это диктуется характером капиталистического производства, крупной машинной индустрией. Крупное машинное капиталистическое производство в отличие от феодального, ручного, ремесленного требует обученных, грамотных рабочих, могущих правильно обращаться с машинами [251]. Отсюда и «забота» буржуазного государства об «образовании». Но при этом «народное образование» ограничено определенным минимумом, достаточным лишь для того, чтобы рабочий не ломал машин. Значительная часть населения капиталистических стран, даже тех, где формально существует обязательное обучение, остается неграмотной, так как многие дети рабочих, крестьян, фермеров не могут воспользоваться правом на образование из-за отсутствия обуви, одежды, денег на учебники и прежде всего из-за крайней нужды и необходимости работать с детского возраста.
По данным официального органа американского департамента просвещения «Скул-Лайф», в США за пределами школы находилось в 1949 г. 6 млн. мальчиков и девочек школьного возраста. По признанию министра юстиции США Кларка, в 1948 г. в США было фактически неграмотных более 20 млн. взрослых американцев.
Так называемое «народное образование» в капиталистических странах, как и церковь, радио, пресса, рассчитано не на просвещение, а на духовное подавление трудящихся. Американский профессор Питер Одегард пишет:
«Совершенно очевидно, что в Америке смотрят на образование не как на средство для поощрения в детях стремления к познанию истины, а как на средство для внушения им стереотипных взглядов и предрассудков стоящих у власти господствующих групп. Нам нужны не граждане, а толпа. Мы хотим воспитать не свободных людей, а роботов, слабых, безвольных людишек, цепляющихся за пустые предубеждения прошлого. Мы делаем из своих детей гусят. Мы учим их маршировать гусиным шагом под музыку гимна «Звезды и полосы на веки веков» [252].
Именно в подготовке «роботов», безвольных и послушных квалифицированных наемных рабов, могущих создавать максимальную прибавочную стоимость для класса капиталистов, состоит главное назначение школы в буржуазном государстве. Буржуазное государство превращает школу в одно из орудий подавления народных масс.
Политика буржуазных государств в области здравоохранения также целиком подчинена интересам господствующих эксплуататорских классов. Буржуазное государство через свои органы вынуждено кое-что делать для борьбы с эпидемиями, но не потому, что оно заботится о «народном благе», а потому, что это диктуется классовыми интересами буржуазии, это необходимо для обеспечения хода капиталистического производства. Дальше этого «заботы» о здоровье граждан не идут. В американском еженедельнике «Кольере» в 1949 г. была опубликована статья сенатора от штата Иллинойс Поля Дугласа, который пишет, что «миллионы американцев живут в отвратительных условиях, в грязных, зловонных трущобах». На территории США в районах трущоб имеется свыше 4 млн. квартир.
Медицинская помощь в США почти целиком организуется частными предпринимателями. Государственного социального страхования не существует. Стоимость медицинской помощи, оказываемой частными врачами и больницами, настолько высока, что для подавляющего большинства американского населения обращение к помощи врача — недоступная роскошь. Миллионы людей вынуждены обращаться к знахарям и шарлатанам.
«Организация порядка», о чем так много пишут буржуазные социологи и юристы, в буржуазном обществе сводится к подавлению трудящихся и всемерной защите преступных, антинародных элементов. Капиталистическое государство не только не наказывает, но и охраняет крупных преступников. Поджигателя войны, военные преступники, виновные в кровавых злодеяниях против миролюбивых народов, не только не сидят в тюрьмах и не повешены, а, наоборот, занимают важнейшие государственные посты, руководят политикой буржуазных государств. Даже явные преступники с точки зрения буржуазной законности, присвоившие сотни тысяч и миллионы долларов или франков, не наказываются. Об этом свидетельствует массовое гангстерство, система «рекетирства» в США, где преступники типа Аль Капоне фактически контролируют власть в крупнейших городах. У них на службе находятся полиция, мэры и губернаторы. Они имеют своих представителей не только в законодательных органах штатов, но и в американском конгрессе. В буржуазном обществе наказываются лишь мелкие нарушители частной собственности, вылавливается мелкая рыбешка, а крупные акулы, кладущие себе в карман миллионы, остаются на свободе. В США существует даже пословица: «Миллион долларов не засудишь». Лет десять назад денверский судья Линдсей заявил, что, насколько ему известно, он является единственным судьей в США, которому удалось посадить миллионера в тюрьму — и то всего на один день.
Из сказанного можно заключить, что деятельность государства в эксплуататорском обществе определяется отнюдь не тем, что оно выполняет какие-то «общественно-полезные», «общенародные» функции, а тем, что оно является органом классового господства.
3. Право, его классовая сущность
Право – отражение экономических отношений
Право — это совокупность юридических норм, законов, регулирующих отношения людей. В отличие от норм морали нормы права устанавливаются государством и имеют принудительно-обязательную силу. Право есть выражение определенных экономических, производственных отношений между людьми, прежде всего отношений собственности, которые оно юридически, законодательно закрепляет и освящает. Система правовых норм, существующих в данном классовом обществе, и соответствующих им правовых учреждений является юридической надстройкой над определенным экономическим базисом.
Господствующее в данном обществе право — это воля господствующего класса, возведенная в закон. «...Воля, если она государственная, должна быть выражена, как закон, установленный властью; иначе слово «воля» пустое сотрясение воздуха пустым звуком» [253]. Возведенная в закон воля экономически и политически господствующего эксплуататорского класса (рабовладельцев или крепостников-помещиков, или капиталистов) принудительно, через органы государства — армию, полицию, суды, тюрьмы — навязывается всему обществу, прежде всего трудящимся, против которых и на обуздание которых направлены эти законы.
Право предполагает существование государства. «Право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права» [254], т. е. без государства. И, наоборот, государство при выполнении своих функций опирается на определенные нормы права.
Если на страже соблюдения нравственных норм стоит лишь общественное мнение данного класса, то на страже норм права стоит государство и его органы. Нарушение норм нравственности влечет за собой осуждение общественным мнением данного класса и угрызение совести. Нарушение норм права карается государством. Если господствующие в классовом антагонистическом обществе нормы нравственности служат для господствующего класса средством духовного, морального подавления трудящихся, то нормы права рассчитаны на политическое подавление, обуздание эксплуатируемых классов.
Право, отражая и выражая существующие в данном обществе имущественные отношения, как и государство, призвано охранять, защищать, укреплять их. Но право не только закрепляет существующие в данном обществе экономические, политические и иные общественные отношения, выгодные господствующему классу. Оно способствует также их дальнейшему развитию в интересах господствующего класса.
Иногда право целиком отождествляют с идеологическими отношениями. Но правовые, юридические, отношения не сводятся к идеологическим отношениям, к переживаниям психического порядка, как думают идеалисты, сторонники психологической школы права. Правовые отношения не тождественны с идеологическими отношениями, подобно тому, например, как и политика, будучи сознательным выражением реальных отношений между классами, также не сводится и не может быть целиком сведена к идеологическим отношениям. Право выражает реальные общественные отношения, отношения собственности. Маркс в «Предисловии к «К критике политической экономии»» писал: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались» [255]. Отсюда, конечно, нельзя делать заключение о том, что правовые отношения тождественны с производственными; нет, правовые отношения есть отражение производственных отношений в законах, правовых нормах, в государственных актах.
Право во всех антагонистических обществах выражает и закрепляет отношения господства и подчинения, закрепляет и выражает диктатуру определенного класса, его руководящую роль в обществе. На защите, на страже норм права стоит реальная сила государства со всем его аппаратом принуждения, аппаратом, имеющим# материальные атрибуты.
Буржуазные социологи и правоведы извращают действительное существо и назначение права. Одни из них пытаются представить право как нечто сверхъестественное, дарованное «свыше», подобно заповедям Моисея, продиктованным, по библейской легенде, богом на горе Синае; другие выводят нормы права из свободного, ничем не обусловленного творчества законодателей; третьи видят источник и сущность права в этических или психологических переживаниях, эмоциях; четвертая группа буржуазных социологов и юристов видит источник и сущность права в «природе человека», объявляя исторически определенные, буржуазные формы права естественными, сверхисторическими, вечными и надклассовыми.
По сути дела между взглядами всех этих групп буржуазных социологов и правоведов на право нет принципиальной разницы. Все они извращают, скрывают и затушевывают действительную социальную природу права, его материальные, экономические корни, его классовую сущность. Это превратное, извращенное учение буржуазных социологов и юристов о праве есть результат сознательной фальсификации, преследующей определенную политическую цель: классовые интересы, выраженные в буржуазном праве, представить как всеобщие.
Извращенное представление о праве, ставящее все наголову, навязывается буржуазным социологам, правоведам, юристам классовыми интересами буржуазии, идеологами которой они являются. Классовый интерес определяет их точку зрения на общественные явления. Известную роль в этом превратном изображении сущности права буржуазными социологами и правоведами играет и то обстоятельство, что, например, сама действительность буржуазного общества, его общественные отношения выступают в извращенной, фетишизированной форме. Юристы, правоведы в своей профессии привыкли иметь дело с нормами права как с самостоятельными сущностями, развивающимися будто бы сами из себя, якобы не зависящими от экономических отношений и даже определяющими эти отношения. Классовый интерес буржуазии закрепляет это превратное, извращенное представление буржуазных ученых и юристов оправе.
Законодательные акты выступают как выражение воли государства. Буржуазные социологи и юристы рассматривают волю государства как нечто самостоятельное, как выражение «правовой идеи». В действительности содержание «воли государства», как и характер правовых идей, определяется господствующими экономическими отношениями, классовыми интересами экономически и политически господствующего класса. «...Государственная воля,— пишет Энгельс,— определяется, в общем и целом, изменяющимися потребностями гражданского общества, господством того или другого класса, а в последнем счете — развитием производительных сил и отношений обмена» [256].
Право никогда не может быть выше экономических отношений, которые оно отражает и защищает. Каков способ производства, каковы господствующие производственные отношения в данном обществе, таково и право, правовые взгляды и правовые учреждения этого общества.
Социалистическое общество имеет свое, социалистическое право, в корне противоположное буржуазному праву. Буржуазное право выражает факт экономического и политического господства буржуазии, ее волю, ее интересы. Советское социалистическое право выражает руководящую роль рабочего классу в советском обществе и государстве, интересы и волю всего советского народа.
4. Происхождение государства и права
Любое общественное явление мы можем научно понять лишь тогда, когда рассматриваем его в процессе возникновения, изменения, развития, когда мы знаем, какие именно причины вызвали его к жизни. Чтобы понять сущность государства и права, надо выяснить, как и при каких условиях, в силу каких причин они возникли.
При первобытно-общинном строе еще не было государства. Во главе рода, племени или союза племен стояли избранные всем населением люди, выполнявшие определенные общественные функции: организацию совместных работ, надзор за водоемами, особенно в жарких странах, улаживание межродовых и межплеменных споров, наблюдение за поддержанием обычаев, религиозных обрядов, защиту членов своего рода от иноплеменников и т. д. Никакими особыми средствами принуждения, независимыми от родовой общины, племени, эти органы общественной власти не располагали. Их власть имела, прежде всего, моральную силу.
Лишь с расслоением общества на непримиримо враждебные классы появилось государство. Как происходил процесс распада первобытного общества, как возникла новая общественная надстройка — государство, показал Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» на трех исторических примерах: древних греков, римлян и германцев.
Возникновение Афинского рабовладельческого государства
Греки гомеровского периода еще объединялись по родам, фратриям и племенам, племена объединялись в народности. Их самоуправление выглядело так: существовал постоянный орган общественной власти — совет (bule); первоначально он состоял из родовых старейшин, а с увеличением их числа — из особо избранных представителей народа.
Верховная власть принадлежала народному собранию (agora). Оно собиралось советом для решения всех важных общественных вопросов. Все присутствовавшие на таких собраниях мужчины могли высказывать свое мнение, защищать, возражать. Решения принимались поднятием рук.
Существовал избранный народным собранием или утвержденный Советом военачальник (basileus), предводитель.
Против воли народа ни совет, ни военачальник не могли ничего предпринять, так как у них не было другой силы, кроме вооруженного народа. Каждый взрослый мужчина был вооружен. Таким образом, верховная власть принадлежала вооруженному народу, «военной демократии», как ее именовал Энгельс.
Эта первобытная «военная демократия» с течением времени оказалась подорванной изнутри ростом имущественного неравенства, разделением общества на противоположные классы — богатых и бедных, рабовладельцев и рабов.
Тогда возникла необходимость в учреждении, которое охраняло бы частную собственность, мало ценившуюся в первобытно-общинном строе, объявило бы ее священной, незыблемой основой нового складывавшегося строя. Таким учреждением явилось государство. Оно призвано было защитить привилегии имущих против неимущих сородичей, но прежде всего интересы рабовладельцев против рабов.
Согласно первой конституции, введение которой приписывается Тезею, в Афинах было учреждено центральное управление. Часть дел, находившихся ранее в ведении племен, была передана в ведение заседавшего в Афинах общего совета. Возникло общее афинское право, которое ставилось выше правовых обычаев отдельных родов и племен. Свободный афинский гражданин, не раб, формально получал определенные права и правовую защиту вне зависимости от того, на территории какого племени он жил. Все население, независимо от рода, фратрии и племени, по конституции Тезея, делилось на три класса: эвпатридов, или благородных, геоморов, или земледельцев, и демиургов, или ремесленников. Эвпатридам по этому нововведению было предоставлено исключительное право замещать общественные должности. Семьи эвпатридов, и без того влиятельные вследствие сосредоточенного в их руках богатства, стали еще более могущественными, так как в их руках сосредоточилась государственная власть-Конституция Тезея выявила непримиримое противоречие между остатками родового строя и его учреждениями, с одной стороны, и новым экономическим базисом и складывавшимся ив ого основ» государством, с другой. Население уже делилось не по родам и племенам, а по принадлежности к привилегированным или простым гражданам; последние в свою очередь делились по характеру их деятельности.
Процесс формирования афинского государства занял ряд столетий. Оп происходил на основе развития новых производственных отношений, в обстановке ожесточенной борьбы складывавшихся классов: имущих и неимущих, рабовладельцев и рабов, а также в борьбе владельцев промышленных мастерских и купцов против аристократии внутри самого класса рабовладельцев.
Связываемые с именами Солона и Клисфена конституционные установления и реформы завершили разрушение древнеафинских родовых организаций и оформили образование афинского рабовладельческого государства и его органов. Главная задача этого государства состояла в обуздании рабов, в принуждении их к труду. Рабы совершенно устранялись от участия в государственной жизни. Они были бесправны и приравнивались к средствам производства, к вещам. Государство как орудие подавления опиралось на отделенную от народа вооруженную силу, которая уже не совпадала с народом. Вооруженная сила, как и другие органы власти, формировалась по классовому принципу.
Итак, государство с самого начала своего существования выступило на историческую арену как продукт непримиримости классовых противоречий, как результат борьбы между классами, как орудие подавления эксплуатируемых, как орган, «который принуждал рабов оставаться в рабстве, удерживал одну часть общества в принуждении, угнетении у другой. Принуждать одну преобладающую часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного аппарата принуждения. Пока не было классов — не было и этого аппарата. Когда появились классы, везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого деления появлялся и особый институт — государство» [257].
Своеобразие возникновения государства у римлян, германцев и славян
Процесс возникновения афинского рабовладельческого государства Энгельс называет классическим, так как он происходил на основе внутреннего развития, без воздействия извне в виде завоеваний, покорения одного народа другим.
У других народов в связи с иными историческими условиями развития этот процесс имел некоторые особенности. Так, например, у римлян в ходе развития члены родовых общин превратились в замкнутую родовую аристократию. Из переселенцев, прибывавших в Рим и его область из других мост, а также из населения покоренных, главным образом латинских, округов образовался многочисленный бесправный слой плебеев, стоявший вне старых римских родов, курий и племен. Земельные владения более или менее равномерно были распределены между populus romanus (собственно римлянами, принадлежавшими к основным римским родам и племенам) и плебсом. Торговля и промыслы сосредоточивались преимущественно в руках плебеев. Благодаря большой численности плебса и его военной выучке он стал громадной общественной силой, но бесправной. Борьба между плебсом и родовой аристократией привела в конце концов к распаду родовых учреждений Рима. В ходе этой классовой борьбы и в результате ее возникло римское государство. Это государство, как в Афинах, явилось орудием класса рабовладельцев для подавления рабов.
Своеобразие возникновения государства у отдельных народов связано и с тем, какая именно общественная формация возникает в результате разложения первобытно-общинного строя. Первоначальной, простейшей формой разделения общества на классы является разделение на рабов и рабовладельцев. Большинство народов прошло через эту ступень развития. Но не у всех народов рабство развилось в особую общественно-экономическую формацию.
Так, например, у германских народов процесс разложения первобытно-общинного строя совпал по времени с разложением рабовладельческой Римской империи и античного рабовладельческого общества в целом. Здесь переплетение и слияние двух экономических и социальных процессов — разложения рабовладельческого строя Римской империи, с одной стороны, и разложения общинно-родового уклада у завоевателей, у германских варваров, с другой стороны, — привели к возникновению феодализма и феодального государства. Ход экономического развития германских варварских народов разрушал общинно-родовой быт и родовые учреждения, а война, военные грабежи усиливали этот процесс. В ходе войн львиная доля награбленного доставалась верховным военачальникам, их помощникам и дружинам. Власть верховного военачальника постепенно становилась наследственной. Из выполнителей воли племен и народов эти военачальники стали узурпаторами, повелителями, монархами, королями, политическими выразителями интересов складывавшейся феодальной знати.
Своеобразный и длительный процесс разложения общинного строя у славянских народов также привел к возникновению не рабовладельческого, а феодального строя. Рабство не стало у славян господствующим способом производства. Первые формы государственности в новгородском и киевском княжествах (первая половина IX в.) были ближе к феодальному типу государства.
Процесс образования государства у восточных славян, в древней Руси, подтверждает общую, установленную марксизмом закономерность, что государство возникает как продукт непримиримости классовых противоречий. В VI—VII вв. первобытно-общинный строй у славян уже приходил в упадок, разлагался. На основе развития земледелия, ремесла, торговли шел процесс социальной дифференциации: возникали элементы рабства, преимущественно патриархального, росла экономическая зависимость крестьян-общинников от родовой и племенной рабовладельческо-феодальной знати, сосредоточивавшей в своих руках крупные земельные владения и рабов. Княжеские дружины обогащались за счет военных грабежей и работорговли. Формировалось купечество.
Между формировавшимся классом родовой, племенной рабовладельческо-феодальной знати и обогащавшимися за счет войн, грабежей и работорговли дружинниками князей, с одной стороны, и впадавшими в экономическую зависимость крестьянами-общинниками и городскими низами — с другой, разгоралась классовая борьба. Возникновение нового экономического базиса, основанного на антагонизме классов, и классовая борьба привели к разложению одних и перерождению других первобытно-общинных учреждений, к превращению их в государственные органы, стоящие над народом: князь, его дружина, совет при князе из бояр. Так возникали первые формы дофеодальных государств у восточных славян с центрами в Новгороде, Киеве, Полоцке.
И в Киеве, и в Новгороде, и в других городах древней Руси наряду с властью князя и его совета из военной и землевладельческой знати продолжало еще сохраняться вече как пережиток первобытно-общинного народовластия и строя военной демократии. Но это вече играло все более и более подчиненную роль и стало в конце концов орудием в руках привилегированного меньшинства, знати, возглавлявшейся князем.
Возникновение права
Право, как и государство, является продуктом исторического развития. При первобытно-общинном строе отношения между людьми регулировались традицией, обычаями, передававшимися из поколения в поколение. Обычаи, выросшие из условий материальной жизни общества, определяли, что можно и чего нельзя делать, что хорошо и что плохо, и выражали общие интересы членов общины. Нарушение обычаев было поэтому редким явлением.
Но как только общество раскололось на классы, как только возникли противоположные интересы, обычай не мог уже регулировать поведение всех людей. Понятие хорошего и плохого, полезного и вредного, справедливого и несправедливого стало различным у различных классов.
Первобытное общество не знало, что такое кража, ибо оно не знало частной собственности. Став основой общественной жизни, частная собственность вызвала к жизни и его нарушение. Появилась кража.
Согласно родовым общинным обычаям нельзя было обращать в рабство своих сородичей. Но развитие экономических отношений, экономическая зависимость привели и к этому.
Разделение общества на классы и возникшее государство вызвали к жизни на место обычая право как принудительно-обязательные нормы поведения людей. В рабовладельческом обществе право открыто защищало и освящало господство и привилегии аристократической и денежной знати, принадлежность ей государственных должностей, эксплуатацию рабов и неимущих из среды свободного населения, а также бесправие рабов, т. е. подавляющего большинства народа. Закон о наказании за убийство в Греции и Риме не относился к рабам. Он защищал только рабовладельцев.
Поскольку право, как и государство, своим главным назначением имело защиту частной собственности от тех, кто ее не имеет, самые жестокие законы древности (а также в эпоху феодализма и капитализма) были связаны именно с защитой частной собственности. Таковы законы, приписываемые Дракону в Афинах, таковы законы древнего Рима.
Классовый характер права в рабовладельческом и феодальном обществе выступает более открыто, чем в капиталистическом обществе. Для характеристики классового существа права показателен сборник законов вавилонского царя Хаммурапи (около 2 тыс. лет до н. э.). «Если кто-нибудь повредил глаз у сына мужа, — гласит одна из статей сборника, — то повредят глаз ему [самому]». «Если он сломал кость у сына мужа, то сломают кость ему». Но если поврежден глаз у вольноотпущенника, то виновный должен уплатить мину серебра. Если поврежден глаз у чьего-либо раба, то виновный обязан уплатить владельцу раба половину его стоимости.
Такая же тарификация наказаний в зависимости от классовой принадлежности лиц устанавливалась и «Русской правдой», являющейся ранним выражением феодального права на Руси (XI—XIII вв.). «Русская правда» устанавливала возмещение за убийство «княжьего мужа», боярина —80 гривен; за убийство свободного человека — 40 гривен, а за убийство холопа и смерда — лишь 5 гривен. Многие статьи «Русской правды» посвящены вопросам розыска и возвращения беглых холопов их владельцу. Позднейший свод права — «Правосудие митрополичье» (XIII в.) не признает душегубством и преступлением убийство «пленного челядина» и возлагает на убийцу ответственность лишь перед богом.
5. Типы и формы государств
Типы государств различаются по их классовому содержанию, в соответствии с экономическим базисом, на котором возвышается государство в качестве политической надстройки. Исторически сменявшие друг друга типы государств — рабовладельческое, феодальное, буржуазное — отражали и выражали господство исторически сменявших друг друга эксплуататорских классов — рабовладельцев, феодалов, капиталистов. Государством нового типа является диктатура пролетариата.
Но в рамках каждого из типов государств имели и имеют место различные формы правления. Если тип государства зависит от исторически определенного способа производства, от того, какой класс стоит у власти, то формы, правления зависят от конкретно-исторических условий развития данной страны, от сложившегося соотношения классовых сил, а также от внешней обстановки.
Представители буржуазной социологии и юриспруденции, чтобы запутать вопрос о государстве, пытаются подменить вопрос о классовой сущности государства вопросом о его формах. Однако в действительности главным, решающим является вопрос о сущности государства.
Рабовладельческое государство
Формы правления в рабовладельческом обществе в разных странах и даже в одной стране в разное время были различны, но тип государства был один — рабовладельческий.
«Во времена рабовладельческие,— пишет Ленин, — в странах наиболее передовых, культурных и цивилизованных по-тогдашнему, например, в древней Греции и Риме, которые целиком покоились на рабстве, мы имеем уже разнообразные формы государства. Тогда уже возникает различие между монархией и республикой, между аристократией и демократией. Монархия — как власть одного, республика — как отсутствие какой-либо невыборной власти; аристократия — как власть небольшого сравнительно меньшинства, демократия — как власть народа (демократия буквально в переводе с греческого и значит: власть народа). Все эти различия возникли в эпоху рабства. Несмотря на эти различия, государство времен рабовладельческой эпохи было государством рабовладельческим, все равно — была ли это монархия или республика аристократическая или демократическая». (В.И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 442).
Борьба партий в античном мире — сторонников аристократии и демократии в Афинах, республиканцев и сторонников Цезаризма в Риме — была борьбой фракций внутри класса рабовладельцев. Демократы и аристократы, республиканцы и монархисты в древней Греции и Риме одинаково не признавали рабов за людей и видели в государстве силу для подавления рабов.
Феодальное государство
Гибель рабовладельческого способа производства привела к возникновению феодального способа производства и к смене рабовладельческого государства феодальным, крепостническим.
Формы крепостнических государств также были различны — главным образом монархические, отчасти республиканские (в торговых городах), но сущность их была одна: во всех странах феодально-крепостнического общества государство служило орудием внеэкономического принуждения крестьян к труду на помещика, орудием закрепощения и подавления крестьян и ремесленников.
Феодальное общество на первых ступенях своего развития характеризуется крайней раздробленностью хозяйственной жизни, отсутствием прочных экономических связей. Феодальное государство как политическая надстройка неизбежно отражает эту экономическую раздробленность и характеризуется политическим партикуляризмом, слабостью центральной королевской власти. Каждый крупный помещик-феодал не только эксплуатировал крестьян, но и творил суд и расправу над ними, был маленьким царьком. Он имел свои вооруженные отряды, своих палачей, экзекуторов. Крепостник-помещик «в любой момент мог бросить крестьянина в башню, где его тогда ждали пытки с тою же неизбежностью, как теперь ждет арестованного судебный следователь. Он бил его до смерти и, если хотел, мог приказать обезглавить его... И кто мог бы оказать крестьянину защиту? В судах сидели бароны, попы, патриции или юристы, которые хорошо знали, за что они получают деньги. Ибо все официальные сословия империи жили за счет эксплуатации крестьян». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 125—126).
Одной из характерных черт феодального общества и феодального государства является иерархия, сложная лестница подчинения. На вершине иерархической лестницы стоит глава государства — король (или великий князь, а затем царь на Руси), ниже — его вассалы: герцоги, удельные князья, бояре, бароны, графы и т. д. Внутри этой иерархической лестницы были свои сюзерены и вассалы. Являясь сюзереном по отношению к нижестоящим, данный феодал являлся вассалом по отношению к вышестоящему. Король, великий князь или царь — это первый среди равных феодалов, верховный сюзерен.
Одно из основных отношений феодального общества — пожалование сюзереном земли в лен своим вассалам и уплата дани — служило источником ссор, столкновений, бесконечных междоусобиц и войн, заполнивших собой все средневековье. Феодалы нуждались в короле для подавления крестьян, для защиты от внешних врагов и для защиты друг от друга, но все вместе они находились по отношению к королевской власти как его вассалы в состоянии почти непрерывного бунта. В этом заключена причина того, что в течение столетий в феодальном обществе действовали одновременно силы притяжения феодалов к королевской власти и силы отталкивания, причина непрерывной борьбы между королевской властью и вассалами. «Во всей этой всеобщей путанице королевская власть (das Konigtum) была прогрессивным элементом, — это совершенно очевидно. Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 445).
Феодальное право, обычное и писаное, закрепляло и освящало феодальные отношения. Имущественное классовое неравенство феодального общества закреплялось как неравенство сословий. Феодальное право открыто защищало привилегии первых двух сословий — дворянства и духовенства — и обрекало на бесправие третье сословие — народ и даже нарождавшуюся буржуазию, также входившую в третье сословие. Классовый характер феодального государства и права обнаруживался в том, что дворянство и духовенство освобождались от всяких налогов и повинностей. Зато на третье сословие возлагались всевозможные повинности, опутывавшие крепостного крестьянина и ремесленника.
По мере развития в недрах феодального общества торговли, ремесла, городов возникла потребность в преодолении феодальной раздробленности и в усилении королевской власти. В некоторых европейских странах раньше, в других позже, начиная с XIV в. возникает сначала сословно-представительная форма монархической феодальной власти, а затем абсолютная феодальная монархия. Усиливаясь, центральная монархическая власть опирается то на буржуазию против феодалов, то на феодалов против растущей буржуазии. Феодальная аристократия постепенно превращается в придворную знать абсолютного монарха. Государственный аппарат вырастает до колоссальных размеров. Своими щупальцами он пытался охватить все и вся. «Централизованная государственная машина, которая с ее вездесущими и сложными военными, бюрократическими, церковными и судебными органами, — пишет Маркс, — опутывает (своими петлями), как удав, живое гражданское общество, была впервые создана в эпоху абсолютной монархии как оружие нарождавшегося нового общества в его борьбе за освобождение от феодализма. Сеньориальные привилегии средневековых землевладельцев, городов и духовенства были превращены в атрибуты единой государственной власти, которая заменила феодальных сановников оплачиваемыми государственными чиновниками, передала оружие из рук средневековой челяди помещиков и корпораций горожан в руки постоянной армии, создала вместо пестрой анархии соперничающих средневековых властей упорядоченный план государственной власти, с систематическим и иерархическим разделением труда». («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. III (VIII), 1934, стр. 319—321).
Централизованная политическая власть — абсолютная монархия — в противовес феодальной раздробленности на известном этапе исторического развития была явлением прогрессивным. Товарищ Сталин в приветствии, посвященном 800-летию г. Москвы, писал: «Ни одна страна в мире не может рассчитывать на сохранение своей, независимости, на серьезный хозяйственный и культурный рост, если она не сумела освободиться от феодальной раздробленности и от княжеских неурядиц. Только страна, объединенная в единое централизованное государство, может рассчитывать на возможность серьезного культурно-хозяйственного роста, на возможность утверждения своей независимости. Историческая заслуга Москвы состоит в том, что она была и остается основой и инициатором создания централизованного государства на Руси». («Правда», 7 сентября 1947 г.).
Это положение о роли централизованной власти в период феодализма относится не только к России, но и к другим странам.
Феодальная абсолютная монархия, выступая в роли орудия борьбы против феодальной раздробленности, не переставала оставаться защитницей феодалов, их землевладения и привилегий, хотя и несколько урезанных. Как только экономическое могущество и политическое влияние буржуазии стало угрожать господству феодалов, королевская власть в Англии и во Франции в XVII и XVIII вв. выступила в защиту дворянства против буржуазии.
Буржуазное государство
С развитием капиталистических производственных отношений буржуазия стала экономически господствующим классом, а это неизбежно должно было привести ее к политическому господству. Она достигла этого или в ходе более или менее решительных буржуазных революций (в Англии в XVII в., во Франции в XVIII в.), или же путем политического компромисса с приходившим в упадок дворянством (Германия в 1848—1870 гг.).
В ходе борьбы за завоевание власти буржуазия в XVII— XVIII вв. выступала против феодально-сословных привилегий, за буржуазные свободы, за «равенство» всех перед законом. Свои классовые интересы буржуазия выдавала за всенародные, за национальные. Эта иллюзия имела своим основанием то, что не только буржуазия, но и все эксплуатируемые народные массы были заинтересованы в устранении отжившего феодального абсолютизма и феодального права.
В результате победы буржуазных революций политическое господство дворянства сменяется более или менее полным поэтическим господством буржуазии. На смену феодальному государству приходит буржуазное государство. Однако буржуазия не ломает созданную дворянством государственную машину, а лишь совершенствует, приспосабливает ее к своим потребностям, к задачам упрочения и расширения базиса капиталистического общества.
Буржуазное государство во всех своих формах — от демократической республики до парламентской монархии или фашистской диктатуры — является организацией для подавления буржуазией пролетариата, - диктатурой буржуазии. Подобно тому как феодальное государство являлось политической надстройкой над феодальным экономическим базисом, буржуазное государство было и остается политической надстройкой над капиталистическим экономическим базисом. Буржуазное государство и буржуазные конституции призваны закреплять и защищать устои капитализма: частную собственность на орудия и средства производства, эксплуатацию пролетариата, господство буржуазии. Какие бы буржуазные или мелкобуржуазные партии ни сменялись у власти — республиканцы или демократы, консерваторы или лейбористы, христианские демократы или правые социалисты, фашисты или социал-демократы,— при всякой смене политическое руководство буржуазным обществом (диктатура) сохраняется неизменно за буржуазией. Это обеспечивается господствующими экономическими отношениями, а также буржуазными конституциями, устанавливающими ограничение прав трудящихся (имущественный ценз, ценз оседлости, возрастной ценз, лишение избирательного права женщин в ряде капиталистических стран, избирательный налог, образовательный ценз и т. д.) и практически устраняющими от решающего участия в политической жизни. Господство буржуазии, всевластие капитала обеспечивается специально подобранным государственным аппаратом, подкупом, средствами пропаганды, обманом и насилием.
Все буржуазные государства являются орудием насилия эксплуататоров над эксплуатируемыми и вместе с тем орудием угнетения буржуазией господствующей нации угнетенных наций. Все буржуазные конституции открыто или молчаливо исходят из неравноправия наций и рас, отражают и закрепляют это неравноправие.
Ограниченность и формальный характер буржуазной демократии
По сравнению с феодальными порядками, со средневековьем буржуазная демократия представляла в свое время значительный шаг вперед в общественном развитии.
«Буржуазная республика, парламент, всеобщее избирательное право — все это с точки зрения всемирного развития общества, — говорил Ленин, — представляет громадный прогресс. Человечество шло к капитализму, и только капитализм, благодаря городской культуре, дал возможность угнетенному классу пролетариев осознать себя и создать то всемирное рабочее движение, те миллионы рабочих, организованных по всему миру в партии, те социалистические (а ныне коммунистические. — Ф. К.) партии, которые сознательно руководят борьбой масс. Без парламентаризма, без выборности это развитие рабочего класса было бы невозможно». (В. И. Ленин, Соч., т.. 29, изд. 4, стр. 449).
Идеологи буржуазии, в том числе правые социалисты, изображают буржуазную демократию как «чистую», «надклассовую» и «общенациональную» власть. При этом они ссылаются на записанные в буржуазных конституциях демократические свободы: свободу слова, печати, собраний и т. п., на равенство всех перед законом. Но какое может быть равенство между рабочим и капиталистом, между бедным и богатым, между сытым и голодным?! Ленин и Сталин разоблачили фальшь буржуазной демократии. Они показали, что буржуазная демократия есть демократия лишь для богатых, что разговоры о равенстве при капитализме, когда колоссальные богатства монополизированы буржуазией, а рабочий класс обречен на голод и нужду, на непосильный труд, на безработицу, — это ложь и обман. «Демократия для ничтожного меньшинства, демократия для богатых, вот каков демократизм капиталистического общества», — писал Ленин. (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 432). В обществе, разделенном на антагонистические классы, нет и не может быть равенства. Отмечая лицемерие буржуазной демократии и буржуазного «равенства», французский писатель Анатоль Франс саркастически заметил, что закон в своем величии одинаково запрещает как бедным, так и богатым ночевать под мостом и воровать хлеб.
Буржуазные свободы и права носят чисто формальный, фальшивый и лицемерный характер. Свобода собраний даже в самых демократических буржуазных республиках остается на деле пустой фразой, ибо все помещения для собраний принадлежат буржуазии, пролетариат не имеет своих зданий, не имеет досуга и поэтому он практически лишен возможности использовать это свое право, даже если оно и записано в буржуазных конституциях.
Чего стоят фразы буржуазных писак о свободе собраний в капиталистических странах, можно судить хотя бы по тому, что в США выдающийся певец и прогрессивный общественный деятель Поль Робсон часто бывает лишен возможности давать концерты рабочим, так как буржуазия отказывается сдавать помещения под концерты с его участием. Погромные действия фашистских головорезов, ку-клукс-клановцев в США, де-голлевцев во Франции и тому подобного сброда в других странах лишают рабочих возможности свободно собираться и обсуждать политические вопросы. За посещение коммунистических собраний и собраний, организуемых прогрессивной партией, за пропаганду и агитацию в пользу мира, за запрещение атом кого оружия рабочие, служащие, ученые, артисты в США зачисляются в списки неблагонадежных, лишаются работы и высылаются из страны. Ленин писал: «Пока дела стоят таким образом, «равенство», т. е. «чистая демократия», есть обман. Чтобы завоевать настоящее равенство, чтобы осуществить на деле демократию для трудящихся, надо сначала отнять у эксплуататоров все общественные и роскошные частные здания, надо сначала дать досуг трудящимся, надо, чтобы охраняли свободу их собраний вооруженные рабочие, а не дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми солдатами». (В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 438).
«Свобода печати» в условиях капитализма также есть обман. На деле «свобода печати» означает свободу для буржуазии отравлять сознание рабочего класса, ибо типографии, склады бумаги, информационные агентства находятся в монопольной собственности буржуазии.
Печать в буржуазном обществе — это одна из отраслей капиталистической индустрии, индустрии по идейному подавлению трудящихся. «Пресса Соединенных Штатов, — пишет Ф. Ландберг, автор книги «60 семейств Америки», — снизу доверху скупается и оплачивается богатыми семействами и является по существу их собственностью. Подлинных властителей американской прессы следует искать среди семейств мультимиллионеров». (Ф. Ландберг, 60 семейств Америки, Государственное издательство иностранной литературы, М. 1948, стр. 299). Морганы, Рокфеллеры, Ламонты, Говарды, Херсты — вот кто являются хозяевами прессы в США. В других капиталистических странах пресса также находится на полном откупе у буржуазии. Небольшое число газет коммунистических партий — это единственный голос подлинной правды в океане крикливой, насквозь лживой и продажной буржуазной печати.
Всеобщее, равное и прямое избирательное право, которым хвастаются идеологи буржуазии, на деле во всех странах капитализма является одним из средств господства буржуазии над пролетариатом. Нет и не может быть при капитализме действительного участия трудящихся масс в управлении страной, государством.
«...При самих демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства». (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 115).
На избирательные кампании магнаты капитала затрачивает колоссальные средства, миллионы долларов. Весь мощный аппарат буржуазной печати, радио, кино приводится в действие, чтобы сбить с толку избирателя, оглушить его, дезориентировать. Обман и подкуп, шантаж и запугивание избирателей, открытое насилие, террор против трудящихся, против негров в США — все пускается в ход, чтобы обеспечить победу 6уржуазным кандидатам в президенты или в парламенты. Магнаты капитала США субсидируют выборные кампании обеих буржуазных партий — демократов и республиканцев одновременно. Победа или поражение одной из этих партий не меняет положения вещей: капиталистические монополии выигрывают и в том и в другом случае, делают ли они ставку на осла (эмблема демократической партии США) или на слона (эмблема республиканцев).
Эксплуататорский классовый характер буржуазной демократии выражается и во внутренней и внешней политике правительств, и в составе представительных учреждений — парламентов, конгрессов. Например, в конгрессе США в 1948 г. среди 435 членов палаты представителей было: 230 адвокатов, 50 купцов, 23 фермера, 11 банкиров и 1 рабочий. Среди 96 сенаторов было: 60 адвокатов, 9 фермеров и 1 банкир. Эти адвокаты не только находятся в службе у капиталистических монополий, но многие из них сами являются капиталистами.
В индустриальной стране — США, где рабочий класс составляет большинство населения страны, он на протяжении десятилетий не был совсем представлен в конгрессе, а в 1948 г. представлен всего лишь одним депутатом. Крупные же капиталисты, составляющие ничтожную часть населения США, представлены и непосредственно и через своих адвокатов, и им принадлежит полное господство в конгрессе. Американский профессор Джемс Брис говорит:
«В американском сенате заседает очень много богатых людей; одни из них попали в сенат потому, что они богаты, другие стали богаты потому, что попали в сенат».
Буржуазия проводит своих избранников в парламенты, конгрессы путем подкупа и насилия, путем фактического устранения десятков миллионов трудящегося населения от участия в выборах. В США, например, в 1948 г. из 93 941 тыс. лиц избирательного возраста в выборах участвовало лишь 48 680 тыс., человек, т. е. около 52% от общего числа избирателей. Устранение населения от участия в выборах достигается в США установлением имущественного ценза, ценза оседлости, грамотности, введением специального избирательного налога, а также открытым террором, насилием против революционных рабочих, против негров, против лиц, оппозиционно настроенных к буржуазным партиям демократов и республиканцев. В 1942 г., во время выборов в Конгресс США, в 26 штатах из 48 участвовало в выборах только от 30 до 50%, в 14 штатах — от 2 до 28% избирателей. Так выглядит на деле всеобщее и равное избирательное право буржуазной демократии во всех без исключения капиталистических странах.
«Опыт парламентаризма во Франции и Америке,— пишет товарищ Сталин, — с очевидностью показал, что демократическая по внешности власть, рождающаяся в результате всеобщего избирательного права, на деле оказывается весьма далёкой и чуждой подлинному демократизму коалицией с финансовым капиталом. Во Франции, в этой стране буржуазного демократизма, депутатов избирает весь народ, а министров поставляет Лионский банк. В Америке выборы всеобщие, а у власти оказываются ставленники миллиардера Рокфеллера». (И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 36).
Как американская буржуазия понимает демократию и свободное волеизъявление народа во время выборов, это она особенно наглядно продемонстрировала на примере «организации» выборов в послевоенной Греции, в Южной Корее, в Японии, а также на примере избирательной кампании в Италии. Во время парламентских выборов в Италии в 1948 г. правительство США ввело в итальянские порты свои военные корабли. Над «суверенной» Италией летали американские военные самолеты. Американская пресса и радио, католические попы и монахи твердили итальянским избирателям, что если они отдадут свои голоса коммунистам или партии социалистов, возглавляемой Ненни, то на Италию будут сброшены американские атомные бомбы, в Италию не будет доставляться хлеб, американские войска и флот выступят против Италии. Римский папа и все его черное воинство угрожали избирателям отлучением от церкви, если они будут голосовать за коммунистов, со всех амвонов католических церквей коммунистов предавали анафеме. Несмотря на это, партия коммунистов получила такое количество голосов, что ее фракция является одной из самых многочисленных в итальянском парламенте. И все же она устранена от участия в правительстве, а абсолютно лишенная влияния в рабочем классе предательская реформистская группа Сарагата вошла в состав итальянского правительства.
Во Франции коммунистическая партия во время парламентских выборов в 1946 г. получила относительное большинство голосов, фракции коммунистов стала самой многочисленной в парламенте. По всем правилам она имеет преимущественное право на формирование правительства. Но на деле она, по указке Уолл-стрита и 200 семейств — магнатов капитала Франции, устранена из правительства. Французское буржуазное правительство, французская буржуазия открыто, нагло, цинично попирают волю большинства французского рабочего класса. Такова буржуазная демократия на деле. «Нигде власть капитала, власть кучки миллиардеров над всем обществом не проявляется так грубо, с таким открытым подкупом, как в Америке. Капитал, раз он существует, господствует над всем обществом, и никакая демократическая республика, никакое избирательное право сущности дела не меняют». (В. И Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 449).
Буржуазные парламенты являются говорильней, а действительные крупные политические вопросы решаются вне парламента: монополисты, банкиры, биржевики на своих тайных совещаниях решают вопросы о составе правительств, назначают и смещают министров, определяют внешнюю и внутреннюю политику правительства, принятие тех или иных законов.
«Сила капитала — все, биржа — все, а парламент, выборы — это марионетки, куклы...», — писал Ленин. (Там же, стр. 450).
Однако это не значит, будто рабочий класс может относиться безразлично к форме буржуазного государства. Рабочему классу не все равно, осуществляет ли буржуазия свою диктатуру в форме демократии или открытой, террористической, фашистской диктатуры. Буржуазно-демократическая парламентская республика используется рабочим классом для организации своих сил, для революционной борьбы за социалистическую демократию, за диктатуру пролетариата. Буржуазный парламент и выборы в него используются рабочим классом и его партией прежде всего как трибуна, как средство пропаганды и мобилизации масс для внепарламентской открытой революционной классовой борьбы.
Империалистическое государство
Эпоха империализма знаменует собой обострение всех противоречий капиталистического общества, его загнивание и поворот буржуазии от демократии к реакции. Изменения в области экономической (господство монополий) не могли не привести к изменениям в области политической.
«Политической надстройкой над новой экономикой, над монополистическим капитализмом (империализм есть монополистический капитализм) является поворот от демократии к политической реакции. Свободной конкуренции соответствует демократия. Монополии соответствует политическая реакция... И во внешней политике, и во внутренней одинаково, империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть «отрицание» демократии вообще, всей демократии...». (В. И. Ленин, Соч., т. 23, изд. 4, стр. 31).
Эти строки написаны Лениным в 1916 г.
Весь последующий ход экономического и политического развития буржуазного общества за три с лишним десятилетия полностью подтвердил научный анализ и прогноз Ленина. За это время процесс сращивания капиталистических монополий и буржуазного государства еще более усилился, монополистический капитализм во все возрастающей мере превращается в государственно-монополистический капитализм. Государственный аппарат уже не только в завуалированной, косвенной форме, а целиком и непосредственно подчинен капиталистическим монополиям. На важнейшие государственные посты, на должности министров капиталистическими монополиями все чаще выдвигаются буржуазные дельцы, банкиры, магнаты промышленности, генералы и адмиралы.
После второй мировой войны пост министра обороны в США занимал до 1948 г. Форрестол, бывший председатель крупной банкирской фирмы «Диллон Рид энд компани». Форрестол сошел с ума, был снят с поста министра. На смену ему пришел Джонсон — директор авиастроительной фирмы «Консолидейтед-Валти эйркрафт корпорейшн» и главного дочернего предприятия германского химического концерна «И. Г. Фарбенинду-стри» в США — «Дженерал анилойн энд филм корпорейшн». Э&меститель военного министра Уильям Дрейпер — банкир. Министр авиации Ст. Саймингтон — бывший председатель фирмы по производству радио- и электроаппаратуры. Министр финансов Дж. Снайдер — банкир. Государственный секретарь (министр иностранных дел) Ачесон — один из владельцев адвокатской фирмы, находящейся на службе у Моргана, Рокфеллера и Дюпона. Важнейшие посты в госдепартаменте (министерстве иностранных дел) США занимают банкиры, магнаты промышленности, генералы и адмиралы. В 1948 г. на важнейших постах в правительстве США сидело 17 генералов. Важнейшие дипломатические посты занимают военные. Бывший посол США в СССР Беделл Смит — генерал; назначенный вместо него в 1949 г. Кэрк — адмирал, ранее работал начальником управления военно-морской разведки.
Подобная этому картина сращивания государственного аппарата и финансового капитала, а также милитаризации государственного аппарата наблюдается и в других капиталистических странах. Буржуазный государственный аппарат разрастается до колоссальных размеров, высасывая из трудового народа жизненные соки. Усиление буржуазного аппарата — это прежде всего рост армии и флота, разведки и шпионажа, чиновничества, полиции и жандармерии, т, е. органов подавления и насилия. Военный бюджет США в 1950 г. в 20 раз превосходит военный бюджет 1939 г. Такой же процесс милитаризации, бешеной гонки вооружений происходит и в других капиталистических странах, подписавших агрессивный Североатлантический пакт.
Ленин писал в 1917 г.: «В особенности же империализм, эпоха банкового капитала, эпоха гигантских капиталистических монополий, эпоха перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, показывает необыкновенное усиление «государственной машины», неслыханный рост ее чиновничьего и военного аппарата в связи с усилением репрессий против пролетариата, как в монархических, так и в самых свободных, республиканских странах». (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 382).
В связи с углублением классовых противоречий и в связи с подготовкой и развязыванием империалистических войн буржуазия отказывается даже от ограниченной, фальшивой, урезанной буржуазной демократии и переходит к фашизму. Фашистская диктатура — это террористическая диктатура наиболее реакционных, шовинистических, милитаристских групп империалистической буржуазии, подавление всяких демократических свобод.
Не случайно фашизм появляется в эпоху общего кризиса капитализма, когда капиталистическая система потрясена до самого основания, когда буржуазия уже не в силах удержать свое господство при помощи методов буржуазной демократии.
Переход от буржуазной демократии к открытой террористической диктатуре — к фашизму есть выражение слабости, неустойчивости и гнилости капитализма, показатель неспособности буржуазии управлять старыми методами. В условиях обострения классовых противоречий буржуазия обнажает свое звериное лицо, отбрасывает демократические покровы своей диктатуры, уничтожает элементарные демократические права и переходит к открытому террору, к расправам над рабочим классом, над его партией, над прогрессивными деятелями.
Переход буржуазии к фашистской диктатуре происходит прежде всего в тех капиталистических странах, где наиболее остры и глубоки классовые противоречия, и где империалистическая буржуазия стремится путем террора и путем империалистических войн разрешить эти противоречия. Так было в 1922 г. в Италии, в 1933 г. в Германии, а затем и в ряде других капиталистических стран.
Усиливающаяся ныне фашизация буржуазного государства в США и в Англии связана прежде всего с подготовкой монополистическим капиталом этих стран к третьей мировой войне, к войне против СССР и стран народной демократии. Чем больше продажная капиталистическая печать США и Англии (а также Франции и Италии) кричит о защите демократии, о борьбе против «тоталитаризма», тем больше на деле эти страны скатываются к фашизму, превращаются в полицейские государства.
В Соединенных Штатах Америки все более усиливается разгул реакции, поход против рабочего класса и коммунистической партии. Из государственного аппарата удалены все прогрессивно мыслящие деятели. Террористические военизированные банды ку-клукс-клановцев и им подобных разгоняют собрания трудящихся, подавляют силой забастовки рабочих, громят помещения компартии, травят честных, прогрессивно мыслящих людей, не оболваненных реакционной прессой. Подобно тому, как это было в гитлеровской Германии, в США установлен режим национального гнета и террора в отношении негров и всех не исконных американцев, в стране процветает антисемитизм, идеология национальной и расовой исключительности. Буржуазно-демократическое государство США ускоренным темпом превращается в террористическую фашистскую диктатуру с «демократическим» фасадом.
Правящие круги США и Англии стоят ныне во главе мировой империалистической реакции и во всех капиталистических странах насаждают реакционнейшие фашистские и полуфашистские режимы, ставя своей целью задушить революционное рабочее движение и национально-освободительную борьбу угнетенных народов.
Победа фашизма не является неизбежностью. Исторический опыт свидетельствует, что буржуазии удается уничтожить элементарные демократические права и установить фашистскую диктатуру лишь там, где рабочий класс расколот, где часть рабочих идет за предателями рабочего класса — правыми социалистами. Если рабочий класс сплочен, организован, он в состоянии своей революционной борьбой предотвратить установление буржуазией фашистской диктатуры.
Важнейшая задача рабочего класса и его марксистских партий в капиталистических странах состоит в мобилизации сил на революционную борьбу против империалистической реакции, против фашизма. На пути рабочего класса в его борьбе против империалистического государства, против фашизма, стоят правые социалисты.
Правые социалисты, раскалывая рабочий класс, ослабляют его силы и тем самым прокладывают дорогу фашизму, являются проводниками фашизма и фашистской реакции. Именно поэтому правые социалисты на деле являются социал-фашистами. Правые социалисты и фашисты родственны друг другу и по своим идеологическим, теоретическим взглядам, и те и другие рассматривают буржуазное государство как надклассовое. И те и другие отрицают непримиримость противоречий между пролетариатом и буржуазией, проповедуют классовый мир между ними. Фашисты и правые социалисты одинаково враждебны марксизму и социализму. Для обмана масс фашисты и правые социалисты не прочь прикрыться маской «социализма», называют себя защитниками трудящихся. На деле же и те и другие — слуги и защитники буржуазии, финансового капитала.
Правые социалисты, когда они приходят к власти, подобно фашистам прибегают к вооруженным расправам над революционными рабочими. Об этом свидетельствуют расстрелы рабочих «социалистическими» министрами во Франции, в Англии, в Финляндии и других странах. В то же время правые социалисты фарисейски внушают рабочим, будто рабочие могут мирно овладеть буржуазным государством, использовать его для своих целей.
Было время, когда правые социалисты на словах признавали марксистское учение о государстве, фальсифицируя и опошляя это учение на деле, выбрасывая из него главное: необходимость слома буржуазной государственной машины и установления диктатуры пролетариата. В настоящее время правые социалисты полностью и открыто порвали с учением марксизма вообще, с учением марксизма о государстве в особенности. Они цинично объявляют учение Маркса и Энгельса о государстве, о диктатуре пролетариата устаревшим, проповедуют самые реакционные буржуазные пошлости о надкласcoвом характере государства, призывают рабочий класс не к слому, не к уничтожению буржуазной государственной машины, а к «мирному» «овладению» ею при помощи всеобщего избирательного права.
Однако рабочий класс все больше и больше распознает внутреннюю неразрывную связь между экономическим гнетом и сущностью буржуазного государства как органа буржуазии, направленного на подавление трудящихся. Исторический опыт революционной борьбы рабочего класса во всех странах полностью разоблачил лживость учений правых социалистов о государстве. Вековой опыт борьбы рабочего класса учит, что, не уничтожив буржуазную государственную машину, нельзя уничтожить капитализм и проложить дорогу социализму.
Итак, различные типы и формы государства и права представляют собой надстройку над тем или иным исторически определенным экономическим базисом. Государство и право — явления исторические, они существуют не вечно.
Современное государство во всех капиталистических странах, независимо от различия его формы, представляет собой диктатуру буржуазии.
Главная задача рабочего класса капиталистических стран состоит в том, чтобы уничтожить буржуазное государство я заменить его своим государством—диктатурой пролетариата.
Великие учители рабочего класса Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин научно доказали, что пролетариат не может буржуазную государственную машину использовать для своих целей. Буржуазная государственная машина приспособлена для угнетения рабочего класса, трудящихся. Она в корне враждебна рабочему, классу. Он должен ее сломать, разрушить и создать свою собственную, пролетарскую государственную машину, опираясь на которую он может подавить буржуазию, уничтожить капитализм и построить социализм. Этому учит победоносный опыт борьбы рабочего класса СССР и стран народной демократии.
Глава восьмая. Марксистско-ленинская теория революции
Марксизм-ленинизм обосновал историческую необходимость революционного освобождения рабочего класса и всех трудящихся от всякой эксплуатации, неизбежность пролетарской социалистической революции для уничтожения капитализма, для социалистического переустройства общества.
Основы теории революции заложили Маркс и Энгельс. В учении Ленина и Сталина теория социалистической революции обогатилась новыми великими плодотворными идеями. Ленин и Сталин создали новую, законченную теорию социалистической революции.
1. Социальная революция — закон перехода от одной общественно-экономической формации к другой
Причины социальной революции
История человеческого общества свидетельствует о том, что смена одних общественных формации другими совершалась путем революционных переворотов. Это — закон исторического развития.
Глубочайшей экономической основой и причиной социальной революции является конфликт между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями. Этот конфликт не может быть преодолен в пределах данной общественной формации; он может быть разрешен лишь путем революционной замены отживших производственных отношений новыми производственными отношениями.
В предисловии Маркса к его знаменитой книге «К критике политической экономии» сказано: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридически выражением этого – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции». (К. Маркс и Ф Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 322).
Главный вопрос всякой революции
Всякая социальная революция в обществах, основанных на антагонизме классов, есть насильственная революция. «Насилие, - говорит Маркс, - является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». (К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 754). Насилие есть оружие, посредством которого прокладывает себе путь прогрессивное общественное движение, ломая сопротивление реакционных классов. Неизбежность революционного насилия вытекает из того, что господствующие эксплуататорские классы заинтересованы в сохранении отживших производственных отношений и оказывают противодействие их замене новыми производственными отношениями. Товарищ Сталин пишет:
«До известного периода развитие производительных сил и изменения в области производственных отношений протекают стихийно, независимо от воли людей. Но это только до известного момента, до момента, пока возникшие и развивающиеся производительные силы успеют, как следует, созреть. После того, как новые производительные силы созрели, существующие производственные отношения и их носители - господствующие классы, превращаются в ту «непреодолимую» преграду, которую можно снять с дороги лишь путём сознательной деятельности новых классов, путём насильственных действий этих классов, путём революции». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 561).
Противоречие, конфликт между новыми производительными силами и тормозящими их развитие отжившими производственными отношениями выражается, таким образом, в борьбе между классами. Главным элементом производительных сил являются производители материальных благ – трудящиеся массы, а носителями отживших производственных отношений являются господствующие эксплуататорские классы. Конфликт между производительными силами и производственными отношениями приводит к возмущению трудящихся масс против господствующего эксплуататорского класса, к революционным действиям трудящихся, к насильственному свержению политического и экономического господства реакционного класса, отстаивающего старые, отжившие производственные отношения.
Господствующие эксплуататорские классы, оказывая противодействие новому способу производства, пользуются принадлежащей им государственной властью. Поэтому революционные действия передовых общественных классов, представляющих новый способ производства, направляются прежде всего на свержение политического господства отживающих классов, на завоевание политической власти. Борьба за обладание государственной властью выдвигается на передний план, делая неизбежным вооруженное столкновение борющихся сторон, порождая с необходимостью революционные восстания против реакционных классов с целью снятия их с власти. Вопрос о государственной власти есть, по определению Ленина, основной вопрос всякой революции.
В отличие от реформ, представляющих частичные уступки, на которые идут господствующие классы в интересах сохранения своего господства, социальная революция означает переход власти от одного класса к другому. Смена одного общественного строя другим не может быть осуществлена путем реформ, а происходит, как правило, путем революции, предполагающей самую острую борьбу классов, борьбу не на жизнь, а на смерть.
Враги марксизма, идеологи либеральной буржуазии неоднократно пытались доказать, что революции представляют собой какое-то уклонение от «нормального» пути развития общества, что общество развивается якобы чисто эволюционным путем. Революцию они рассматривали как своего рода «болезнь», как «воспаление общественного организма». К такому воззрению всецело скатились и теоретики II Интернационала. Теоретический столп социал-ренегатства Каутский ограничивал поле действия социальной революции лишь переходом от феодализма к капитализму. Ожесточенные классовые битвы древнего Востока и античной Европы он отказывался рассматривать как социальные революции и презрительно именовал «мятежами». Каутский стремился «доказать», что революция была только однажды в истории — при переходе от феодализма к капитализму, что она не является всеобщим законом. Это измышление понадобилось Каутскому и другим реформистам для того, чтобы доказать, будто замена капитализма социализмом совершится путем «хозяйственной демократии», без социальной революции и без диктатуры пролетариата. Ненависть к рабочей революции, буржуазный страх перед ней толкали Каутского и всех оппортунистов на измену марксизму.
В противоположность всякого рода буржуазно-либеральным реформистским воззрениям основоположники марксизма-ленинизма доказали, что социальные революции представляют собой не уклонение, а необходимый, закономерный путь развития классового общества. Революции — это локомотивы истории, указывал Маркс. В революционные эпохи к сознательному историческому творчеству поднимаются миллионные массы трудящихся, которые в «обычное» время придавлены, отстранены от участия в политической жизни. Именно вследствие участия масс революции означают громадное ускорение всего хода исторического развития. Разоблачая буржуазно-либеральный взгляд на периоды революций как на периоды «безумия», «исчезновения мысли и разума», Ленин писал:
«Когда народные массы сами, со всей своей девственной примитивностью, простой, грубоватой решительностью, начинают творить историю, воплощать в жизнь прямо и немедленно «принципы и теории», — тогда буржуа чувствует страх и вопит, что «разум отступает на задний план» (не наоборот ли, о герои мещанства? не выступает ли в истории именно в такие моменты разум масс, а не разум отдельных личностей? не становится ли именно тогда массовый разум живой, действенной, а не кабинетной силой?» (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 446). Именно революционные периоды, указывал Ленин, отличаются большей широтой и большим богатством событий, большей сознательностью масс, большей смелостью и яркостью исторического творчества по сравнению с периодами мещанского, реформистского «прогресса». Массовая народная революция, подымающая угнетенные классы на борьбу против классов — угнетателей, не может не быть революцией творческой, ибо она разрушает старое и творит новое.
Характер и движущие силы революции
Социальные революции различаются по своему характеру и движущим силам, по своим экономическим, социальным и политическим результатам.
Характер революции определяется тем, какие противоречия она разрешает, какие задачи она призвана осуществить. Так как причиной социальной революции является конфликт между новыми производительными силами и отжившими производственными отношениями, то ее характер зависит от того, какие производственные отношения она призвана разрушать и какие утвердить. Так, например, революция, призванная уничтожить феодально-крепостнические отношения, является по своему характеру буржуазной. Революция, призванная уничтожить капиталистические производственные отношения и утвердить социалистические, является по своему характеру пролетарской, социалистической.
Движущими силами революции называются те классы, которые осуществляют революцию, двигают ее вперед, преодолевая сопротивление отживших классов.
Первыми по времени социальными революциями угнетенных были революции рабов. Эти революции привели к ликвидации рабовладельческого строя. Так, в результате восстания рабов и вторжения варварских племен была разрушена Римская империя. Объективный смысл революции рабов заключался в замене рабовладельческой формы частной собственности собственностью феодальной, крепостнической. Революция рабов, ликвидировавшая рабовладение и отменившая рабовладельческую форму эксплуатации, не привела и не могла привести к уничтожению эксплуатации.
Не могли привести к уничтожению эксплуатации и революции крепостных крестьян, направленные против феодально-крепостнического строя. Как указывает товарищ Сталин, «революция крепостных крестьян ликвидировала крепостников и отменила крепостническую форму эксплоатации. Но она поставила вместо них капиталистов и помещиков, капиталистическую и помещичью форму эксплоатации трудящихся. Одни эксплоататоры сменились другими эксплоататорами» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 412). Так как на место феодально-крепостнических отношений эти революции могли поставить лишь капиталистические производственные отношения, основанные на капиталистической, буржуазной собственности на средства производства, то они являлись по своему характеру буржуазными революциями.
Принципиально иной характер имеет пролетарская, социалистическая революция. Она призвана уничтожить капиталистические производственные отношения и утвердить социалистические, уничтожить частную собственность на средства производства и заменить ее общественной, социалистической собственностью. Поэтому пролетарская революция способна уничтожить всякую эксплуатацию, покончить со всеми и всякими эксплуататорами. Пролетарская, социалистическая революция отличается ввиду этого коренным образом от всех предшествующих революций, которые представляли собой, по выражению товарища Сталина, «однобокие революции», ограниченные по своим задачам и размаху.
2. Буржуазные и буржуазно-демократические революции
В странах Западной Европы во главе антифеодальных революций XVII, XVIII и первой половины XIX в. стояла буржуазия. Как указывал Энгельс, «борьба европейской буржуазии против феодализма дошла до высшего напряжения в трех крупных решающих битвах» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр.94). Первой из них была крестьянская война 1525 г. в Германии, направленная против феодальной эксплуатации крестьян и городской бедноты, но потерпевшая поражение. Второй битвой была английская революция 1642— 1649 гг., которая нанесла удар феодальному общественному строю в Англии. Третьей битвой была революция 1789—1794 гг. во Франции, приведшая к свержению власти феодальной аристократии и к политическому господству буржуазии.
Во всех революциях, которые были направлены против феодализма, крестьяне составляли боевую армию, но они же были тем классом, который после одержанной победы неизбежно разорялся, так как экономическим результатом этих революций было развитие капитализма.
В ряде антифеодальных революций, начиная с французской революции 1789—1794 гг., принимал активное участие и пролетариат. Борясь вместе со всем народом против крепостничества, рабочий класс выступал и со своими классовыми требованиями, которые были еще неясными и сбивчивыми, но уже устремлялись к уничтожению классовой противоположности между эксплуататорами и эксплуатируемыми. В февральскую революцию 1848 г. во Франции парижский пролетариат заставил временное буржуазное правительство провозгласить республику, заставил буржуазию пойти на ряд демократических преобразований. В этой революции пролетариат заявил о своих классовых интересах, и февральская республика была вынуждена, по словам Маркса, «объявить себя республикой, обставленной социальными учреждениями. Парижский пролетариат вырвал эту уступку» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 118).
Вследствие той роли, какую играл пролетариат в буржуазных революциях, эти революции заходили значительно дальше той цели, которую ставила буржуазия. Тогда освирепевшая буржуазия вопила о «порядке» и водворяла его огнем и мечом. Так «за этим избытком революционной деятельности,— пишет Энгельс,— последовала неизбежная реакция, которая в свою очередь тоже зашла дальше цели» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 95). С той поры, как на историческую арену выступил пролетариат, буржуазия из страха перед его революционными стремлениями переходила к предательской политике сговора с феодалами для совместной борьбы против трудящихся.
Многие антифеодальные революции были по своим движущим силам народными революциями: они совершались народными массами — крестьянами и плебейскими элементами городов, а позднее при участии промышленного пролетариата. Но, будучи по своему характеру буржуазными революциями, они приводили лишь к усилению развития капитализма и к политическому господству буржуазии.
Энгельс, характеризуя эти революции, указывал, что они, как и революции рабов, были революциями большинства в интересах меньшинства. «Все прежние революции,— писал Энгельс, — сводились к замене господства одного определенного класса господством другого; но все господствовавшие до сих пор классы являлись лишь ничтожным меньшинством по сравнению с подвластной народной массой. Таким образом, одно господствующее меньшинство свергалось, другое меньшинство овладевало вместо него кормилом государственной власти и преобразовывало государственные порядки сообразно своим интересам... Если отрешиться от конкретного содержания каждого отдельного случая, общая форма всех этих революций заключалась в том, что это были революции меньшинства. Если большинство и принимало в них участие, оно действовало — сознательно или бессознательно — лишь на пользу меньшинства; но именно это или даже просто пассивное поведение большинства, отсутствие сопротивления с его стороны создавало иллюзию, будто это меньшинство является представителем всего народа» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 95, 96.)
До тех пор пока не было крупного промышленного производства и достаточно развитого промышленного пролетариата, не было объективных условий для уничтожения эксплуатации.
Но с того времени как сложился капиталистический способ производства и вырос промышленный пролетариат, ход революции стал все в большей мере зависеть от степени революционной зрелости пролетариата и его способности стать гегемоном по отношению ко всей непролетарской трудящейся массе. Уже буржуазную революцию 1848 г. в Германии Маркс и Энгельс рассматривали как непосредственный пролог пролетарской революции. Именно в то время Маркс и Энгельс выдвинули идею непрерывной революции. В противовес демократическим мелким буржуа, которые стремились быстрее закончить революцию и упрочить господство буржуазии, Маркс и Энгельс поставили перед пролетариатом задачу «сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти...» (Там же, стр. 84).
Эпоха империализма усилила реакционность буржуазии. Создалась новая расстановка классовых сил, благодаря которой открылась возможность и необходимость гегемонии пролетариата в буржуазных революциях. Ленин открыл эту новую расстановку классовых сил и развил дальше идею Маркса о непрерывной революции, создал теорию перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую (См. «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 71).
Ленин установил отличие буржуазных революции прежнего типа, в которых гегемония принадлежала буржуазии и власть переходила в ее руки, от буржуазно-демократических революции периода, когда буржуазия перестала быть революционной; в этих буржуазно-демократических революциях гегемония принадлежит пролетариату, и эти революции ставят своей задачей установление революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Всякая крестьянская революция, устремленная против феодально-крепостнического строя при капиталистическом направлении развития общественного хозяйства, есть буржуазная революция. Но не всякая буржуазная революция есть крестьянская революция. Не всякую буржуазную революцию можно назвать народной, демократической революцией. Ленин писал:
«Если взять для примера революции XX века, то и португальскую и турецкую придется, конечно, признать буржуазной. Но «народной» ни та, ни другая не является, ибо масса народа, громадное большинство его активно, самостоятельно, со своими собственными экономическими и политическими требованиями, ни в той, ни в другой революции заметно не выступают. Напротив, русская буржуазная революция 1905— 1907 годов, хотя в ней не было таких «блестящих» успехов, которые выпадали временами на долю португальской и турецкой, была, несомненно, «действительной народной» революцией, ибо масса народа, большинство его, самые глубокие общественные «низы», задавленные гнетом и эксплуатацией, поднимались самостоятельно, наложили на весь ход революции отпечаток своих требований, своих попыток по-своему построить новое общество, на место разрушаемого старого» (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 388).
Революция 1905 г. в России была по своему характеру буржуазной революцией, направленной против самодержавия и класса помещиков. Особенностью буржуазной революции в России было то, что буржуазия не только не была гегемоном революции, но боялась революции и не являлась ее движущей силой, стала союзником помещиков и царизма. Движущими силами революции были пролетариат и крестьянство. По движущим силам это была народная, демократическая революция. Она имела еще ту особенность, что «была вместе с тем и пролетарской, не только в том смысле, что пролетариат был руководящей силой, авангардом движения, но и в том смысле, что специфически пролетарское средство борьбы, именно стачка, представляло главное средство раскачивания масс и наиболее характерное явление в волнообразном нарастании решающих событий» (В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 231).
Классовые противоречия в России к тому времени достигли крайней остроты. На фабриках и заводах господствовали зверские формы эксплуатации рабочих; в деревне царили пережитки крепостнических порядков, всевластие помещиков. Гнет капиталистов и помещиков усугублялся бесправием народа, произволом царских чиновников и полицейских. Царизм проводил политику жестокого национального угнетения.
Русский пролетариат к 1905 г. успел пройти большую школу классовой борьбы и превратиться в самостоятельную политическую силу, способную возглавить народную революцию и довести ее до победы над помещиками и царизмом.
Российская буржуазия, наоборот, с самого начала обнаружила свою политическую дряблость, неспособность к борьбе с самодержавием и превратилась (особенно после 1905 г.) в контрреволюционную силу. Либеральная буржуазия боялась пролетариата и потому не хотела революции, так как победа революции укрепила бы пролетариат и поставила бы под угрозу существование самой буржуазии. Вот почему российская буржуазия шла на сделку с царизмом.
Крестьянство, следовательно, не могло рассчитывать на то, чтобы при помощи буржуазии победить помещиков и получить землю. Оно могло освободиться и получить землю только под руководством пролетариата.
Этой расстановкой классовых сил в России определялась возможность и необходимость руководящей роли пролетариата в буржуазно-демократической революции, его роль вождя, гегемона. Идея гегемонии пролетариата получила благодаря Ленину, Сталину, большевистской партии теоретическое обоснование и практическое применение в России, в странах народной демократии в Европе, а также в Китае и Корее. Товарищ Сталин, характеризуя опыт русского рабочего движения в осуществление ленинской идеи гегемонии пролетариата в революции, писал:
«Раньше обычно дело происходило таким образом, что рабочие дрались во время революции на баррикадах, они проливали кровь, они свергали старое, а власть попадала в руки буржуа, которые угнетали и эксплуатировали потом рабочих, Так было дело в Англии и во Франции. Так было дело в Германии. У нас, в России, дело приняло другой оборот. У нас рабочие представляли не только ударную силу революции. Будучи ударной силой революции, русский пролетариат старался вместе с тем быть гегемоном, политическим руководителем всех эксплуатируемых масс города и деревни, сплачивая их вокруг себя, отрывая их от буржуазии, изолируя политически буржуазию. Будучи же гегемоном эксплуатируемых масс, русский пролетариат боролся за то, чтобы захватить власть в свои руки и использовать её в своих собственных интересах, против буржуазии, против капитализма» (И.В.Сталин, Соч., т.10, стр. 96-97.)
Гегемония рабочего класса под руководством большевистской партии в буржуазно-демократической революции была одним из решающих условий победы социалистической революции в России. В октябре 1917 г. партия осуществила гениальный ленинский план, изложенный в Апрельских тезисах, план перехода от буржуазно-демократической революции, которая произошла в феврале 1917 г., к революции социалистической. Претворилась, таким образом, в жизнь выдвинутая Лениным еще в 1905 г. идея перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.
Великий революционный опыт рабочего класса России, осуществившего ленинско-сталинскую идею гегемонии пролетариата, имеет громадное международное значение и является образцом для борющегося пролетариата всех стран. Опираясь на этот опыт, VI Конгресс Коммунистического Интернационала сформулировал положение о том, что гегемония пролетариата — основная стратегическая цель коммунистического движения при буржуазно-демократической революции. Опираясь на опыт большевизма, рабочий класс Китая под руководством коммунистической партии возглавил китайский народ в антифеодальной и антиимпериалистической национально-освободительной революции. Победоносная китайская народная революция привела к установлению революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства — диктатуры, руководимой коммунистической партией Китая.
Китайская народная революция привела к освобождению Китая от гнета иностранного империализма и его агентуры — прогнившего гоминдановского режима. Одна из важнейших задач китайской революции, которую она успешно решает,— это ликвидация феодального землевладения и расчистка почвы для мощного развития производительных сил и демократической культуры. Руководство коммунистической партии Китая, союз демократического Китая с СССР и всесторонняя поддержка Китая страной социализма обеспечивают ему подлинно демократический путь развития.
3. Пролетарская социалистическая революция
Экономическая основа пролетарской революции
Как показали Маркс и Энгельс, противоречие между производительными силами и капиталистическими производственными отношениями, вызывающее социальную революцию пролетариата, есть противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. Это главное противоречие капитализма порождает целый ряд других противоречий и находит свое выражение прежде всего в растущем антагонизме между пролетариатом и буржуазией.
Это противоречие было присуще капитализму уже на его первой стадии, когда он еще шел по восходящей линии развития. Противоречия капитализма углубились, крайне обострились и дополнились новыми противоречиями, когда он перерос в империализм и стал развиваться по нисходящей линии.
Открытая Марксом тенденция капиталистического накопления, ведущая к возрастающему сосредоточению на одном полюсе общества богатства, на другой — нищеты, с исключительной силой проявляется при империализме. Кучки магнатов капитала держат в своих руках главнейшую массу средств производства во всех капиталистических странах и разрушают производительные силы и в мирное и в военное время. Рабочие массы все острее чувствуют на себе гнет империализма, всесилие капиталистических трестов и синдикатов, банков и финансовой олигархии.
В условиях империализма происходит усиление не только относительного, но и абсолютного обнищания рабочего класса. Обострение противоречия между трудом и капиталом ведет к неизбежному революционному взрыву, к социалистической революции пролетариата.
«Либо отдайся на милость капиталу, прозябай по-старому и опускайся вниз, либо берись за новое оружие — так ставит вопрос империализм перед миллионными массами пролетариата. Империализм подводит рабочий класс к революции» (И.В.Сталин, Соч., т.6, стр. 72.).
К противоречиям, которые знал уже домонополистический капитализм, империализм прибавил новое острейшее противоречие между финансовыми группами, империалистическими державами. Империализм характеризуется вывозом капитала к источникам сырья и, следовательно, борьбой за монопольное овладение этими источниками, за чужие территории. Борьба между различными группами капиталистов за монопольное обладание источниками сырья и сферами вложения капитала в условиях, когда мир оказался уже поделенным между горсткой империалистических держав, сделала неизбежными периодические войны за передел уже поделенного мира. Это ведет к взаимному ослаблению империалистов, к ослаблению капитализма и приближает необходимость пролетарской революции.
Империализм усилил и довел до крайних пределов противоречие между горстью господствующих «цивилизованных» наций и между сотнями миллионов колониальных и зависимых народов. Империализм означает зверский, нестерпимый гнет над населением колоний, еще более жестокий и бесчеловечный, чем в метрополиях. «Империализм есть самая наглая эксплуатация и самое бесчеловечное угнетение сотен миллионов населения обширнейших колоний и зависимых стран. Выжимание сверхприбыли — такова цель этой эксплуатации и этого угнетения» (Там же, стр. 73). Вследствие этого революционный пролетариат в борьбе против империализма имеет союзника в лице трудящихся колоний и зависимых стран.
Обострение старых противоречий капитализма и появление новых противоречий в эпоху империализма означает, что противоречие между производительными силами и производственными отношениями при империализме получило дальнейшее развитие. Для империализма характерно крайнее обострение антагонизма между общественным характером производства и частной формой присвоения. Этот антагонизм ныне находит свое выражение и в углубляющемся конфликте между производительными силами и национально-империалистическими рамками их развития. «С точки зрения экономической,— учит товарищ Сталин, — нынешние конфликты и военные столкновения капиталистических групп между собой, равно как борьба пролетариата с классом капиталистов, имеют своей основой конфликт нынешних производительных сил с национально-империалистическими рамками их развития и с капиталистическими формами присвоения. Империалистические рамки и капиталистическая форма душат, не дают развиваться производительным силам» (И. В. Сталин, Соч., т.5, стр. 109 – 110).
Историческая роль социалистической революции
Устранение указанного конфликта возможно лишь путем отмены частной собственности на средства производства, которая является основой капиталистического присвоения и империалистического грабежа. Если, следовательно, во всех прежних революциях дело шло о том, чтобы заменить одну форму частной собственности другой: рабовладельческую — феодальной, а феодальную — капиталистической, то социалистическая революция призвана ликвидировать всякую частную собственность на средства производства и утвердить на ее месте общественную, социалистическую собственность. Тем самым социалистическая революция призвана ликвидировать всякую эксплуатацию одних людей другими. В этом состоит исторический смысл пролетарской, социалистической революции и ее коренное отличие от всех других революций. Поэтому пролетарская революция является коренным поворотом во всемирной истории.
Великая Октябрьская социалистическая революция в России полностью подтвердила истину марксизма-ленинизма о значении пролетарской революции. Она привела к уничтожению частной собственности на средства производства, к ликвидации эксплуататорских классов и всех видов эксплуатации и угнетения, к утверждению социалистического способа производства, основанного на общественном владении средствами производства.
Пролетарская революция отличается от других революций своей великой созидательной миссией. Ни перед одной из прежних революций не вставали задачи создания нового способа производства. Буржуазная экономика складывалась и созревала стихийно в недрах феодального общества, потому что буржуазная собственность и феодальная собственность однотипны в своей основе.
Социалистическая собственность на средства производства не может стихийно утвердиться в обществе, основанном на частном владении средствами производства, на эксплуатации и угнетении трудящихся. В недрах буржуазного общества создается лишь материальная основа для неизбежного наступления социализма. Эта материальная основа вырастает в виде новых производительных сил и обобществления труда и создает возможность и необходимость перехода средств производства в собственность общества. Но превращение этой возможности в действительность происходит не стихийно, а имеет своим предварительным условием социалистическую революцию, завоевание диктатуры пролетариата и экспроприацию экспроприаторов. Если буржуазная революция застает уже готовые формы капиталистической экономики и ее задачи сводятся лишь к тому, чтобы разрушить и смести все путы прежнего общества, то «пролетарская революция начинается при отсутствии, или почти при отсутствии, готовых форм социалистического уклада» (И. В. Сталин, Соч., т.8, стр. 21), и ее задача состоит в том, чтобы на основе пролетарской диктатуры построить новую, социалистическую экономику. Отсюда вытекает важнейшее отличие пролетарской революции, сформулированное товарищем Сталиным следующими словами: «Буржуазная революция завершается обычно захватом власти, тогда как для пролетарской революции захват власти является лишь её началом, причём власть используется как рычаг для перестройки старой экономики и организации новой» (Там же).
В отличие от буржуазной революции, миссия которой вполне исчерпывается разрушением старого, пролетарская революция не ограничивается разрушением старого, перед ней стоят великие творческие задачи, она призвана организовать жизнь миллионов людей по-новому, на началах социализма.
Буржуазия и ее реформистские прихвостни упорно твердят, что рабочий класс, разрушая старые порядки, не в состоянии будто бы создать что-либо новое, что народ не может обойтись без помещиков и капиталистов. Эта клевета современных рабовладельцев и их наймитов — правых социалистов, лейбористов, профбюрократов — разбивается о великий жизненный факт существования социализма, построенного советским народом под руководством большевистской партии, по предначертаниям великого научного и организаторского гения Ленина в Сталина. Товарищ Сталин, оценивая всемирно-историческое значение построения социализма в СССР, отметил, что главный итог этой победы состоит в том, что рабочий класс нашей страны «доказал на деле, что он вполне способен не только разрушить старый строй, но и построить новый, лучший, социалистический строй и при том такой строй, который не знает ни кризисов, ни безработицы» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 610).
Пролетарская революция и слом буржуазной государственной машины
Прежние революции приводили к смене одной формы эксплуатации другой, и в этих революциях не ставился вопрос о сломе старой государственной машины, так как у государства и после революции оставалась та же главная функция, состоявшая в подавлении эксплуататорским меньшинством эксгумируемого большинства населения. Государственный механизм лишь совершенствовался как сила, все более и более противостоявшая народу.
Социалистическая революция, задачи которой состоят в уничтожении всякой эксплуатаций, в полном освобождении трудящихся от всякого угнетения, не может опереться на старое государство, созданное для подавления трудящихся. Для решения этих задач пролетариат должен создать государство, принципиально отличное от всех прежних государств, Пролетарская революция нуждается в государстве нового типа, призванном подавить сопротивление свергнутых эксплуататорских классов и быть орудием для построения коммунизма.
Характеризуя отношение пролетарской революции к государству, товарищ Сталин пишет: «Буржуазная революция ограничивается заменой у власти одной эксплуататорской группы другой эксплуататорской группой, ввиду чего она не нуждается в сломе старой государственной машины, тогда как пролетарская революция снимает с власти все и всякие эксплуататорские группы и ставит у власти вождя всех трудящихся и эксплуатируемых, класс пролетариев, ввиду чего она не может обойтись без слома старой государственной машины и замены её новой» (И. В. Сталин, Соч., т.8, стр. 21-22).
Положение марксизма-ленинизма о сломе буржуазной государственной машины приобрело в эпоху империализма значение непреложного закона. При империализме диктатура финансовой олигархии превратилась в невиданно наглое и террористическое насилие над трудящимися, и империалистическое государство, вооруженное всеми новейшими средствами военной техники, не останавливается ни перед какими преступлениями, чтобы подавить передовые общественные силы — силы демократии и социализма. В этих условиях невозможен мирный переход власти к рабочему классу, к трудящимся. Только насильственное свержение господства империалистов, устранение их от власти вооруженной рукой и слом империалистического государства могут привести пролетариат к власти и к победе социализма. Товарищ Сталин учит, что «закон о насильственной революции пролетариата, закон о сломе буржуазной государственной машины, как о предварительном условии такой революции, является неизбежным законом революционного движения империалистических стран мира» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 117).
Это наглядно подтвердилось на примере Великой Октябрьской социалистической революции. Историческое творчество русского рабочего класса создало Советы — массовые революционные организации, зародыши новой, революционной власти. Большевики находили одно время возможным мирное развитие революции в России через передачу власти Советам. Но после событий июля 1917 г., когда правительство Керенского учинило кровавую расправу над рабочими Петрограда, стало ясным, что мирное развитие революции, мирный переход к диктатуре пролетариата в лице Советов уже невозможен. Рабочий класс России одержал свою великую победу в результате вооруженного восстания, на которое повела его партия большевиков и ее вожди Ленин и Сталин. В ходе социалистической Октябрьской революции пролетариат встретился с бешеным сопротивлением и саботажем со стороны старого помещичье-буржуазного чиновничьего и военного аппарата. Только сломав до основания старый государственный аппарат и создав новое, пролетарское, Советское государство, рабочий класс мор довести до конца социалистические преобразования.
«Конечно, — указывает товарищ Сталин, — в далёком будущем, если пролетариат победит в важнейших странах капитализма и если нынешнее капиталистическое окружение сменится окружением социалистическим, вполне возможен «мирный» путь развития для некоторых капиталистических стран, капиталисты которых, в силу «неблагоприятной» международной обстановки, сочтут целесообразным «добровольно» пойти на серьёзные уступки пролетариату. Но это предположение касается лишь далёкого и возможного будущего. Для ближайшего будущего это предположение не имеет никаких, ровно никаких оснований». (Там же, стр. 117—118).
На опыте стран народной демократии снова подтвердилась истина марксизма-ленинизма о том, что освобождение трудящихся от ига империализма возможно лишь путем слома буржуазного государственного аппарата и насильственных действий против эксплуататоров. Трудящиеся этих стран под руководством коммунистических и рабочих партий, чтобы подавить сопротивление реакционных классов и осуществить социалистические преобразования, должны были так же сломать старый государственный аппарат, создать новое, народно-демократическое государство.
Движущие силы социалистической революции
Главной, решающей движущей силой социалистической революции является пролетариат. Самым ходом исторического развития он призван быть могильщиком капитализма и творцом нового общества — коммунизма. Эта всемирно-историческая роль рабочего класса вытекает из его положения в капиталистическом обществе. «У пролетариев,— сказано в «Манифесте Коммунистической партии»,— нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность» (К. Маркс, Ф.Энгельс, Избранные произведения, т.1, 1948, стр.19).
Непролетарские трудящиеся массы при капитализме зачастую эксплуатируются не меньше пролетариата. Но в силу экономических условий своего существования они разъединены, разобщены и потому неспособны к организованным историческим действиям, к самостоятельной революционной борьбе с буржуазией. Пролетариат же самыми условиями своего экономического бытия подготавливается к своей всемирно-исторической роли. С развитием капитализма растет не только численность пролетариата, но и его концентрация на крупных предприятиях. Совместный труд и необходимость совместной борьбы воспитывают в нем организованность, дисциплину, сплоченность, стойкость, выдержку. Пролетариат является, по словам Ленина, «интеллектуальным и моральным двигателем, физическим выполнителем» (В.И. Ленин, Соч., т.21, изд.4, стр.54-55) превращения капитализма в социализм. Он является самым последовательным и до конца революционным классом в борьбе против всех эксплуататоров и угнетателей.
Ленин и Сталин, двигая вперед марксистскую теорию, стратегию и тактику социалистической революции, разработали вопрос о союзниках пролетариата, указав на создаваемые империализмом новые сдвиги в отношениях между классами и на гигантское увеличение сил революции. Они показали, что пролетариат не одинок в своей борьбе против капитализма. Он имеет своих союзников в лице полупролетарской эксплуатируемой массы, которая под его руководством делается также движущей силой социалистической революции. Эксплуатируемые капитализмом полупролетарские трудящиеся массы, угнетенные и эксплуатируемые колониальные народы, угнетенные национальности являются союзниками рабочего класса и величайшим резервом пролетарской социалистической революции.
С превращением капитализма в империализм тенденция к превращению непролетарского трудящегося населения в рабов капитала резко усилилась, крестьянство капиталистических стран подпало под еще более тяжкий пресс капиталистической эксплуатации. Ленин, анализируя на примере Америки новые данные о законах развития капитализма, писал: «Кто держит в руках банки, тот непосредственно держит в руках треть всех ферм Америки, а непосредственно господствует над всей массой их» (В.И. Ленин, Соч., т.22, изд.4, стр. 86). В условиях империализма резко усиливается экспроприация мелкого земледелия, обезземеление крестьянства, во всех отраслях сельского хозяйства растет применение наемного труда. Это означает, что трудящееся крестьянство становится во» враждебное отношение к буржуазии, что оно может стать союзником пролетариата в борьбе против империалистической буржуазии. Особенно тяжело положение крестьянства в колониях и зависимых странах. Поэтому освободительное движение в колониях втягивает широкие крестьянские массы, составляющие там преобладающую часть населения. «Что такое колонии,— указывает товарищ Сталин,— как не те же угнетённые трудовые массы, и прежде всего трудовые массы крестьянства? Кому не известно, что вопрос об освобождении колоний является по сути дела вопросом об освобождении трудовых масс непролетарских классов от гнёта и эксплуатации финансового капитала?» (И.В. Сталин, Соч., т.6, стр. 365).
Для партий II Интернационала, для современных правых социалистов характерно равнодушное или прямо отрицательное отношение к крестьянскому вопросу, потому что эти партии Враждебны пролетарской революции. Их не интересует вопрос о союзниках пролетариата, так как они стремятся всеми силами воспрепятствовать победе социалистической революции.
Ленин и Сталин, исходя из анализа новой расстановки классовых сил, создаваемой империализмом, пришли к выводу, что непролетарское трудящееся население может явиться надежным союзником пролетариата в борьбе за победу социалистической революции. Товарищ Сталин говорил:
«Вопрос стоит так: исчерпаны ли уже революционные возможности, таящиеся в недрах крестьянства, в силу известных условий его существования, или нет, и если не исчерпаны, есть ли надежда, основание использовать эти возможности для пролетарской революции, превратить крестьянство, его эксплуатируемое большинство, из резерва буржуазии, каким оно было во время буржуазных революций Запада и каким оно остаётся и теперь,— в резерв пролетариата, в его союзника?» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 124.).
Ленин и Сталин дали на этот вопрос положительный ответ. Они развили цельную и стройную теорию о союзе рабочего класса с крестьянством при гегемонии рабочего класса не только в буржуазно-демократической революции, но и в социалистической революции. Они ввели «в дело новый момент, как обязательный момент социалистической революции,— союз пролетариата и полупролетарских элементов города и деревни, как условие победы пролетарской революции» («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 72.).
Велико значение этих идей Ленина и Сталина о гигантских резервах пролетарской революции. Это была «новая теория социалистической революции, осуществляемой не изолированным пролетариатом против всей буржуазии, а пролетариатом—гегемоном, имеющим союзников в лице полупролетарских элементов населения, в лице миллионов «трудящихся и эксплуатируемых масс»» (Там же).
Западноевропейские социал-демократы и меньшевики в России считали, что в социалистической революции пролетариат будет один против буржуазии, без союзников, против всех непролетарских классов и слоев. Они не хотели считаться с тем, что капитал эксплуатирует не только пролетариев, но и миллионы полупролетарских слоев города и деревни, что эти слои могут быть союзниками пролетариата в борьбе за освобождение от капиталистического гнета. Западноевропейские социал-демократы и меньшевики считали, что условия для социалистической революции созреют лишь тогда, когда пролетариат станет большинством нации, большинством общества.
«Эту гнилую и антипролетарскую установку западно-европейских социал-демократов опрокидывала вверх дном ленинская теория социалистической революции» (Там же, стр.73).
Великой исторической проверкой и подтверждением гениальных идей Ленина и Сталина о союзниках пролетариата явилась победа Октябрьской социалистической революции. Она совершилась на основе союза рабочего класса с деревенской беднотой, составлявшей громадное большинство крестьянского населения России.
Таким образом, движущими силами Октябрьской социалистической революции явился рабочий класс и руководимые им полупролетарские трудящиеся массы, в частности крестьянская беднота. «Наличие союза рабочего класса и крестьянской бедноты определило и поведение середняков, которые долго колебались и только перед Октябрьским восстанием повернулись, как следует, в сторону революции, присоединившись к крестьянской бедноте» («История ВКПб. Краткий курс», стр. 203). Как указывает товарищ Сталин, большевистская партия сумела «соединить в один общий революционный поток такие различные революционные движения, как общедемократическое движение за мир, крестьянско-демократическое движение за захват помещичьих земель, национально-освободительное движение угнетенных народов за национальное равноправие и социалистическое движение пролетариата за свержение буржуазии, за установление диктатуры пролетариата.
Несомненно, что соединение этих различных революционных потоков в один общий мощный революционный поток решило судьбу капитализма в России» (Там же, стр. 204).
Ленин и Сталин доказали, что пролетариат, придя к власти, может и должен повести все трудящееся крестьянство по пути социалистического преобразования общества. Это положение ленинизма также блестяще выдержало испытание на практике. В СССР впервые в истории народов победил социализм, он победил именно на основе союза рабочих и крестьян под руководством рабочего класса. Советское крестьянство идет вместе с рабочим классом к коммунизму, что является полным торжеством ленинско-сталинских идей о союзниках рабочего класса в его борьбе за социализм. Развитие стран народной демократии, характеризующееся вовлечением трудящегося крестьянства в социалистическое строительство, еще раз подтверждает истинность ленинско-сталинского учения.
В связи с этим следует отметить еще одно громадное отличие социалистической революции от революции буржуазной. «Буржуазная революция не может сплотить вокруг буржуазии на сколько-нибудь длительный период миллионы трудящихся и эксплуатируемых масс именно потому, что они являются трудящимися и эксплуатируемыми, тогда как пролетарская революция может и должна связать их с пролетариатом в длительный союз именно как трудящихся и эксплуатируемых, если она хочет выполнить свою основную задачу упрочения власти пролетариата и построения новой, социалистической экономики» (И.В.Сталин, Соч., т.8, стр. 22).
4. Объективные и субъективные условия победы революции
Ленин и Сталин установили, что в эпоху империализма пролетарская революция становится прямой практической необходимостью. Вместе с тем они показали, что расстановка классовых сил при империализме открывает пролетариату возможность осуществить при помощи и поддержке своих союзников прорыв фронта империализма и совершить победоносную революцию.
Руководящей и организующей силой пролетарской революции является авангард рабочего класса, коммунистическая партия. Для успеха революции от коммунистической партии требуется уменье распознать революционную ситуацию и использовать ее посредством правильной организации революционных сил и правильной тактики для победоносного вооруженного восстания.
Революционная ситуация
Революция, согласно учению Ленина, невозможна без революционной ситуации. Революционная же ситуация определяется следующими признаками:
«1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.
Без этих объективных изменений, независимых от воли не только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, революция — по общему правилу — невозможна. Совокупность этих объективных перемен и называется революционной ситуацией». (В. И. Ленин, Соч., т.21, изд. 4., стр. 189-190).
Такие ситуации были в революциях XVII, XVIII и XIX вв. в странах Западной Европы, в 1905 и 1917 гг. в России. Но история знает много примеров, когда имелась революционная ситуация, когда были все эти объективные условия, и тем не менее революции не происходило. В 60-х годах прошлого века в Германии, в 1859—1861 и в 1879—1880 гг. в России были революционные ситуации, однако они не увенчались революциями. В ряде стран капиталистической Европы уже в первый год мировой империалистической войны (1914/15) была налицо революционная ситуация. Обострившаяся революционная ситуация в Германии в 1923 г. не привела к революции.
«Не из всякой революционной ситуации возникает революция» (Там же, стр. 190), — писал Ленин. Для превращения революционной ситуации в победоносную революцию пролетариата требуется, чтобы к совокупности объективных перемен, образующих революционную ситуацию, присоединились субъективные факторы: «...способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят»» (В.И.Ленин, Соч., т.21, изд. 4, стр. 190), наличие революционной партии, способной повести за собой массы в бой и вести их по правильному пути.
Революционная ситуация не является некоей стадией, предшествующей революции. Революционная ситуация есть совокупность тех объективных перемен, которые в соединении с субъективным фактором дают революцию.
При наличии революционной ситуации перед партией пролетариата встает задача вести массы в прямую атаку на буржуазное государство в целях свержения политического господства буржуазии и снятия ее с власти: в порядок дня ставится подготовка и проведение вооруженного восстания. Для успеха восстания важнейшее значение имеют организация восстания, выбор момента для восстания и тактика его проведения.
Вооруженное восстание
Вооруженное восстание — высшая форма классовой борьбы трудящихся с классами угнетателей. Это решающий и самый ответственный момент в ходе революционной борьбы. В своей работе «Революция и контрреволюция в Германии» Энгельс показывает, что франкфуртское Национальное собрание в 1848 г. погибло именно потому, что добродетельные демократы этого собрания пренебрегли вооруженным восстанием, предоставили повстанческие движения их стихийному ходу, а частью и прямо способствовали подавлению восстания.
«Восстание есть искусство,— подчеркивает Энгельс,— точно так же как и война, как и другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся виновною в их несоблюдении» (К. Маркс, Избранные произведения, т. 11, 1941, стр. 110.).
Взгляд марксизма на восстание, как на искусство, Ленин и Сталин развили всесторонне и до глубочайших деталей. Уже в книге «Что делать?» (1902) Ленин конкретизирует марксистский взгляд на восстание, отмечая такие стороны, как подготовка восстания, назначение срока восстания и его проведение.
Ленинские положения о вооруженном восстании явились руководством для партии в Октябрьские дни 1917 г. Взвешивая положение в стране и соотношение классовых сил, Ленин отмечал, что в июльские дни еще не было объективных условий для победы восстания: «...3—4 июля восстание было бы ошибкой» (В.И.Ленин, Соч., т.26, изд. 4, стр. 5). Определив момент, когда оказались «налицо все объективные предпосылки успешного восстания» (Там же, стр. 6), Ленин настаивал на необходимости немедленной подготовки к восстанию, требовал отнестись к восстанию, как к искусству, подчеркивал, что с восстанием «ждать нельзя», что, «сосредоточив всю фракцию на заводах и в казармах, мы правильно учтем момент для начала восстания» (Там же, стр. 8). Восстанием нужно руководить, а для руководства восстанием должен создаваться специальный военно-революционный центр. Для проведения Октябрьского вооруженного восстания такой центр был создан Центральным Комитетом партии большевиков во главе с товарищем Сталиным.
Ленин и Сталин указывают, что поддержка народа со стороны армии или части армии является важнейшим фактором победоносной революции. В условиях империализма народ может победить в революции при обязательной поддержке его хотя бы частью армии. Еще Энгельс указывал на огромные трудности, с которыми встретятся грядущие восстания в связи с сосредоточением в руках господствующих классов усовершенствованной военной техники и с новой планировкой улиц, проведенной после революции 1848 р. в больших городах и как бы специально приспособленной для действий новых орудий и ружей. В крупнейших капиталистических центрах была разработана новая планировка улиц в целях подавления восстания: план Z (зет) в Париже, «Eiserne Ring» (железное кольцо) в Вене.
«Раньше,— говорит товарищ Сталин,— в XVIII и XIX столетиях, революции начинались так, что обычно восставал народ, большей частью безоружный или плохо вооружённый, и сталкивался он с армией старого режима, каковую армию он старался разложить или, по крайней мере, частично перетянуть на свою сторону. Это типичная форма революционных взрывов в прошлом. То же самое имело место у нас в России в 1905 году» (И.В.Сталин, Соч., т.8, стр. 363).
История русской революции, история Парижской Коммуны щ 1871 г. показали, отмечает Ленин, что милитаризм никогда и ни в коем случае не может быть побежден и уничтожен каким-либо иным способом, как только победоносной борьбой одной части народной армии против другой ее части (См. В.И.Ленин, Соч., т. 23, изд. 4, стр. 238). Учитывая этот исторический опыт, большевистская партия, подготовляя Октябрьскую революцию, вела большую работу в армии, создавала военные организации среди солдат и матросов. Успехи вооруженной борьбы пролетариата, являющейся необходимым и важнейшим средством свержения господства эксплуататоров, определяются тем, насколько партии удается овладеть поддержкой основной силы революции — пролетариата — и правильно использовать его резервы — широкие трудящиеся массы. В опоре на массы лежит кардинальное отличие марксизма от бланкизма в вопросе о восстании. Восстание «должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс» (В.И.Ленин, Соч., т.26, изд. 4, стр. 4),— учит Ленин.
Ленинская тактика отвергает какие бы то ни было схемы вооруженного восстания, а требует учета конкретно данного соотношения сил. Она опирается на следующие важнейшие принципы: 1) «Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо идти до конца» (Там же, стр. 152), 2) «Сосредоточение главных сил революции в решающий момент на наиболее уязвимом для противника пункте, когда революция уже назрела, когда наступление идёт на всех парах, когда восстание стучится в дверь и когда подтягивание резервов к авангарду является решающим условием успеха» (И.В.Сталин, Соч., т.6, стр. 157), 3) Тщательно следить за назреванием революционного кризиса, приурочивая момент открытия восстания к высшей точке кризиса. «Нарушение этого условия ведёт к опасной ошибке, называемой «потерей темпа»» (Там же, стр. 159). 4) «Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью...» (В.И.Ленин, Соч., т.26, изд. 4, стр. 152), нарушение этого условия ведет к громадной ошибке, заключающейся в «потере курса» (См. И.В.Сталин, Соч., т.6, стр. 159).
Партия ленинизма – руководящая и направляющая сила социалистической революции
«Победа революции никогда не приходит сама. Ее надо подготовить и завоевать. А подготовить и завоевать ее может только сильная пролетарская революционная партия» (И.В.Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 433).
Социалистическая революция, знаменуя самый глубокий поворот во всемирной истории и осуществляя полное освобождение трудящихся, характеризуется активным участием в ней широчайших народных масс. Для победы социалистической революции требуется, чтобы рабочий класс и идущие за ним полупролетарские массы осознали ее необходимость и готовы были итти на решительный штурм капитализма. «Здесь,— как указывает Ленин,— оправдывается одно из самых глубоких положений марксизма, в то же время являющееся самым простым и понятным. Чем больше размах, чем больше широта исторических действий, тем больше число людей, которое в этих действиях участвует, и наоборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов» (В.И.Ленин, т.26, изд. 3, стр. 33).
Руководящей и организующей силой социалистической революции является партия пролетариата. История рабочего класса России, осуществившего победоносную социалистическую революцию, наглядно показала, как велика в этой революции роль большевистской партии и ее гениальных вождей Ленина и Сталина.
Революции рабов и революции крепостных крестьян возглавлялись и руководились отдельными вожаками или небольшими группами вожаков. Осуществление пролетарской, социалистической революции потребовало создания могущественной партии рабочего класса — партии социальной революции и диктатуры пролетариата. Революционная деятельность вождей рабочего класса Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина выражалась прежде всего в борьбе за создание такой партии. Такую партию и выковывали Ленин и Сталин: это партия большевиков.
Необходимость создания такой мощной руководящей и организующей силы, какой явилась партия ленинизма, диктуется колоссальными задачами социалистической революции, которая есть дело творческой самодеятельности многомиллионных народных масс. Задачи партии заключаются в том, чтобы воспитать рабочие массы в революционном духе, привить им боевую решимость, поднять их на борьбу против капитализма, за государственную власть. Задачи партии в социалистической революции заключаются, далее, в том, чтобы подготовить и подтянуть резервы, выковать союз рабочего класса с полупролетарскими элементами населения, с миллионами трудящихся и эксплуатируемых масс, установить прочные связи с освободительным движением колоний и зависимых стран. Для победы пролетарской революции требуется точный учет революционной ситуации, революционного кризиса, правильный выбор момента для вооруженного восстания. Все эти сложнейшие задачи революционной политики и стратегии требуют серьезнейшей революционной работы в массах.
Для решения этих задач необходимо, чтобы партия пролетариата была вооружена революционной теорией и программой и готова была претворять ее в жизнь, чтобы она обладала несокрушимым духом смелости, настойчивости, чтобы она была в высшей степени дисциплинированна и держала прочную и широкую связь со своим классом, со всеми его массовыми организациями, умела объединить их и направлять всю их деятельность к единой цели.
Товарищ Сталин учит, что «оставить пролетариат без такой партии — значит оставить его без революционного руководства... значит провалить дело пролетарской революции». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 337).
Опыт рабочего движения свидетельствует, что без коммунистической партии победа пролетарской революции была бы невозможна. Руководство революцией 1871 г. во Франции делили между собой две партии, что явилось одной из причин ее поражения.
Ленин и Сталин, учтя опыт истории и исходя из существа пролетарской революции и диктатуры пролетариата, обосновали положение о том, что социалистическая революция и пролетарская диктатура могут восторжествовать лишь под руководством одной партии, что «диктатура пролетариата может быть полной лишь в том случае, если ею руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не должна делить руководство с другими партиями» (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 99).
Для обеспечения за коммунистической партией безраздельного руководства революцией Ленин и Сталин требуют разгрома буржуазной агентуры в рабочем классе. Товарищ Сталин в «Кратком курсе истории ВКП(б)» пишет: «...без разгрома мелкобуржуазных партий, действующих в рядах рабочего класса, толкающих отсталые слои рабочего класса в объятия буржуазии и разбивающих, таким образом, единство рабочего класса,— невозможна победа пролетарской революции» («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 343). Буржуазная агентура в рабочем классе для обмана именует себя «рабочими», «социалистическими» партиями и течениями, а на деле борется против пролетарской революции и всячески препятствует ее победе.
Ленин и Сталин вооружили коммунистическую партию теорией и тактикой социалистической революции. Они создали организационную мощь партии, построенную на том принципе, что только монолитная марксистская партия, спаянная единством программы и тактики, единством поли и действий, в состоянии привести к победе социалистической революции, что «без железной дисциплины в партии не могут быть осуществлены задачи диктатуры пролетариата по подавлению эксплуататоров и перестройке классового общества в общество социалистическое» (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 99).
Великая Октябрьская социалистическая революция подтвердила ленинско-сталинское учение о партии. Она победила потому, что во главе рабочего класса стояла монолитная партия большевиков, вооруженная марксистско-ленинской теорией и тактикой социалистической революции. Партия большевиков не делила руководства революцией ни с какой другой партией.
На теорию и опыт большевизма опираются коммунистические партии всего мира. В странах народной демократии осуществлена консолидация рабочего класса под руководством единой марксистско-ленинской партии: в Болгарии — Рабочая партия коммунистов, в Чехословакии — Коммунистическая партия, в Румынии — Рабочая партия, в Венгрии — Партия трудящихся, в Албании — партия труда, в Польше — Польская объединенная рабочая партия.
5. Развитие мировой пролетарской революции
Ленинско-сталинское учение о возможности победы социализма в одной стране
Маркс и Энгельс считали, что победоносная социалистическая революция произойдет одновременно во всех или по крайней мере в главных странах капитализма. Это было верно для доимпериалистической стадии, когда капитализм еще развивался по восходящей линии, когда территориальный раздел мира еще не был закончен, а закон неравномерного экономического и политического развития капиталистических стран еще не приобрел решающего значения.
В эпоху империализма положение изменилось. Ленин показал, что в условиях империализма неравномерность экономического и политического развития и противоречия капитализма крайне обострились, что эти противоречия приводят к империалистическим войнам и ослабляют силы империализма. Отсюда Ленин сделал вывод о возможности победы социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой стране и о невозможности одновременной победы социализма во всех странах. Все или почти все элементы такого вывода были заложены в выдвинутой Лениным еще в 1905 г. теории перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, но в прямой и развернутой форме этот тезис был сформулирован им в 1915 г. в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы» и повторен в 1916 г. в статье «Военная программа пролетарской революции».
«Развитие капитализма,— писал Ленин,— совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными». (В.И.Ленин, Соч., т.23, изд. 4, стр. 67).
Товарищ Сталин, развивая ленинскую теорию, показал, что неравномерность развития капитализма при империализме приняла новый характер и чрезвычайно обострилась. При империализме конкурируют между собой уже не только отдельные капиталисты, а монополистические союзы капиталистов, что придает конкуренции больший размах и обострение, вводя в действие новые средства, формы и методы борьбы. При империализме земной шар полностью разделен между «великими державами». Вследствие закона неравномерности развития одни капиталистические страны, ранее отстававшие, не только догоняют, но и перегоняют ранее выдвинувшиеся вперед капиталистические страны; поэтому изменяется соотношение сил между ними, и в порядок дня встает вопрос о переделе уже поделенного мира: колоний, рынков, источников сырья, территорий для приложения капитала. Это перераспределение при капитализме возможно только путем войны. Поэтому империалистические войны являются неизбежным средством борьбы за передел колоний, рынков, источников сырья и дешевой рабочей силы.
Неравномерность развития капитализма при империализме, пишет товарищ Сталин, характеризуется тем, что происходит «скачкообразное развитие одних стран в отношении других, быстрое оттеснение с мирового рынка одних стран другими, периодические переделы уже поделенного мира в порядке военных столкновений и военных катастроф...» (И.В.Сталин, Соч., т.9, стр. 106). Империалистические войны, будучи порождением неравномерности экономического развития капитализма, приводят к еще большему обострению этой неравномерности.
Например, Англия длительное время шла впереди всех других Империалистических государств, потом Германия стала перегонять Англию и другие государства. Неравномерностью развития капитализма в разных странах и была порождена первая мировая война 1914—1918 гг., результатом которой оказалось значительное усиление США.
Вторая мировая война, которая также была порождена неравномерностью экономического и политического развития стран при империализме, привела к дальнейшему обострению этой неравномерности. США оказались единственной капиталистической державой, которая вышла из войны значительно усилившейся в экономическом и военном отношении, тогда как два самых крупных конкурента США — Германия и Япония — выведены из строя в результате войны, а капиталистические партнеры США — Англия и Франция — значительно ослабли и оттеснены на второй и третий план.
Жесточайшие конфликты в лагере империалистов и острейшая борьба, которая происходит между ними на основе присущей империализму неравномерности капиталистического развития, а также крайнее обострение всех противоречий империализма приводят к ослаблению империализма, к возникновению слабых звеньев в его системе.
«А чем определяется слабость империалистической цепи в данной стране? Наличием известного минимума промышленного развития и культурности в этой стране. Наличием в ней известного минимума индустриального пролетариата. Революционностью пролетариата и пролетарского авангарда в этой стране. Наличием в ней серьёзного союзника пролетариата (например, крестьянство), способного пойти за пролетариатом в решительной борьбе против империализма. Следовательно, сочетанием условий, делающих неминуемыми изоляцию и свержение империализма в этой стране» (И.В.Сталин, Соч., т.12, стр. 138-139).
Так, исходя из законов империализма, Ленин и Сталин разработали теорию социалистической революции. «Это была новая, законченная теория социалистической революции, теория о возможности победы социализма в отдельных странах, об условиях его победы, о перспективах его победы, теория, основы которой были намечены Лениным еще в 1905 году в брошюре «Две тактики социал-демократии в демократической революции»» («История ВКПб. Краткий курс», стр. 163).
Великое значение этой теории состоит в том, что она дает революционную перспективу пролетариям отдельных стран, развязывает их революционную инициативу и освобождает от пассивного выжидания «всеобщей развязки»; она учит их использовать всякую благоприятно складывающуюся обстановку для решительного штурма империализма. Опираясь на эту гениальную ленинско-сталинскую теорию, рабочий класс России совершил свою победоносную социалистическую революцию.
Великая Октябрьская социалистическая революция как начало мировой революция и база ее развертывания
Ленинско-сталинская теория о возможности победы социализма первоначально в одной стране или немногих странах есть вместе с тем теория развития мировой пролетарской революции, устанавливающая связь мировой революции с революциями в отдельных странах. Раскрывая эту связь, товарищ Сталин показал две стороны вопроса о возможности победы социализма в одной стране — внутреннюю и внешнюю. Он расчленил этот вопрос на два вопроса: на вопрос о возможности построения в СССР полного социалистического общества и на вопрос об окончательной победе социализма в смысле полной гарантии от реставрации капитализма. В ходе борьбы за построение социализма в СССР товарищ Сталин развил дальше ленинскую аргументацию в пользу того, что рабочий класс и крестьянство СССР вполне могут ликвидировать собственную буржуазию и построить полное социалистическое общество. Конкретизируя теорию о возможности построения социализма в одной стране, товарищ Сталин пришел к выводу о том, что возможно построение и полного коммунизма в СССР даже при условии, если сохранится капиталистическое окружение. Такова внутренняя сторона вопроса о победе социализма и коммунизма в одной стране.
Вместе с тем товарищ Сталин учит, что советский народ одними лишь собственными силами не может уничтожить внешнюю опасность капиталистической интервенции против СССР.
«Не может, так как для уничтожения опасности капиталистической интервенции необходимо уничтожить капиталистическое окружение, а уничтожить капиталистическое окружение возможно лишь в результате победоносной пролетарской революции по крайней мере в нескольких странах» («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 261—262.)
Из этого следует, что победа пролетарской революции в капиталистических странах является кровным интересом трудящихся СССР, что судьбы победившего в одной стране социализма зависят и от победы социализма в других странах. Значит, трудящиеся страны победившего социализма не должны рассматривать свою страну как самодовлеющую величину, изолированную от других стран, а заинтересованы в ускорении победы пролетариата во всех странах.
С другой стороны, судьбы революционно-освободительного движения в других странах теснейшим образом связаны с успехами социализма в СССР, с укреплением социалистической мощи и обороноспособности первой страны победившего социализма.
«Если верно положение,— писал товарищ Сталин,— что окончательная победа социализма в первой освободившейся стране невозможна без общих усилий пролетариев нескольких стран, то столь же верно и то, что мировая революция будет развёртываться тем скорее и основательнее, чем действительнее будет помощь первой социалистической страны рабочим и трудящимся массам всех остальных стран» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 399).
Товарищ Сталин учит, что Октябрьская социалистическая революция является не только революцией в национальных рамках, она по своему характеру есть интернациональная революция, часть мировой пролетарской революции. С победой советской революции наступила эпоха мировой пролетарской революции. Интернациональный характер Октябрьской социалистической революции находит свое выражение в том, что она явилась поворотом не только в истории России, но и во всемирной истории человечества. Прорвав фронт империализма, свергнув буржуазное господство в одной из самых больших капиталистических стран и установив диктатуру пролетариата, Октябрьская социалистическая революция явилась переломом в исторических судьбах мирового капитализма и в освободительном движении трудящихся всего мира. Она, как учит товарищ Сталин, «открыла новую эпоху, эпоху пролетарских революций в странах империализма» (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 241). Она «открыла новую эпоху, эпоху колониальных революций, проводимых в угнетённых странах мира в союзе с пролетариатом, под руководством пролетариата» (Там же, стр. 243), она поставила под вопрос «самое существование мирового капитализма в целом» (Там же, стр. 245).
Октябрьская социалистическая революция нанесла громадной силы удар по системе империализма, оказала глубокое революционизирующее воздействие на трудящихся всех стран, явилась вдохновляющим примером и образцом, дающим, по словам товарища Сталина, «картину того, чем должна быть в основном пролетарская революция в любой стране» (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 151).
Рабочий класс стран Центральной и Юго-Восточной Европы использовал победу Советского Союза во второй мировой войне и его решающую помощь в изгнании из этих стран гитлеровских оккупантов. Опираясь на опыт советской революции, он уверенно пошел на установление пролетарской диктатуры, на борьбу за построение социализма в своих странах.
Октябрьская социалистическая революция оказала громадное революционизирующее воздействие и на национально-освободительное движение. Усиление национально-колониального гнета империализма вызывает неизбежное возмущение угнетенных масс. Руководство же национально-освободительным движением по необходимости переходит к пролетариату. Национальная буржуазия колоний вследствие своей зависимости от империализма и боязни революционного движения пролетариата неспособна возглавить борьбу народа за свержение иноземного господства. Это наглядно подтвердила история китайской революции.
В первый период национально-освободительной борьбы в Китае, до 1927 г., национальная буржуазия Китая шла вместе с народом. «Это была революция объединённого общенационального фронта» (И. В. Сталин, Соч., т. 9, стр. 223). Но страх перед возраставшим размахом революции отбросил национальную китайскую буржуазию в лагерь реакции, что и нашло свое выражение в контрреволюционном перевороте, совершенном Чан Кай-ши в 1927 г.
«Переворот Чан Кай-ши, — писал товарищ Сталин,— означает, что революция вступила во второй этап своего развития, что начался поворот от революции общенационального объединённого фронта к революции многомиллионных масс рабочих и крестьян, к революции аграрной, которая усилит и расширит борьбу против империализма, против джентри и феодальных помещиков, против милитаристов и контрреволюционной группы Чан Кай-ши.
Это значит, что борьба между двумя путями революции, между сторонниками дальнейшего её развёртывания и сторонниками её ликвидации, будет обостряться изо дня в день, наполняя собой весь нынешний период революции» (И.В.Сталин, Соч., т.9, стр. 226).
В ходе этой борьбы гегемония в революции не могла не перейти и перешла в руки пролетариата и его авангарда — коммунистической партии. Революция в Китае развивалась при обстоятельствах, которые дали ей возможность использовать пример, опыт и помощь победившей революции в Советском Союзе, Сказалось действие того закона, в силу которого после победы советской революции в России «наступила эра освободительных революций в колониях и зависимых странах, эра пробуждения пролетариата этих стран, эра его гегемонии в революции» (И.В.Сталин, Соч., т.10, стр. 245).
Переход гегемонии в национально-колониальных революциях к пролетариату привел к тому, что национально-освободительное движение, являвшееся раньше частью общедемократического движения, стало ныне частью мировой пролетарской революции.
Советская революция не только открыла эру мировой пролетарской революции, но и обеспечила и ускорила ее развертывание. Победа Советского Союза в Отечественной войне 1941— 1945 гг. имеет огромное значение для приближения сроков торжества социалистической революции во всем мире. Эта победа, явившаяся закономерным историческим следствием Великой Октябрьской социалистической революции, с огромной силой подтолкнула ход всемирной истории и явилась могучим ускорителем в объединении различных потоков освободительного движения, в приближении капиталистических стран к социалистической революции. Образование после второй мировой войны стран народной демократии, вступивших на путь социализма, победа народно-демократической антифеодальной и антиимпериалистической революции в Китае, образование Германской демократической республики — такова линия развития, осуществляющаяся благодаря победе Советского Союза во второй мировой войне.
Почти все страны народной демократии не принадлежали к типу стран с высоко развитым капитализмом, стоящих непосредственно перед социалистической революцией. Среди них были страны, например Польша, Румыния, капиталистически мало развитые, со значительными феодальными пережитками, где аграрный вопрос играл огромную роль. Эти страны стояли перед буржуазно-демократическими революциями, которые могли перерастать более или менее быстро в социалистические революции. Победа Советского Союза над гитлеровской Германией сыграла решающую роль в возникновении в этих странах народно-демократического режима, который является формой пролетарской диктатуры. Подъем национально-освободительной борьбы народов этих стран против фашистских захватчиков и их пособников, который был вызван великим примером Отечественной войны Советского Союза и увенчался победой благодаря тому, что Советская Армия разгромила гитлеровских оккупантов,— этот национально-освободительный подъем перерос в борьбу за свержение империализма в этих странах и за установление в них пролетарской диктатуры в особой форме народной демократии. Благодаря Советской Армии народно-демократический режим смог утвердиться и упрочиться в этих странах, без крупных вооруженных восстаний и без гражданской войны.
На основе народно-демократической власти, утвердившейся в странах Центральной и Юго-Восточной Европы после изгнания немецко-фашистских оккупантов, была осуществлена аграрная реформа, передавшая землю крестьянам и ликвидировавшая класс помещиков, конфискована собственность фашистских ставленников и пособников, национализированы банки и крупная промышленность. Всем этим была «заложена основа государственной общенародной собственности, был создан новый тип государства — народная республика, где власть принадлежит народу, крупная промышленность, транспорт и банки принадлежат государству и ведущей силой является блок трудящихся классов населения во главе с рабочим классом. В итоге народы этих стран не только избавились от тисков империализма, но закладывают основу перехода на путь социалистического развития» (А.А. Жданов, О международном положении, Госполитиздат, 1947, стр. 8).
Таким образом, восторжествовавшая в этих странах диктатура пролетариата в форме народно-демократической власти, попутно решив задачи буржуазно-демократического характера, приступила к решению задач, составляющих содержание социалистической революции, к строительству социализма. Существование Советского Союза и его помощь имеют решающее значение в развитии стран народной демократии по пути к социализму.
Решающую роль сыграли существование и поддержка Советского Союза и в победе народно-демократической революции в Китае.
Китай представляет собой аграрную страну с незначительным удельным весом крупной капиталистической промышленности, с наличием огромного количества ремесленников, страну, в течение длительного времени находившуюся на положении колонии англо-американского и японского империализма. Великий китайский народ под руководством коммунистической партии вел длительную войну против гоминдановской реакции, против японского, а затем и против американского империализма. Эта антиимпериалистическая национально-освободительная война, являющаяся одновременно антифеодальной демократической революцией, увенчалась великой победой, приведшей к установлению революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, руководимой коммунистической партией.
Победа Советского Союза во второй мировой войне освободила Китай от японского империализма, расчистила китайскому народу дорогу к завоеванию национальной независимости и к разгрому реакционных сил внутри страны, которые были главной опорой для американских и английских империалистических поработителей. Победа Советского Союза во второй мировой войне сделала возможным торжество народной республики Китая, осуществляющей глубокие демократические социально-экономические преобразования.
В результате победы народно-демократической антифеодальной революции в Китае подорваны основы феодального землевладения, земля помещиков и национальных предателей конфискуется и распределяется среди безземельных и малоземельных крестьян. Конфискованы и переданы государству промышленные, сельскохозяйственные и торговые предприятия, принадлежавшие реакционной гоминдановской верхушке и другим предателям китайского народа. Создан сектор государственной экономики, которому обеспечена возрастающая роль в народном хозяйстве.
Победа Советского Союза во второй мировой войне привела к ослаблению позиций империалистической реакции во всем мире. Наряду с победами рабочего класса в странах народной демократии усилились позиции рабочего класса во Франции и в Италии. Коммунистические партии этих стран выросли в большую и деятельную политическую силу. Лишь открытое я наглое вмешательство англо-американского империализма во внутренние дела Франции и Италии спасло на время буржуазию этих стран от разгрома силами социалистического пролетариата.
Все более надламываются устои колониальной системы империализма. Развивается национально-освободительная революционная борьба во Вьетнаме, Индонезии, Бирме, на Филиппинах и в других колониальных странах. Крупным событием в национально-освободительном движении народов является освободительная война корейского народа против американских интервентов и их агентуры — лисынмановцев, за воссоединение Кореи, за демократический путь ее развития.
Империалистический лагерь мировой реакции возглавляется ныне империалистами США и Англии. Это налагает особую ответственность на рабочий класс этих стран. Пролетарский интернациональный долг и коренные классовые интересы требуют от пролетариата США и Англии развертывания революционной борьбы против собственной буржуазии.
Антиимпериалистический лагерь ширится и крепнет. Неуклонно расширяется социальная база пролетарской революции.
Во главе антиимпериалистического фронта идут коммунистические партии, руководящие могущественным движением миллионных масс, высоко неся знамя международной солидарности в борьбе трудящихся против их классового врага. Коммунистические партии, верные ленинскому интернационализму, несут в массы трудящихся учение марксизма-ленинизма, идеи пролетарской революции, диктатуры пролетариата и социализма. Коммунистические партии проводят последовательную классовую борьбу рабочих и всех трудящихся против эксплуататоров, возглавляют борьбу народов за мир, за их национальный суверенитет, за свободу, за социализм.
Ход истории неизбежно ведет к тому, что мировая пролетарская революция будет развиваться путем дальнейшего отпадения новых и новых стран от системы империализма.
Крах реформизма, торжество ленинизма
Ленинско-сталинская теория социалистической революции разрабатывалась в борьбе со всеми врагами рабочего класса, с врагами пролетарской революции, в особенности с оппортунизмом в рядах самого рабочего движения.
С того времени как марксизм одержал полную теоретическую победу и стал распространяться среди широких масс пролетариев, агентура буржуазии в рабочем движении стала маскироваться под марксистов, социалистов. Враги рабочего класса пользовались и пользуются этой маскировкой, для того чтобы обезоружить его и сделать послушным рабом капитала, неспособным к сопротивлению. Социал-оппортунисты на протяжении многих десятков лет предают интересы пролетариата.
Начав свою эволюцию с реформизма, оппортунизм дошел ныне до самого обнаглевшего социал-империализма, прикрывающего свое служение интересам хищнического и разбойничьего империализма «социалистической» и «демократической» фразеологией. Ныне правые социалисты открыто порвали с марксизмом и проповедуют теории, заимствованные из арсенала буржуазии.
Идеология реформизма и оппортунизма в рабочем движении сводится к идее классового мира между эксплуатируемыми и эксплуататорами, к изысканию всевозможных софизмов и лживых теорий, для того чтобы доказать, будто противоречия в общественном и политическом положении эксплуататоров и эксплуатируемых постепенно сглаживаются и изживаются, будто происходит и идеологическое сближение антагонистических классов, якобы обретающих общий язык для совместного разрешения классовых конфликтов.
Одним из средств, рассчитанных на то, чтобы отвратить пролетариат от революции, была социал-предательская идея о якобы неизбежном столкновении в ходе революции пролетариата с крестьянством; ее в целях обмана рабочего класса усиленно пропагандировали враги народа — троцкисты.
По своей классовой сущности идеология и политика социал-оппортунизма сводятся к поддержке господства эксплуататоров, к поддержке насилия, беспрерывно и ежедневно учиняемого эксплуататорскими классами над эксплуатируемым народом, и к недопущению революционного насилия со стороны рабочих, трудящихся по отношению к угнетателям. Больше того, ныне правые социалисты выступают во Франции, в Англии и других капиталистических странах в роли палачей, организаторов и вдохновителей кровавых расправ над бастующими рабочими, над народами колоний и зависимых стран. Они выполняют роль пособников в угнетении империализмом колониальных и зависимых стран.
Социал-предатели, ратуя за «мир» и «сотрудничество» между пролетариатом и буржуазией, в то же время проводят политику раскола рабочего класса, политику изоляции пролетариата от трудящегося крестьянства, от национально-освободительного движения угнетенных народов колоний.
В наши дни социал-предательство приняло самый оголтелый вид. Идеологически правые социалисты откровенно смыкаются с клерикализмом и мистикой. Они уже не довольствуются насквозь буржуазными идеями так называемого «этического социализма», проповедывавшего недопустимость насилия по отношению к эксплуататорам, и пускают в ход новые реакционные теории о так называемом «спиритуалистическом социализме», «духовном социализме», «гуманистическом социализме» и т. п.
Вот подлые заявления правых социалистов, предателей рабочего класса: «Материалистическая теория революции и сама тактика в той мере, в какой она является ее прямым следствием, должна быть отброшена. Мы превзошли Маркса и основала на базе спиритуализма доктрину революции». Согласно этой «доктрине» превращение капитализма в социализм должно осуществиться «посредством революции, которая непрерывно происходит внутри всех людей — рабочих, банкиров и т.д., равно хранящих извечные моральные ценности потенциального социализма, и социализм должен притти не в результате классовой борьбы, а в результате действия людей всех классов на основе всеобщего признания понятия о правах человека и гражданина». К этому заявлению Ж. Изора, одного из выучеников социал-империализма, Леон Блюм прибавил, что «буржуазия в великих англо-саксонских странах согласилась на такие обновления, которые равнозначны их добровольному самоотречению, и что главным препятствием, задерживающим процесс морально-гуманистического оздоровления, является классовое сознание рабочих и их классовая борьба». В соответствии с этим «спиритуалистическим социализмом» правые социалисты Франции на съезде в 1946 г. исключили из своей программы упоминания о классовой борьбе.
К этому кругу идей сводится современный так называемый «демократический социализм» французских и итальянских правых социалистов, английских лейбористов, австрийских и немецких социал-демократов. Если, следовательно, кого и превзошли нынешние лжесоциалисты, так это своих оппортунистических отцов, превзошли в ненависти к рабочему классу и всем трудящимся, в удушении всякого освободительного движения. Вся внутренняя и внешняя политика современных правых социалистов, орудующих в министерских кабинетах и около них, свидетельствует об их полном сращивании с империалистической буржуазией.
Такая эволюция социал-оппортунизма, завершившаяся его окончательным переходом в лагерь империализма, отнюдь не случайна и является одним из выражений той исторической закономерности, в силу которой произошел раскол мира на два лагеря — на лагерь империалистический, антидемократический, и лагерь антиимпериалистический, демократический. Борьба этих двух лагерей составляет центральную ось современного исторического развития, которое идет к неизбежному революционному краху империализма во всем мире и к полной победе коммунизма.
Итак, социальная революция является важнейшим законом общественного развития, необходимой и неизбежной формой перехода от одной общественной формации к другой. Социалистическая революция есть закон перехода от капитализма к социализму. Это доказали теоретически Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, это подтвердила Великая Октябрьская социалистическая революция и победа социализма в СССР, это подтвердил опыт всего мирового рабочего движения.
Марксистские партии всех стран, чтобы не ошибиться в политике, должны опираться в своей деятельности на ленинско-сталинскую теорию социалистической революции.
Глава девятая. Советское социалистическое государство
1. Диктатура пролетариата — новый тип государства
Главным вопросом марксизма-ленинизма является вопрос о диктатуре пролетариата. Основоположники марксизма-ленинизма показали, что диктатура пролетариата является коренным содержанием социалистической революции.
В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс указывали, что первым шагом пролетарской революции является превращение пролетариата в господствующий класс. Пролетариат использует свое политическое господство, для того чтобы вырвать у буржуазии весь капитал, сосредоточить все средства производства «в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, 1950, стр. 55.). В этих словах Маркса и Энгельса дана одна из первых формулировок идеи диктатуры Пролетариата. Она была в дальнейшем конкретизирована Марксом и Энгельсом на основе обобщения опыта революций XIX в., в особенности опыта Парижской Коммуны 1871 г., представлявшей первую героическую попытку пролетариата установить свою диктатуру.
Ленин и Сталин развили идею диктатуры пролетариата в цельную и стройную теорию. Осуществленная под их руководством победоносная Великая Октябрьская социалистическая революция привела к установлению в России диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата представляет орудие пролетарской революции, ее важнейший опорный пункт. «Победить буржуазию, свергнуть её власть революция сможет и без диктатуры пролетариата. Но подавить сопротивление буржуазии, сохранить победу и двинуться дальше к окончательной победе социализма революция уже не в состоянии, если она не создаст на известной ступени своего развития специального органа в виде диктатуры пролетариата, в качестве своей основной опоры» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 109).
Коренное отличие диктатуры пролетариата от всех прежних типов государства
Диктатура пролетариата есть новый тип государства, который коренным образом отличается от всех предшествующих типов государства. Пролетарское государство отличается от прежних государств по своему классовому содержанию, по форме государственной организации, по своему историческому назначению и по роли в развитии общества.
Возникновение пролетарского государства означает глубочайший поворот во всемирной историй. На протяжении веков и тысячелетий государство выражало политическое господство эксплуататорских классов и служило орудием подавления трудящихся классов, закрепляло эксплуатацию человека человеком. Лишь с захватом власти пролетариатом к политическому господству поднимается класс эксплуатируемых, впервые в истории возникает государство, призванное не закреплять, а уничтожить эксплуатацию человека человеком. Государство служит пролетариату для того, чтобы подавить сопротивление свергнутых эксплуататорских классов, довести до конца пролетарскую революцию, уничтожить классы и добиться полной победы коммунизма. Пролетариат не может осуществить свой великую историческую роль свержения капитализма и создания коммунизма, иначе как путем установления своей революционной диктатуры, создания своего государства.
Диктатура пролетариата возникает не на основе мирного, эволюционного развития старых, буржуазных порядков, а на основе их революционной ломки. Ленин и Сталин не раз подчеркивали, что установление диктатуры пролетариата отнюдь не тождественно простой смене лиц в правительстве, смене «кабинета». Пролетарская революция не оставляет в неприкосновенности старые экономические и политические порядки, она ломает старый аппарат государственной власти. Ленин и Сталин разоблачили предательство правых социалистов, который в страхе перед диктатурой пролетариата подменяли понятие диктатуры понятием «завоевания власти», а «завоевание власти» сводили к смене «кабинета». Исторический опыт показывает, что приход к власти так называемых «социалистических» правительств (вроде правительства лейбористов в Англии) не влечет за собой никаких сколько-нибудь существенных изменений в буржуазном государстве и его политике. Такие правительства, по выражению товарища Сталина, не могут быть ничем иным, кроме обслуживающего аппарата в руках буржуазии, кроме прикрытия язв империализма, кроме орудия в руках буржуазии против революционного движения угнетенных масс. От таких правительств до завоевания власти пролетариатом так же далеко, как от земли до неба.
«Диктатура пролетариата, — указывал товарищ Сталин, — есть не смена правительства, а новое государство, с новыми органами власти в центре я на мостах, государство пролетария та, возникшее на развалинах старого государства, государства буржуазии.
Диктатура пролетариата возникает не на основе буржуазных порядков, а в ходе их ломки, после свержения буржуазии, в ходе экспроприации помещиков и капиталистов, в ходе социализации основных орудий и средств производства, в ходе насильственной революции пролетариата» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 113—114).
Диктатура пролетариата ликвидирует старые и создает новые политические, правовые и иные учреждения. Классическим примером, показывающим, как решает победивший пролетариат эти задачи, являются мероприятия, осуществленные Великой Октябрьской социалистической революцией в России. Российский пролетариат, руководствуясь идеями марксизма-ленинизма, с революционной смелостью и решимостью осуществил слом старой государственной машины и заменил ее новой государственной машиной.
Без ликвидации старых и создания новых политических и правовых учреждений не могла быть удержана и упрочена диктатура пролетариата, не мог бы победить социализм. «Уничтожить старую надстройку и заменить её новой можно и нужно в течение нескольких лет, чтобы дать простор развитию производительных сил общества...» (И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 10) — учит товарищ Сталин.
Три стороны диктатуры пролетариата
Товарищ Сталин следующим образом определил три основные стороны диктатуры пролетариата:
«1) Использование власти пролетариата для подавления эксплуататоров, для обороны страны, для упрочения связей с пролетариями других стран, для развитая и победы революции во всех странах.
Использование власти пролетариата для окончательного отрыва трудящихся и эксплуатируемых масс от буржуазии, для упрочения союза пролетариата с этими массами, для вовлечения этих масс в дело социалистического строительства, для государственного руководства этими массами со стороны пролетариата.
Использование власти пролетариата для организации социализма, для уничтожения классов, для перехода в общество без классов, в социалистическое общество» (И.В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 30.).
Первая сторона диктатуры пролетариата определяет ее историческое назначение в борьбе против эксплуататорских классов и их государств, выражает главным образом насильственную сторону диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата рождается и укрепляется в ходе ожесточенной классовой борьбы против свергнутых эксплуататорских классов внутри страны и поддерживающих их капиталистических государств за пределами страны. Она осуществляет подавление классовых врагов пролетариата революционными методами. В этом смысле Ленин говорил: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 441.).
Как известно, прежние государства также представляли собой орудие господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. Однако прежние государства выражали диктатуру эксплуатирующего меньшинства над эксплуатируемым большинством, тогда как диктатура пролетариата является диктатурой эксплуатируемого большинства над эксплуатирующим меньшинством. В этом — одно из принципиальных отличий диктатуры пролетариата от всех прежних и ныне существующих эксплуататорских государств.
Выражая задачи пролетарского государства в борьбе против эксплуататорских классов, первая сторона диктатуры пролетариата включает также использование пролетариатом своей государственной власти для упрочения связей с пролетариатом других стран, для помощи им в деле их освобождения от ярма капитализма. Пролетариат первой победившей страны призван оказывать всестороннюю братскую помощь трудящимся других стран, которые сбрасывают с себя оковы капитализма и становятся на путь социализма. Осуществление этой задачи укрепляет позиции первой победившей страны в борьбе против мирового империализма.
Вторая сторона диктатуры пролетариата определяет ее назначение в отношении непролетарских трудящихся масс, прежде всего крестьянства. Эта сторона диктатуры пролетариата выражается главным образом в руководстве крестьянством со стороны пролетариата, стоящего у власти.
Пролетариат — единственный последовательно революционный класс, способный уничтожить всякую эксплуатацию. Именно поэтому диктатура пролетариата означает власть одного класса — пролетариата, который не делит и не может делить ее с другими классами. Но это нисколько не противоречит тому, что диктатура пролетариата представляет вместе с тем особую форму классового союза между классом пролетариев и трудящимися массами мелкобуржуазных классов, прежде всего крестьянства, при руководящей роли пролетариата в этом союзе». Развивая учение о диктатуре пролетариата, Ленин раскрыл скобки в формуле диктатуры пролетариата под углом зрения проблемы о союзниках пролетариата. «Диктатура пролетариата, — учил Ленин, — есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и т. д.), или большинством их, союза против капитала, союза в целях полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончательного создания и упрочения социализма» (В. И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 350—351.).
Лишь в союзе с непролетарскими трудящимися я эксплуатируемыми массами пролетариат может завоевать и удержать государственную власть. Поэтому Ленин указывал, что высший принцип диктатуры пролетариата — это поддержание союза пролетариата с трудящимся крестьянством, такого союза, при котором он, пролетариат, мог бы удержать руководящую роль н государственную власть. Пролетарское государство, будучи властью одного класса, опирается на поддержку непролетарских масс трудящихся, на союз рабочего класса и крестьянства. Завоевать поддержку всех трудящихся пролетариат может и должен потому, что своей борьбой против эксплуатации он выражает коренные, общие интересы всех трудящихся и эксплуатируемых. Поэтому он имеет возможность оторвать их от буржуазии, установить прочный союз с ними и обеспечить их постепенное вовлечение в социалистическое строительство. В поддержке, оказываемой пролетарскому государству широчайшими массами трудящихся, выражается одно из его принципиальных отличий от всех эксплуататорских государств.
Третья сторона диктатуры пролетариата определяет ее роль в преобразовании всего общества. Она характеризует диктатуру пролетариата как рычаг социалистического преобразования экономики и культуры страны, как орудие перевоспитания масс в духе социализма, как орудие уничтожения классов и построения коммунизма.
Как и всякое государство, пролетарское государство представляет собой политическую надстройку, складывающуюся на основе экономического базиса и в свою очередь оказывающую активное влияние па его развитие. Однако характер этого влияния, роль пролетарского государства в развития экономики совершенно несравнимы с влиянием и ролью предыдущих государств.
Ни одно из предыдущих государств не было и не могло быть орудием сознательного строительства нового общества. Так, например, буржуазное государство, родившееся в результате свержения абсолютизма, возникло на основе уже развившихся капиталистических производственных отношений. Буржуазное государство лишь способствовало победе капиталистического строя и расчищало дорогу его дальнейшему развитию.
Совершенно иную роль играет социалистическое государство, рождающееся в результате пролетарской революции. Пролетарская революция, указывает товарищ Сталин, начинается при отсутствии, или почти при отсутствии, готовых форм социалистического уклада хозяйства; она имеет своей задачей установить государственную власть пролетариата и использовать ее как рычаг для построения новой, социалистической экономики. Пролетарское, социалистическое государство потому и возникает, что без него невозможно подавить сопротивление свергнутых эксплуататоров и построить социалистическое общество.
Пролетарское государство сразу же после победы революции берет в свои руки основные рычаги экономического развития, такие командные высоты народного хозяйства, как крупная промышленность, банки, железные дороги, средства связи, внешняя торговля и т. п. Опираясь на эти командные высоты, оно преобразует на началах социализма всю экономику страны, направляя ее развитие к коммунизму.
Из этого можно видеть, что историческое назначение диктатуры пролетариата не исчерпывается революционным насилием, что насилие нельзя считать не только единственным, но и главным признаком диктатуры пролетариата. Ленин учил, что диктатура пролетариата «означает не только насилие, хотя она невозможна без насилия, она означает также организацию труда более высокую, чем предыдущая организация» (В. И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 343.). В более высокой организации труда Ленин видел источник силы коммунизма и залог его неизбежной победы.
Диктатура пролетариата есть соединение всех трех сторон. Товарищ Сталин показал, что «ни одна из этих сторон не может быть выдвинута как единственно характерный признак диктатуры пролетариата, и, наоборот, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы диктатура пролетариата перестала быть диктатурой в обстановке капиталистического окружения» (И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 30.). Только соединение всех этих трех сторон дает полное и законченное понятие диктатуры пролетариата.
Однако это не значит, что соотношение этих трех сторон диктатуры пролетариата остается неизменным. Диктатура пролетариата охватывает целую историческую эпоху, и на разных этапах развития страны победившего пролетариата на первое место выдвигаются различные стороны пролетарской диктатуры.
Диктатура пролетариата как высший тип демократии в классовом обществе
Диктатура пролетариата есть новый тип демократии, несравненно более высокий, чем буржуазная демократия. Отмечая то новое, что внес Ленин в учение о диктатуре пролетариата, товарищ Сталин указывал, что Ленин «подчеркнул с особой силой тот факт, что диктатура пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе, формой пролетарской демократии, выражающей интересы большинства (эксплуатируемых), — в противовес демократии капиталистической, выражающей интересы меньшинства (эксплуататоров)» (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 94—95.).
Презренные лакеи буржуазии вроде Каутского и Ко утверждали, что диктатура и демократия — это абсолютно несовместимые понятия, что диктатура означает уничтожение демократии. Ленин разоблачил софистику Каутского и доказал, что это явно неверно. Античное государство, например, представляло собой диктатуру рабовладельцев, что особенно наглядно обнаруживалось во времена восстаний рабов. Уничтожала ли эта диктатура демократию для рабовладельцев? Конечно, нет. «...Диктатура, — разъяснял Ленин, — не обязательно означает уничтожение демократии для того класса, который осуществляет эту диктатуру над другими классами, но она обязательно означает уничтожение (или существеннейшее ограничение, что тоже есть один из видов уничтожения) демократии для того класса, над которым или против которого осуществляется диктатура» (В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 215.).
Ленин решительно отвергал рассуждения прихвостней буржуазии о демократии и диктатуре «вообще». Он требовал, чтобы вопрос ставился конкретно: против кого или над кем осуществляется диктатура, для кого существует демократия. «Чистой» демократии, о которой твердил Каутский и продолжают ныне твердить изменники социализма — правые социалисты, нет и никогда не может быть в обществе, разделенном на антагонистические классы. В таком обществе демократия всегда носит классовый характер.
«Пусть лжецы и лицемеры, тупицы и слепцы, буржуа и их сторонники надувают народ, говоря о свободе вообще, о равенстве вообще, о демократии вообще.
Мы говорим рабочим и крестьянам: срывайте маску с этих лжецов, открывайте глаза этим слепцам. Спрашивайте:
— Равенство какого пола с каким полом? — Какой нации с какой нацией? — Какого класса с каким классом? — Свобода от какого ига или от ига какого класса? Свобода для какого класса?» (В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, изд. 3, стр. 518).
Тот, кто не ставит вопроса о классовом содержании демократии, кто говорит о буржуазной демократии, как о демократии «вообще», тот обманывает трудящихся, жульнически замалчивает, что в буржуазном государстве существует демократия лишь для богатых, лишь для имущей верхушки общества.
Диктатура пролетариата, указывал Ленин, является государством по-новому диктаторским и по-новому демократическим. Оно осуществляет диктатуру против эксплуататорских классов, представляющих небольшое меньшинство населения, и обеспечивает демократию для громадного большинства населения, для трудящихся.
Осуществление основных задач диктатуры пролетариата, всех трех ее сторон, невозможно иначе, как путем развертывания пролетарской демократии. Использование власти пролетариата для организации социализма обязательно требует привлечения к строительству социалистического хозяйства широчайших масс трудящихся, мобилизации их творческой энергии и инициативы. В ходе осуществления этой задачи из среды трудящихся выдвигаются тысячи и сотни тысяч организаторов и руководителей, в духовном росте которых отражается рост политической активности и государственного самосознания трудового народа. Использование власти пролетариата для государственного руководства непролетарскими трудящимися массами предполагает привлечение этих масс к управлению государством. И, наконец, первая сторона диктатуры пролетариата, предполагающая использование власти пролетариата для подавления эксплуататоров, также требует развертывания активности масс, ибо нельзя успешно подавлять сопротивление классового врага, не мобилизуя на осуществление этой задачи широкие массы трудящихся.
Установление диктатуры пролетариата означает громадное расширение демократии, замену лицемерной, ограниченной буржуазной демократии демократией пролетарской, обеспечивающей широчайшие демократические права для трудящихся, т. е. сначала для большинства, а затем для всех. Это расширение рамок демократии неразрывно связано с изменением ее классовой природы. «Здесь, — указывал Ленин, — наблюдается как раз один из случаев «превращения количества в качество»: демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую...» (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 391.).
Пролетарская демократия представляет собой демократию нового, более высокого типа, чем демократия буржуазная, еще и потому, что она кладет конец разрыву между провозглашением демократических прав и свобод и их реальным осуществлением. Ленин уже в первые годы революции отмечал, что только при советском строе свобода печати, собраний и т. д. перестает быть лицемерием, ибо типографии и бумага, лучшие здания отбираются у буржуазии и передаются в руки трудящихся. В Конституции РСФСР 1918 г. были не только провозглашены демократические права и свободы, но и указаны материальные гарантии их осуществления. Эта характерная черта социалистической демократии получила дальнейшее развитие в Конституции СССР 1936 г. Товарищ Сталин отмечал, что проект Конституция СССР «не просто провозглашает равенство прав граждан, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта ликвидации режима эксплоатации, факта освобождения граждан от всякой эксплоатации. Он не просто провозглашает право на труд, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта отсутствия кризисов в советском обществе, факта уничтожения безработицы. Он не просто провозглашает демократические свободы, но и обеспечивает их в законодательном порядке известными материальными средствами. Понятно поэтому, что демократизм проекта новой Конституции является не «обычным» и «общепризнанным» демократизмом вообще, а демократизмом социалистическим» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 518).
Характер демократизма всегда определяется природой общественного строя. Буржуазная демократия является отражением капиталистического строя с его отношением формально равных товаровладельцев, за которыми скрываются отношения капиталистической эксплуатации. Советская социалистическая демократия отображает отношения нового, социалистического строя, исключающего эксплуатацию человека человеком. Экономической основой развернутой социалистической демократии является ликвидация капиталистической системы и установление социалистической системы хозяйства, осуществляемые на основе диктатуры рабочего класса.
2. Советы — государственная форма диктатуры пролетариата
Открытие Лениным Советов как новой формы политической организации общества
Пролетарскому содержанию государства соответствует и новая форма политической организации общества. Как покапал Ленин, наиболее целесообразной формой политической организации общества в период перехода от капитализма к коммунизму являются Советы.
До второй русской революции (февраль 1917 г.) марксисты считали наиболее целесообразной формой политической организации в переходный период от капитализма к социализму парламентарную демократическую республику. Такое мнение объяснялось тем, что парламентарная демократическая республика была наиболее прогрессивной из всех известных тогда форм политической организации общества.
Но уже в 70-х годах XIX в., когда героический рабочий класс Парижа сделал первую попытку установить диктатуру пролетариата, творческим почином революционных пролетарских масс была рождена новая, более высокая форма политической организации общества. Оценивая этот почин, Маркс показал, что Парижская Коммуна 1871 г. представляла собой государственную организацию нового типа. Она упраздняла старую армию, заменив её вооруженным народом, упразднила старое чиновничество, заменив его выборными в сменяемыми, ответственными перед народом должностными лицами. Парламент, являющийся в буржуазных государствах просто «говорильной», Парижская Коммуна заменила работающими представительными учреждениями. И хотя существование Парижской Коммуны было крайне кратковременным, оно дало Марксу материал для вывода о том, какие конкретные формы должна принять организация пролетариата как господствующего класса.
Однако вывод Маркса о Коммуне как новой форме государственной организации, при которой может быть совершен переход к социализму, не получил дальнейшего развития в его трудах. Последующий опыт рабочего движения в Западной Европе не дал дополнительного материала для разработки этого вопроса. После поражения Парижской Коммуны настал период относительно «мирного» развития капитализма, продолжавшийся до первой русской революции (1905 г.), период, в течение которого социалистические партии в Западной Европе стремились использовать буржуазный парламентаризм, создавали свои профессиональные союзы, свои кооперативы, свои просветительные учреждения в другие организации. Гениальная мысль Маркса о Парижской Коммуне как новой форме политической организации общества оказалась забытой.
В 1891 г. Энгельс в своей критике проекта Эрфуртской программы германской социал-демократической партии прямо указывал, что демократическая республика является «специфической формой для диктатуры пролетариата». Конечно, Энгельс при этом имел в виду не буржуазную парламентарную республику, а парламентарную республику с новым классовым содержанием. «Республика, — писал он о 1894 г., — по отношению к пролетариату отличается от монархии только тем, что она является готовой политической формой для его будущего господства... Но республика, как всякая другая форма правления, определяется по своему содержанию; пока она является формой буржуазной демократии, она так же враждебна нам, как любая монархия (если отвлечься от форм проявления этой враждебности)» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIX, 1946, стр. 291). Эти положения Энгельса не оставляли сомнений в том, что марксисты продолжали считать демократическую парламентарную республику наиболее целесообразной государственной формой в период перехода от капитализма к социализму.
Между тем с окончанием относительно «мирного» периода настала новая полоса в развитии капитализма. Первая русская революция (1905 г.) открыла полосу величайших революционных потрясений. В революции 1905 г. творческим почином русского пролетариата были созданы Советы рабочих депутатов. Это была новая, еще невиданная в мире массовая политическая организация рабочего класса. Советы стали органами восстания и зачатками революционной власти. Так оценил значение Советов Ленин еще в 1905 г.
После февральской революции 1917 г. революционными массами, прежде всего рабочими и солдатами, по всей России были снова созданы Советы. Обобщив опыт революции 1905 г. и февральской революции 1917 г., Ленин открыл в Советах государственную форму диктатуры пролетариата и пришел к выводу, что не парламентарная республика, а Республика Советов явится наилучшей государственной формой диктатуры пролетариата, Республика Советов представляет ту искомую и найденную, наконец, политическую форму, в рамках которой должно быть совершено экономическое освобождение пролетариата и достигнута полная победа социализма. «Парижская Коммуна была зародышем этой формы. Советская власть является её развитием и завершением» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 122). Вывод Ленина о Республике Советов как наиболее целесообразной форме политической организации общества в период перехода к социализму был провозглашен в знаменитых «Апрельских тезисах» 1917 г. Это было гениальное открытие, имеющее величайшее теоретическое и практическое значение для коммунистической партии, для пролетариата, для пролетарской революции.
Открытие Лениным Советов как новой формы политической организации общества вооружило партию большевиков ясной ориентировкой в борьбе за установление власти пролетариата. Без этого гениального открытии «партия блуждала бы в потемках, Советы были бы дезорганизованы, мы не имели бы Советской власти, марксистская теория потерпела бы серьезный урон» («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 341).
Коренное отличие Советов от буржуазного парламентаризма
Что же представляет собой Республика Советов как новая форма государственной власти? Чем она отличается от буржуазной парламентарной республики?
Особенность Советов заключается прежде всего в том, что они являются наиболее массовой и наиболее демократической государственной организацией из всех возможных государственных организаций в классовой обществе.
Прежде чем стать государственной организацией, Советы уже были органами массовой борьбы, созданными по почину самих масс и объединявшими под руководством пролетариата широчайшие массы трудящихся. Сила Советов, как указывал товарищ Сталин, заключается в том, что они являются: 1) наиболее всеобъемлющими массовыми организациями, охватывающими весь пролетариат; 2) единственными массовыми организациями, которые объединяют под руководством пролетариата всех угнетенных и эксплуатируемых; 3) наиболее мощными органами революционной борьбы масс; 4) непосредственными организациями самих масс, а стало быть, наиболее демократическими организациями.
Взяв власть в свои руки, став государственной организацией, Советы не только не, утратили, но, наоборот, еще более развили все эти черты, характеризующие их как массовые организации. Сущность советской власти заключается в том, что наиболее массовые и наиболее революционные организации самих трудящихся — Советы становятся постоянной и единственной основой государственной власти. Трудящиеся массы, которые в условиях буржуазного парламентаризма отстраняются от управления государством, от участия в политической жизни и от пользования демократическими правами и свободами, привлекаются в условиях диктатуры пролетариата через Советы к постоянному и непременному, притом решающему, участию в демократическом управлении государством.
Советы представляют собой новый, высший тип государственной организации, открывающий всем трудящимся массам фактический доступ к управлению государством. «Старая, т. е. буржуазная, демократия и парламентаризм, — указывал Ленин, — были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, т. е. диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления» (В. И. Ленин, Соч., Т. 28, изд. 4, стр. 443.).
Будучи наиболее массовой и наиболее демократической государственной организацией, советская власть является также наиболее интернационалистской из всех государственных организаций. Буржуазный парламентаризм, провозглашая формальное равноправие наций, фактически закрепляет господство эксплуататорских классов великодержавных наций. Советская власть не только разрушила до основания всю систему национального гнета, но и обеспечила фактическое участие трудящихся всех наций в строительстве новой жизни. Только в условиях советской власти были впервые в истории выработаны такие национальные формы государственности, которые дали возможность привлечь к управлению государством трудящихся всех наций и обеспечить их дружное, братское сотрудничество. Советский строй дал такие, невиданные в буржуазном мире, формы государственной организации, как советские национальные республики, национальные области и округа, представительство от всех наций и народностей в высшем органе власти и т. д.
В отличие от буржуазно-парламентарного строя советский строй создал единую систему народного представительства сверху донизу. Буржуазная государственная власть даже в наиболее демократических буржуазных республиках всегда представляет верхушечную организацию, не имеющую под собой массовой политической основы. На местах вместо представительных органов существуют муниципалитеты, магистраты и тому подобные органы, подчиненные местным административным, полицейским властям и не имеющие политических функций. Их компетенция ограничена вопросами коммунального хозяйства, общественного призрения и т. п.; они занимаются, по выражению Ленина, «безвредным для буржуазного государства «лужением умывальников»» (В. И. Ленин, Соч., т, 10, изд. 4, стр. 166).
В противоположность атому Советы представляют единую в целостную организацию государства, при которой высшие и местные органы власти построены на общей основе. Местные Советы представляют низовые органы власти и служат фундаментом всего здания Советского государства. По определению товарища Сталина «Советская власть есть объединение и оформление местных Советов в одну общую государственную организацию...» (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 119), в Республику Советов.
Советская система кладет конец отделению законодательной власти от исполнительной. В противоположность буржуазному парламентаризму Советы представляют такой тип государственной организации, при которой представительные органы являются работающими органами. Советский государственный аппарат «дает возможность соединять выгоды парламентаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, т. е. соединять в лице выборных представителей народа и законодательную функцию и исполнение законов. По сравнению с буржуазным парламентаризмом это такой шаг вперед в развитии демократии, который имеет всемирно-историческое значение» (В. И, Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 79).
Система диктатуры пролетариата
Одно из принципиальных отличий советского государственного аппарата от аппарата буржуазного государства заключается в том, что он не стоит над массами, не отделен от них, а, наоборот, сливается с ними. Oн не только выражает их волю, но в нем участвуют сами массы.
Привлечение трудящихся к управлению государством осуществляется не только через Советы, но и через многочисленные общественные организации, примыкающие к Советам. Поэтому «советский государственный аппарат в глубоком смысле этого слова,— указывал товарищ Сталин,— состоит из Советов плюс миллионные организации всех и всяких беспартийных а партийных объединений, соединяющих Советы с глубочайшими низами», сливающих государственный аппарат с миллионными массами и уничтожающих шаг за шагом всякое подобие барьера между государственным аппаратом и населением» (И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 162).
Всю совокупность государственных и общественных организаций, через посредство которых осуществляется диктатура пролетариата, Ленин и Сталин называют системой диктатуры пролетариата. В эту систему входят многочисленные «приводные ремни» или «рычаги», т. е. массовые организации трудящихся, и направляющая сила, приводящая в движение весь «механизм» диктатуры пролетариата, т. е. коммунистическая партия. Без направляющей силы партии, без «приводов», связывающих партию с широчайшими массами трудящихся, невозможна сколько-нибудь длительная и прочная диктатура пролетариата. В числе важнейших рычагов системы диктатуры пролетариата Ленин и Сталин указывают прежде всего Советы, профсоюзы, кооперацию, союз молодежи.
Советы представляют основную государственную организацию, через которую осуществляется власть рабочих и крестьян. Советы объединяют и представляют всех трудящихся города и деревни. Через Советы, как указывает товарищ Сталин, осуществляется государственное руководство крестьянством со стороны рабочего класса. Советы связывают партию с массами трудящихся по линии государственной.
Профсоюзы представляют массовую организацию рабочего класса, связывающую партию с рабочим классом прежде всего по линии производственной. Вместе со своими многочисленными разветвлениями в центре и на местах в виде целого ряда производственных, культурных, воспитательных и иных организаций они охватывают всех рабочих и служащих. Профсоюзы являются, по определению Ленина и Сталина, школой коммунизма. Они подготовляют и выдвигают кадры по всем отраслям управления. Они обеспечивают тесную связь между авангардом рабочего класса и широчайшими массами рабочих и служащих.
Кооперация представляет массовую организацию трудящихся, главным образом крестьянства, связывающую партию с крестьянскими массами прежде всего по линии хозяйственной. Через кооперацию во всех ее формах, начиная со снабженческо-сбытовой и кончая производственной, партия обеспечила вовлечение многомиллионных масс крестьянства в русло социалистического строительства. В виде колхозов как высшей формы кооперации впервые в истории деревни создана организационная форма социалистического производственного объединения трудящегося крестьянства. Роль колхозов в развитии советской демократии особенно наглядно проявляется в том, что они стали школой общественно-политической деятельности для массы крестьян. Колхозная демократия способствует выращиванию организаторских кадров из среды крестьянства.
Одним из важных рычагов в системе диктатуры пролетариата является также союз молодежи. Он представляет собой массовую коммунистическую организацию трудящейся молодежи, примыкающую к партии. Его назначение состоит в том, чтобы помогать партии в воспитании молодежи и готовить молодые резервы для партии и других общественных и государственных организаций. По определению товарища Сталина, союз молодежи является резервом и инструментом партии. Он выполняет роль резерва, потому что партия черпает из него пополнение своих рядов. Он является инструментом партии, потому что через него партия обеспечивает свое влияние на массы молодежи. Роль союза молодежи в развитии советской демократии определяется тем, что он представляет школу разносторонней государственной деятельности для миллионов юношей и девушек Советской страны.
Все эти многообразные общественные и государственные организации, составляющие систему диктатуры пролетариата, обеспечивают вовлечение в управление государством широчайших масс трудящихся. Они способствуют тем самым упрочению диктатуры рабочего класса. Характеризуя значение и размах деятельности этих массовых партийных, советских, профессиональных, культурно-просветительных, комсомольских, армейских, женотдельских и всяких иных организаций, товарищ Сталин говорит, что вокруг них «копошатся целые муравейники самочинных организаций, комиссий и совещаний, охватывающих миллионные массы беспартийных рабочих и крестьян, муравейники, создающие в своей повседневной, незаметной, кропотливой, нешумливой работе основу и жизнь Советов, источник силы Советского государства. Без этих миллионных организаций, облегающих наши советские и партийные органы, существование и развитие Советской власти, руководство и управление великой страной было бы абсолютно немыслимо» (И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 162).
Коммунистическая партия – направляющая сила в системе диктатуры пролетариата
Руководящей силой, направляющей и объединяющей деятельность всех массовых организаций трудящихся, является коммунистическая партия. Диктатура пролетариата немыслима без руководства марксистско-ленинской партии. Руководство одной партии, партии коммунистов, — таково необходимое условие диктатуры пролетариата. Без руководства одной партии диктатура пролетариата не может быть ни полной, ни прочной. Одной из причин поражения Парижской Коммуны было отсутствие марксистской партии рабочего класса; руководство Парижской Коммуной делили две партии (бланкисты и прудонисты), из коих ни одна не являлась марксистской.
Для того чтобы удержать государственную власть, укрепить и расширить ее в интересах полной победы социализма и коммунизма, рабочему классу необходима опытная и закаленная партия, сильна» своей сплоченностью и дисциплиной.
«Диктатура пролетариата, — говорит товарищ Сталин, — проводится не самотёком, а, прежде всего, силами партии, под её руководством. Без руководства партии, в современных условиях капиталистического окружения, диктатура пролетариата была бы невозможна» (И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 343).
Коммунистическая партия является движущей, направляющей силой всего «механизма» диктатуры рабочего класса. Она направляет работу профсоюзов, Советов, кооперации, комсомола и других массовых организаций трудящихся. Партия руководит не только общественными, но и государственными организациями нашей страны, в том числе правительством СССР. Ее руководство выражается прежде всего в том, что она вырабатывает политическую линию, разрабатывает задачи практической деятельности в политической, хозяйственной и культурной области.
«...При выработке плана работы тех или иных органов власти по линии ли промышленности и сельского хозяйства, или по линии торговли и культурного строительства партия даёт общие руководящие указания, определяющие характер и направление работы этих органов за время действия этих планов» (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 102). Она указывает перспективы строительства коммунизма, определяет пути и методы этого строительства, вырабатывает линию действий. Иными словами, партия определяет политику государства, направление деятельности органов государственной власти, указывает пути и средства, при помощи которых осуществляются основные цели диктатуры пролетариата. От правильности политики партии и советского правительства, от успешного претворения этой политики в жизнь зависит осуществление задач диктатуры пролетариата, зависит судьба Советского государства, самое существование, советского строя. В этом смысле политика большевистской партии представляет жизненную основу советского строя.
Как направляющая сила диктатуры пролетариата партия объединяет работу всех общественных и государственных организаций, дает им единое направление, общую цель. Руководство партии выражается и в том, что она обеспечивает выдвижение на основные государственные посты в СССР лучших работников — коммунистов и беспартийных, готовых честно служить народу. Она проверяет работу государственных органов, исправляя их ошибки и помогая им проводить решения правительства. Ни одно важное решение не принимается советскими государственными органами без руководящих указаний партии.
Это, конечно, не означает, будто партия может или должна заменить Советы, профсоюзы и другие массовые организации трудящихся. Попытки троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев отождествить диктатуру рабочего класса с «диктатурой партии» получили сокрушительный отпор со стороны товарища Сталина. Разоблачая их фальсификацию ленинизма, товарищ Сталин показал, что нельзя подменять Советы, т. е. государственную власть, партией. Партия осуществляет диктатуру рабочего класса не непосредственно, а через Советы, через многочисленные массовые организации трудящихся.
«Партия есть ядро власти, — указывал товарищ Сталин,— Но она не есть и не может быть отождествлена с государственной властью» (И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 41). Недопустимость такого отождествления вытекает уже из того, что в отличие от партии, которая является добровольной организацией авангарда трудящихся, «...государство диктатуры рабочего класса — организация, охватывающая всю массу населения с его существующими еще классовыми различиями и притом в порядке обязательного подчинения всех граждан страны воле государственной власти, представляющей, в лице стоящего у власти рабочего класса, интересы и волю большинства народа» (В. М. Молотов, Сталин, как продолжатель дела Ленина (сборник «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения»), изд. «Правда», 1939, стр. 26.)).Зарубежные «критики» советского строя утверждают, будто советская система недемократична, ибо она исключает существование других партий, кроме коммунистической. Однако существование нескольких партий, ведущих между собой борьбу, отнюдь не свидетельствует о демократии. Степень демократизма определяется вовсе не количеством партий в стране, а тем, какой класс фактически находится у власти, какую политику проводит государственная власть. Только самые наивные люди да люди, продавшиеся империализму, могут назвать демократическими порядки в США и современных западноевропейских странах, где имеется по нескольку партий, но у власти неизменно оказываются партии реакционные, антинародные, состоящие на содержании американского капитала и действующие по его указке.
Что же касается Советской страны, то в ней нет почвы для существования нескольких партий, потому что нет антагонистических классов с их непримиримо враждебными интересами. Руководство одной партии, партии коммунистов, является показателем подлинного демократизма советского государственного строя, ибо эта партия является действительным представителем всего народа и ведет политику, отвечающую жизненным интересам народа, его чаяниям и стремлениям. Коммунистическая партия завоевала любовь и уважение всех трудящихся своим беззаветным, самоотверженным служением народу.
Народно-демократический режим как одна из форм диктатуры пролетариата
Республика Советов является наилучшей политической формой диктатуры пролетариата, высшей формой новой демократии, приходящей на смену буржуазному парламентаризму. Но Советы не являются единственно возможной политической формой диктатуры пролетариата. Еще до победы Великой Октябрьской социалистической революции Ленин указывал, что переход от капитализма к социализму в различных странах будет отличаться некоторыми особенностями в форме и порядке развития, что найдет свое выражение и в формах политической организации общества. «Формы буржуазных государств, — писал Ленин, — чрезвычайно разнообразны, но суть их одна: все эти государства являются так или иначе, но в последнем счете обязательно диктатурой буржуазии. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: диктатура пролетариата» (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 385).
Историческое развитие подтвердило эту мысль Ленина. На исходе второй мировой войны в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы (в Польше, Болгарии, Чехословакии и др.) возник народно-демократический строй. Разгром фашизма Советской Армией и усиление антифашистского движения привели к тому, что эти страны отпали от империалистической системы. В ходе освобождения этих стран от немецко-фашистского господства, при решающей роли вооруженных сил Советского Союза, были насильственно устранены от власти буржуазия и помещики и представлявшие их партии, запятнавшие себя пособничеством и пресмыкательством перед фашизмом. К власти пришли широкие массы трудящихся во главе с рабочим классом, руководимым коммунистическими партиями.
Народно-демократическая власть, сложившаяся в этих странах, провела революционные общественно-политические преобразования. К числу этих преобразований относится демократизация политического строя, ликвидация помещичьего землевладения и передача земли крестьянам, национализация банков, крупных, а затем и средних предприятий промышленности, а также транспорта и т. д. Без этих мер нельзя было подорвать экономическое могущество реакционных классов и упрочить режим народной демократии. Осуществление этих мер в то же время положило начало движению стран народной демократии к социализму.
Развитие и углубление революционных преобразований в странах Центральной и Юго-Восточной Европы привело к упрочению режима народной демократии, к усилению руководящей роли рабочего класса в государстве. Опыт Болгарии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии показал, что режим народной демократии может с успехом выполнять функции диктатуры пролетариата, т. е. осуществлять ликвидацию капиталистических элементов и организацию социалистического хозяйства, подавлять сопротивление эксплуататорских классов, организовывать и сплачивать трудящиеся массы на строительство социализма. По своей сущности народно-демократический режим, так же как и советский режим, воплощает власть рабочего класса в союзе с трудящимися города и деревни. Советская власть и народная демократия представляют собой формы диктатуры пролетариата. Они отличаются друг от друга не по классовому содержанию государственной власти, а по форме ее политической организации.
Строй народной демократии, как и советский строй, глубоко отличен от буржуазного парламентаризма: народная демократия обеспечивает действительную демократию для народа, превращает представительные органы в работающие органы, устанавливает ответственность правительства перед высшим представительным органом (именуемым в Болгарии Народный собранием, в Чехословакии — Национальным собранием, в Румынии — Великим национальным собранием и т. д.); народно-демократический режим опирается, как на свою политическую основу, на местные органы народной власти — народные комитеты, народные советы.
По сравнению с советским строем как высшей формой диктатуры пролетариата народно-демократическая власть имеет некоторые особенности. Революционное преобразование государственного строя было произведено в странах народной демократии не сразу, как это было в России, а на протяжении известного периода, ввиду чего там временно сохранялись некоторые черты парламентарной демократии. Характеризуя происхождение Советов, Ленин указывал, что они опирались на революционный захват власти, что источником их власти был «не закон, предварительно обсужденный и проведенный парламентом, а прямой почин народных масс снизу и на местах, прямой «захват», употребляя ходячее выражение...» (В. И. Ленин, Соч., т. 24, изд. 4, стр. 20). В отличие от этого в ряде стран народной демократии революционный переход власти в руки трудящихся во главе с рабочим классом, а также ряд дальнейших революционных преобразований оказалось возможным осуществить с соблюдением действовавших конституций, опираясь на законы, предварительно обсужденные и принятые парламентом. Благодаря существованию Советского Союза и пребыванию его вооруженных сил на территории этих стран в связи с разгромом гитлеровских захватчиков силы реакции в этих странах оказались скованными и не смогли развязать гражданскую войну. В сложившейся обстановке в странах народной демократии не оказалось надобности в лишении эксплуататорских классов политических прав. Этим было подтверждено указание Ленина о том, что лишение буржуазии избирательных прав не составляет обязательного и необходимого признака диктатуры пролетариата, что диктатура пролетариата обязательно должна подавлять буржуазию, но в иных конкретно-исторических условиях, чем это было в Советской России, может не лишать ее избирательных прав (См. В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 250, и т. 29, изд. 4, стр. 162).
Своеобразие режима народной демократии проявляется и в том, что он сложился на базе выросшего в ходе национально-освободительной борьбы Народного фронта, в котором объединились на общей платформе борьбы против немецко-фашистских захватчиков, за национальное освобождение, представители различных, в том числе и некоторых буржуазных и мелкобуржуазных, партий. Вследствие этого там сохранилась на некоторый срок многопартийная система, которая в Советской России фактически не имела места (известно, что блок с левыми эсерами был весьма кратковременным). В ходе развития народной демократии буржуазные и соглашательские партии стали на путь борьбы против народа, обанкротились и сошли со сцены. С другой стороны, еще более выросла и укрепилась руководящая роль партии рабочего класса, объединившей вокруг себя подавляющее большинство народа. Оценивая развитие народной демократии, Г. М. Димитров говорил в феврале 1948 г., что прогрессивное общественное развитие «идет не назад, к множеству партий и группок, а к уничтожению всех остатков эксплоататорской, капиталистической системы, что приведет к созданию единой политической партии для руководства государством и обществом» («За прочный мир, за народную демократию!», 1 апреля 1948 г).
Таким образом, различия между народной демократией и советским строем не коренные. Они связаны с различием их исторического происхождения, носят преходящий характер и постепенно отпадают. Своеобразие строя народной демократии объясняется главным образом тем, что страны, в которых установлен этот режим, совершают переход к социализму не в одиночестве, как это пришлось делать Советскому Союзу, окруженному капиталистическими государствами, а при поддержке находящегося по соседству с ними могущественного Советского Союза — страны победившего социализма. Непосредственная поддержка Советского Союза открыла для стран Центральной и Юго-Восточной Европы возможность осуществить переход от капитализма к социализму через диктатуру пролетариата в форме народной демократии.
Разгром японского империализма вооруженными силами Советского Союза создал также условия для победы народно-демократической революции в Китае, благодаря чему оказались подорванными устои империализма в Азии. В силу своеобразия исторических условий развития китайской революции, которая решает на нынешнем этапе по преимуществу задачи антифеодальные и антиимпериалистические, ее победа привела н установлению не социалистической диктатуры пролетариата, а революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Во введении к Обшей программе Народного политического консультативного совета Китая говорится, что диктатура народной демократии Китая «является государственной властью Народного демократического единого фронта рабочего класса, крестьян, мелкой буржуазии, национальной буржуазия и прочих патриотических демократических элементов, основанной на союзе рабочих и крестьян и руководимой рабочим классом» («Общая программа Народного политического консультативного совета Китая», Госполитиздат, 1950, стр. 3). Решая на нынешнем этапе революционно-демократические задачи, ведя борьбу с империализмом, феодализмом и бюрократическим капиталом, Китайская народная республика вместе с Тем закладывает основы для перехода в дальнейшем к решению социалистических задач.
3. Советское многонациональное государство
Особенности социалистического государства как государственного типа находят свое выражение и в форме государственного устройства. Советский Союз представляет собой многонациональное социалистическое государство, построенное па базе советской федерации н коренным образом отличающееся от буржуазных многонациональных государств. Советская федерация как наиболее целесообразная форма государственного устройства многонационального социалистического государства была открыта Лениным и Сталиным (См. И. В. Сталин, Соч., т. 3, стр. 30—31).
Одна из важнейших особенностей советского многонационального государства состоит в том, что федеративными отношениями в нем связаны национальные государственные образования. Буржуазные союзные государства состоят обычно лишь из административных территориальных единиц (штатов, кантонов). Субъектами советской федерации, как указывал товарищ Сталин, «...должны быть и могут быть не всякие участки и единицы и не всякая географическая территория, а лишь определенные области, естественно сочетающие в себе особенности быта, своеобразие национального состава и некоторую минимальную целостность экономической территории» (И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 69). Союз Советских Социалистических Республик представляет государственное объединение народов, организованных в свои национальные республики и объединившихся в одно многонациональное социалистическое союзное государство.
Формы советской федерации отличаются большой гибкостью и многообразием, отражающими разнообразие национального состава нашего государства, объединяющего различные по своей численности, по занимаемой территории и по уровню своего развития нации и народности. Федеративными отношениями связаны прежде всего союзные республики, пользующиеся государственным суверенитетом. Они осуществляют государственную власть самостоятельно, за исключением тех вопросов, которые добровольно передали в ведение общесоюзных органов государственной власти. Внутри ряда союзных республик существуют автономные республики и автономные области, пользующиеся правами автономных частей союзных республик. Такое устройство Советского государства предоставляет наиболее широкие возможности для политического, экономического и культурного развития наций и облегчает их сотрудничество.
Важнейшей особенностью и основой прочности Советского многонационального государства является добровольность объединения республик. В буржуазном мире союзные государства образовывались, сохранялись и расширялись путем насилия, угнетения. Напротив, Советское союзное государство зиждется на свободном союзе народов. Еще в апреле 1918 г. в беседе об Организации РСФСР товарищ Сталин отмечал это коренное различие между социалистическим и буржуазным союзным государством: «...Там — в западных федерациях — строительством государственной жизни руководит империалистическая буржуазия. Неудивительно, что «объединение» не могло обойтись без насилий. Здесь, в России, наоборот, политическим строительством руководит пролетариат, заклятый враг империализма. Поэтому в России можно и нужно установить федеративный строй на основе свободного союза народов» (Там же, стр.68). Добровольность объединения советских республик в союз выражается в том, что каждая союзная республика сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
В добровольности объединения — один из источников прочности Советского многонационального государства. История учит, что многонациональные государства, созданные на основе угнетения народов, на основе насильственного удержания их в рамках единого государства, помогут быть прочными. Национальное неравноправие и гнет неизбежно вызывают противодействие народов, порождают центробежные силы, ведущие государство к распаду. В атом одна из причин непрочности и неустойчивости буржуазных многонациональных государств. Ленин и Сталин неоднократно указывали, что прочным может быть только добровольный союз народов. В советском строе был впервые в истории найден ключ к созданию устойчивого многонационального государства.
Добровольность объединения имеет своей необходимой предпосылкой равноправие народов. Все советские социалистические республики, входящие в состав СССР, пользуются равными правами. Принцип равноправия народов нашел свое отражение в двухпалатном устройстве верховного органа власти СССР. Две палаты — Совет Союза и Совет Национальностей — были предусмотрены в составе Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР Конституцией 1924 г. и в составе Верховного Совета СССР Конституцией 1936 г. Разъясняя смысл существования двух палат, товарищ Сталин указывал: «Однопалатная система была бы лучше двухпалатной, если бы СССР представлял единое национальное государство. Но СССР не есть единое национальное государство. СССР есть, как известно, многонациональное государство. У нас имеется верховный орган, где представлены общие интересы всех трудящихся СССР независимо от их национальности. Это — Совет Союза. Но у национальностей СССР кроме общих интересов имеются еще свои особые, специфические интересы, связанные с их национальными особенностями. Можно ли пренебрегать этими специфическими интересами? Нет, нельзя. Нужен ли специальный верховный орган, который отражал бы эти именно специфические интересы? Безусловно нужен. Не может быть сомнения, что без такого органа невозможно было бы управлять таким многонациональным государством, как СССР. Таким органом является вторая палата, Совет Национальностей СССР» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 529—530). В этом органе имеют равное представительство все республики независимо от размеров территории и численности населения. Так, например, одинаковое количество депутатов в Совет Национальностей (по 25 депутатов) посылает и РСФСР, насчитывающая свыше 109 млн. населения, и Армянская ССР, население которой немногим превышает 1 млн. человек.
Не ограничиваясь провозглашением правового равенства наций, Советская власть сделала все, чтобы добиться их фактического равенства, чтобы преодолеть то политическое, хозяйственное и культурное неравенство народов, которое осталось в наследство от старого строя. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР помогли национальным республикам и областям быстро развить свою промышленность, сельское хозяйство, свою национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру.
Оценивая итоги советской национальной политики, товарищ Сталин говорил в своем докладе о проекте Конституции СССР, что «опыт образования многонационального государства, созданного на базе социализма, удался полностью. Это есть несомненная победа ленинской национальной политики» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 513).
Война с гитлеровской Германией явилась величайшим испытанием. Советское многонациональное государство победоносно прошло через это испытание и показало свою несокрушимую прочность. Испытания войны еще больше сплотили народы СССР, укрепили их дружбу, еще теснее объединили их вокруг великого русского народа, представляющего наиболее выдающуюся нацию из всех наций, входящих в состав Советского Союза. «Война показала, — сказал товарищ Сталин 9 февраля 1946 г., — что советский многонациональный государственный строй с успехом выдержал испытание, ещё больше окреп за время войны и оказался вполне жизнеспособным государственным строем... Теперь речь идёт уже не о жизнеспособности советского государственного строя, ибо его жизнеспособность не подлежит сомнению. Теперь речь идёт о том, что советский государственный строй оказался образцом многонационального государства, что советский государственный строй представляет такую систему государственной организации, где национальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены лучше, чем в любом другом многонациональном государстве» (И. В. Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., Госполитиздат, 1949, стр. 18—19).
4. Первая фаза развития Советского социалистического государства
Эпоха диктатуры пролетариата — это эпоха революционного преобразования капиталистического общества в общество коммунистическое. В течение этой эпохи глубоко изменяются экономические и политические условия, соотношение классовых сил внутри страны, внешняя обстановка. Сообразно этому претерпевает изменения и Советское государство. По мере того как оно осуществляет свою преобразующую роль, изменяются и условия его собственного развития. В связи с этим одни функции Советского государства отпадают или видоизменяются, другие нарождаются или развиваются, а вместе с тем меняются и формы государства.
В докладе на XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин вскрыл закономерности развития Советского социалистического государства и показал, что оно прошло две главные фазы. Первая фаза охватывает период от Октябрьской революции до ликвидации эксплуататорских классов; вторая фаза — период от ликвидаций капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции СССР.
Функция подавления свергнутых эксплуататорских классов
В первой фазе развития социалистического государства его основная задача состояла в подавлении сопротивления свергнутых эксплуататорских классов, в организации обороны страны от нападения интервентов, в восстановлении промышленности и сельского хозяйства, в подготовке условий для ликвидации всех капиталистических элементов. Сообразно с этим, указывал товарищ Сталин, наше государство осуществляло в тот период две основные функции: подавление свергнутых классов внутри страны и оборону страны от нападения извне.
Как известно, и в прошлом деятельность государств характеризовалась двумя функциями: внутренней и внешней. Следовательно, у нашего государства сохранились некоторые функции старого государства, измененные применительно к потребностям пролетарского государства. Однако содержание этих функций социалистического государства принципиально иное. Функция подавления классовых противников внутри страны была направлена у нашего государства против эксплуататорских классов. «...Наше государство подавляло эксплоататорское меньшинство во имя интересов трудящегося большинства, тогда как предыдущие государства подавляли эксплоатируемое большинство во имя интересов эксплоататорского меньшинства» (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 235).
Подавление свергнутых классов осуществлялось Советским государством различными средствами: политическими (лишение избирательных прав), военными (вооруженное подавление их сопротивления, восстаний, заговоров и т. д.), экономическими (конфискация средств производства и имущества эксплуататоров, усиленное обложение налогами и т. д.).
Советское социалистическое государство не повторило роковой ошибки Парижской Коммуны, проявившей чрезмерную мягкость, по отношению к врагам революции. В первые же дни Октябрьской революции была создана ВЧК — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Этот орган стал, по выражению товарища Сталина, «грозой буржуазии, неусыпным стражем революции, обнажённым мечом пролетариата» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 605).
Борьба против свергнутых эксплуататорских классов внутри страны была теснейшим образом связана с борьбой против внешних врагов, против враждебных империалистических государств. Товарищ Сталин неоднократно подчеркивал, что наши внутренние враги — капиталисты и помещики — были связаны тысячами нитей с капиталистами всех стран. Зарубежные капиталисты поддерживали их своими силами и средствами, а они выступали в качестве агентуры зарубежных капиталистов, в качестве орудия иностранных империалистических разведок. Поэтому функция подавления свергнутых классов внутри страны и функция обороны страны от нападения извне были в первой фазе развития Советского государства нераздельны.
Функция обороны страны от нападения извне
Функция обороны страны от нападения из вне, осуществляемая Советским государством напоминает внешне функции предыдущих государств, которые также занимались вооруженной защитой своих стран. Однако по своему содержанию и эта функция социалистического государства принципиально отлична от функций эксплуататорских государств, ибо «наше государство защищало от внешнего нападения завоевания трудящегося большинства, тогда как предыдущие государства защищали в таких случаях богатство и привилегии эксплуататорского меньшинства» (И, В, Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 605.)
Это принципиально новое содержание функции обороны страны со всей яркостью проявилось уже в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920), когда молодому Советскому государству пришлись отбивать натиск объединенных сил иностранных интервентов и внутренней контрреволюции. Несмотря на большой перевес интервентов в вооружении, боеприпасах и опытных военных кадрах, Красная Армия одержала решающую победу. Объясняется это прежде всего тем, что она защищала завоевания трудящегося большинства и вследствие этого располагала поддержкой народных масс.
Огромное значение для существования Советского государства имело то, что еще в первые годы революции была создана под руководством Ленина и Сталина новая армия, необходимая для обороны страны от нападения извне.
В соответствии с условиями строительства социализма в одной стране, находящейся в капиталистическом окружении, Ленин и Сталин по-новому разработали вопрос об органах защиты страны от нападения извне. До победы социалистической революции в СССР большинство марксистов придерживалось мнения о необходимости замены постоянной армии вооружением народа. Практика строительства социализма в одной стране, находящейся в капиталистическом окружении, заставила пересмотреть этот взгляд. Условия эпохи империализма, порождающего неизбежные войны, вызывающего колоссальный рост вооружений, и сложность современной военной техники требовали от победившего пролетариата создания крепкой кадровой армии, обладающей постоянной боевой готовностью. Вот почему, распустив старую армию, неспособную защищать Республику Советов, победивший пролетариат создал новую, Советскую Армию, прочно спаянную с народом.
Ленин и Сталин вели непримиримую борьбу против попыток явных и скрытых врагов народа ослабить или «упразднить» Советскую Армию. Ленин разгромил вредительские идеи Бухарина, проповедывавшего полуанархистские взгляды, стремившегося обезоружить рабочий класс перед лицом его врагов. И. В. Сталин в речи на пленуме ЦК РКП(б) в январе 1925 г. дал решительный отпор тем, кто пытался ослабить нашу армию, кто призывал спускать ее «помаленьку на тормозах» и свести ее к милиции. «Речь идёт...— говорил товарищ Сталин,— о превращении армии в простую милицию, не способную быть готовой к военным осложнениям.
Я должен заявить самым категорическим образом, что нужно решительно ликвидировать это ликвидаторское настроение» (И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 11—12).
В борьбе с врагами народа Ленин и Сталин добились создания могучей армии для защиты завоеваний революции от нападения извне. Без последовательного, непреклонного укрепления Советской Армии было бы невозможно существование социалистического государства в условиях капиталистического окружения.
Функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы органов Советского государства
Наряду с этими двумя основными функциями Советское государство в первой фазе своего развития осуществляло и третью функцию — хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитательную. Эта функция имела целью развитие ростков нового, социалистического хозяйства и перевоспитание людей в духе социализма. Но, как отметил товарищ Сталин, «эта новая функция не получила в этот период серьезного развития» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, над. 11, стр. 605).
Функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы органов Советского государства названа товарищем Сталиным новой функцией потому, что в отличие от первых двух функций, представляющих видоизмененные функции старых государств, она не имеет себе аналога в функциях прежних государств. Эта функция свойственна только социалистическому государству, государству нового типа.
Все прежние государства, в том числе и буржуазные, не могли осуществлять задачи организации народного хозяйства, не могли управлять экономическим развитием общества. Характеризуя функции государства в капиталистическом обществе, товарищ Сталин указывал, что хозяйство в собственном смысле «мало касается капиталистического государства, оно не в его руках. Наоборот, государство находится в руках капиталистического хозяйства» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10, стр. 602). Основой всех антагонистических общественно-экономических формаций, в том числе и капиталистического общества, является частная собственность на средства производства. Эта собственность охранялась, закреплялась государством, но именно этим по существу и ограничивались возможности вмешательства государства в экономическую жизнь общества.
Современные идеологи капитализма вместе со своими прихвостнями из лагеря правых социалистов охотно разглагольствуют о том, что в нынешнюю эпоху государство в капиталистических странах взяло на себя хозяйственно-организаторские функции, что оно вносит «плановое», «организующее» начало в хозяйственную жизнь буржуазного мира. Эти лживые разглагольствования служат лишь цели — замазать, прикрыть противоречия капитализма. До тех пор пока экономической основой общества остается частная собственность на средства производства, пока развитие материального производства подчинено стремлению отдельных капиталистов и их объединений — капиталистических монополий — к извлечению прибыли, до тех пор общество остается во власти стихийных сил.
Для того чтобы государство могло взять в свои руки управление народным хозяйством, необходимо свергнуть власть капиталистов и заменить ее властью трудящихся, упразднить частную собственность на средства производства и заменить ее собственностью общественной, подчинить развитие производства не интересам извлечения частнокапиталистической прибыли, а интересам всего общества, интересам трудящихся. Вот почему такая задача под силу лишь государству нового типа, пролетарскому, социалистическому государству, принципиально отличающемуся от всех прежних государств. Это подтверждено ныне историей как на опыте Советского Союза, так и на опыте ряда стран Восточной и Юго-Восточной Европы, вырвавшихся при помощи Советского Союза из тисков империализма.
Социалистическое государство сразу же после победы революции взяло в свои руки основные рычаги экономического развития, сосредоточило в своих руках основные командные высоты народного хозяйства — крупную промышленность, транспорт, банки, внешнюю торговлю и т. д. Это дало ему возможность с успехом направлять экономическое развитие страны по пути социализма. Однако в первые годы социалистического строительства социалистический уклад хозяйства был лишь одним из укладов народного хозяйства, его удельный вес в народном хозяйстве, особенно в сельском хозяйстве и в торговле, был ниже, чем удельный вес мелкотоварного и частнокапиталистического укладов. Поэтому возможности планирования народного хозяйства социалистическим государством были в то время ограничены. Вся деятельность социалистического государства была тогда подчинена классовой борьбе с внутренними и внешними врагами пролетариата. Ввиду этого хозяйственно-организаторская деятельность Советского государства в тот период еще не могла получить полного развития.
Культурно-воспитательная деятельность также составляет специфическую особенность социалистического государства, как государства нового типа. Культурно-воспитательная работа социалистического государства служит коммунистическому воспитанию трудящихся, преодолению пережитков капитализма в их сознании, повышению культурно-технического уровня народных масс, преодолению противоположности между людьми физического и людьми умственного труда. Культурно-воспитательная деятельность государства неразрывно связана с его хозяйственно-организаторской работой, потому что развитие социалистического хозяйства невозможно без постоянного роста культурности и коммунистической сознательности работников. Нельзя руководить социалистическим хозяйством, если не вести культурно-воспитательной работы среди трудящихся. В то же время и культурно-воспитательная работа в сильнейшей мере зависит от хозяйственно-организаторской, ибо материальной базой развития социалистической культуры является социалистическая система хозяйства. Поэтому и культурно-воспитательная работа органов Советского государства могла получить серьезное развитие лишь с победой социалистической системы во всех отраслях народного хозяйства СССР.
5. Вторая фаза развития Советского социалистического государства
Если первая фаза в развитии Советского государства отражала период борьбы между силами социализма и капитализма в СССР, то вторая фаза в развитии Советского государства отражает период победы социализма в СССР. Основная задача этого периода — организация социалистического хозяйства по всей стране и ликвидация последних остатков капиталистических элементов, осуществление культурной революции, организация вполне современной армии для обороны страны. В соответствии с этим изменились и функции социалистического государства.
Функция военного подавления внутри страны, которая была в первой фазе одной на основных функций Советского государства, отпала, отмерла во второй фазе, потому что были ликвидированы эксплуататорские классы.
Отмирание функции военного подавления внутри страны и появление функции охраны социалистической собственности
Изменение классовой структуры советского общества явилось результатом преобразующей деятельности Советского государства. Покончив со всеми эксплуататорскими классами в стране, Советское государство выполнило одну из своих основных задач, и, стало быть, эта сторона его деятельности оказалась исчерпанной, надобность в функции военного подавления внутри страны исчезла. Это не следует понимать так, что исчезла надобность в каком бы то ни было подавлении. Социалистическому государству и во второй фазе его развитий приходится подавлять сопротивление и пресекать деятельность враждебных советскому строю элементов. Но внутри страны уже нет таких классов, которые требовалось бы подавлять. Ввиду этого нет надобности в военном подавлении, осуществляемом с помощью армии. Армия, карательные органы, разведка обращены теперь своим острием «уже не во внутрь страны, а во вне ее, против внешних врагов» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 606). Если в первой фазе развития социалистического государства эти орудия власти необходимы были для выполнения как внутренней, так и внешней функции, то во второй фазе они необходимы прежде всего для выполнения внешней функции — защиты страны от нападения извне.
Вместо функции подавления внутри страны у Советского государства появилась во второй фазе его развития функция охраны социалистической собственности от воров и расхитителей народного добра. Выражением этого явилось принятие ЦИК и СНК СCCP постановления от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Разумеется, Советское государство и раньше охраняло общественную собственность; оно с первых же дней своего существования должно было стоять на страже общественного достояния и сурово карать его расхитителей. Однако эта деятельность Советского государства приобрела особое значение и развилась в специальную функцию государства лишь с того времени, когда общественная собственность утвердилась во всех отраслях народного хозяйства и стала экономической основой общества. В докладе «Итоги первой пятилетки» в январе 1933 г. товарищ Сталин говорил: «Основой нашего строя является общественная собственность так же, как основой капитализма — собственность частная. Если капиталисты провозгласили частную собственность священной и неприкосновенной, добившись в свое время укрепления капиталистического строя, то мы, коммунисты, тем более должны провозгласить общественную собственность священной и неприкосновенной, чтобы закрепить тем самым новые социалистические формы хозяйства во всех областях производства и торговли» (Там же, стр. 393).
Функция охраны социалистической собственности была направлена своим острием против остатков умирающих классов, пытавшихся путем хищения народного добра подорвать основу советского строя. После того как эксплуататорские классы были ликвидированы и лишились своей производственной базы, остатки этих классов — всякого рода «бывшие люди»: бывшие промышленники, торговцы, кулаки, бывшие белые офицеры и полицейские и т. д. — расползлись по стране, пробрались на заводы, в колхозы, совхозы, в учреждения и т. д. Враги изменили тактику своей борьбы, стали действовать «тихой сапой», организуя вредительство, саботаж, расхищение общественного имущества, массовое воровство и т. д. Они, говорил товарищ Сталин про этих «бывших людей», чуяли как бы классовым инстинктом, что основой советского строя является общественная собственность, и всячески старались расшатать эту основу. Советское государство должно было дать и дало сокрушительный отпор этим поползновениям врагов народа. Если в первые годы советской власти основной формой классовой борьбы рабочего класса и его государства было прямое подавление эксплуататоров, то теперь, после ликвидации эксплуататорских классов, на первое место выдвинулась новая форма классовой борьбы — охрана социалистической собственности от воров и расхитителей народного добра. Поэтому товарищ Сталин и указал, что эта функция социалистического государства появилась вместо отмершей функции подавления эксплуататорских классов.
Попытки враждебных элементов организовать массовое воровство и расхищение народного добра были сломлены; однако необходимость зорко охранять общественное достояние осталась и останется до тех пор, пока есть пережитки капитализма в экономике и в сознании людей, пока есть капиталистическое окружение, которое стремится оживить эти пережитки и использовать их в своих целях. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» сурово осуждает разбазаривание общественных земель колхозов и их имущества и требует усиления охраны колхозной собственности. Охране социалистической собственности служит также Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
Характеризуя дальнейшее развитие этой функции, М. И. Калинин говорил на XVIII съезде ВКП(б): «Очевидно функции государства по охране и укреплению общественной, социалистической собственности, как фундамента нашего строя, могут отмереть только тогда, когда у нас каждый человек будет работать по способностям и получать по потребностям, когда воровство и хищения потеряют всякий смысл. А если и тогда будет еще существовать капиталистическое окружение, то сохранятся и эти функции государства, но только они будут направлены своим острием уже не во внутрь страны, а во вне ее, против внешних врагов» («XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет», 1939, стр. 399).
Дальнейшее развитие функции военной защиты страны от нападения извне
Функция военной защиты страны во второй фазе социалистического государства полностью сохранилась и получила дальнейшее развитие. Это определяется тем, что после ликвидации эксплуататорских классов в СССР вопрос «кто — кого», успешно разрешенный в пользу социализма внутри страны, оказался целиком перенесенным на международную арену. В своих работах товарищ Сталин вскрыл до конца опасность капиталистического окружения для СССР и сделал все практические выводы, вытекающие из этой опасности. В докладе на пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» товарищ Сталин показал, что даже отношения между однотипными буржуазными государствами основаны на ожесточенной борьбе. Тем более острой является борьба буржуазных государств против социалистического государства. Капиталистические государства стремятся засылать в советские тылы свою шпионско-диверсионную агентуру. Отсюда товарищ Сталин сделал вывод о необходимости всемерного укрепления разведывательных и карательных органов социалистического государства.
В ответе товарища Сталина на письмо комсомольца Иванова (февраль 1938 г.) был со всей силой подчеркнут другой важнейший вывод, вытекающий из опасности капиталистического окружения, — вывод о необходимости укрепления военных органов Социалистического государства. «...Нужно всемерно усилить и укрепить нашу Красную армию, Красный флот, Красную авиацию, Осоавиахим. Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...» (Письмо т. Иванова и ответ т. Сталина, Госполитиздат, 1940, стр. 13).
На основе этих указаний товарища Сталина партия большевиков и Советское правительство приняли серьезные меры к укреплению обороноспособности нашей родины и организовали вполне современную армию для обороны страны. В годы предвоенных сталинских пятилеток было осуществлено техническое перевооружение Советской Армии, созданы новые рода войск (авиация, танки, моторизованные части и т. д.) и заново оснащены прежние рода войск (пехота, артиллерия, конница и др.). Получили дальнейшее развитие советская военная наука и военное искусство. Все это дало возможность Советскому государству подготовиться к отпору империалистическим агрессорам и встретить во всеоружии нападение гитлеровской Германии и ее союзников.
Советские вооруженные силы разгромили полчища немецко-фашистских империалистических захватчиков и обеспечили свободу и независимость вашей советской социалистической родине. Советские вооруженные силы сыграли также решающую роль в освобождении народов Европы от гитлеровского гнета и народов Азии от гнета японского империализма.
Усиление военной мощи социалистического государства нужно не только для того, чтобы дать отпор империалистическим хищникам в случае их военного нападения на СССР, но и для того, чтобы оттянуть самый момент нападения, полностью использовать мирную передышку. Исторический опыт показывает, что советские народы не могли бы пользоваться благами мирного труда в течение двух десятилетий, протекших между окончанием первого (1918—1920) и началом второго (1941— 1945) военного нашествия империалистов на Советский Союз, если бы не укрепляли свою армию и разведку.
Важным фактором защиты государственных интересов Советского Союза является наряду с армией и разведкой советская дипломатия. Правильная внешняя политика, осуществляемая советским правительством и его дипломатическими органами, позволяет отстаивать дело мира н использовать в интересах трудящихся СССР и всего мира противоречия между империалистическими государствами. Вот почему товарищ Сталин сказал: «Не забывайте, что хорошая внешняя политика иногда весит больше, чем две — три армии на фронте» (Выступление товарища Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 г., «Правда», 25 мая 1945 г.).
Развитие хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной функции
Хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная функция получила во второй фазе социалистического государства полное развитие и стала его основной функцией внутри страны. «Теперь основная задача нашего государства внутри страны, — указывал товарищ Сталин, — состоит в мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работе» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 606).
Победа социализма чрезвычайно расширила рамки хозяйственно-организаторской работы органов Советского государства. В результате социалистического преобразования экономики страны Советское государство сосредоточило в своих руках подавляющую массу средств производства. В 1936 г. социалистическому хозяйству принадлежало 98,7% производственных фондов страны, в том числе государству принадлежало 90% производственных фондов (97,35% в промышленности и 76% в сельском хозяйстве).
Социалистическая система хозяйства, основанная на общественной собственности на средства производства, по самой своей природе требует сознательного, планомерного руководства. Она не может существовать и развиваться без планового руководства. Роль и значение планового руководства неуклонно возрастали по мере развития и укрепления социалистической хозяйства. Ныне Советское государство охватывает своим руководством все отрасли народного хозяйства: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, внешнюю и внутреннюю торговлю, финансы.
Хозяйственно-организаторская работа государственных органов выражается не только в том, что они разрабатывают и устанавливают народнохозяйственные планы, но и в том, что они организуют их осуществление. Советское государство планирует расширенное социалистическое воспроизводство, включай и воспроизводство квалифицированной рабочей силы. В соответствии с этими задачами оно распределяет материальные и людские ресурсы, производит финансирование народного хозяйства, организует строительство предприятий, осуществляет управление ими, производит проверку исполнения, контроль над выполнением планов и т. д.
Показателем усложнения и диференцирования хозяйственно-организаторской работы является развитие тех органов социалистического государства, которые осуществляют эту функцию. В настоящее время существует около сорока общесоюзных и союзно-республиканских министерств, которые руководят народным хозяйством. В их числе министерства черной металлургий, угольной, нефтяной, химической, автомобильной и тракторной, авиационной, судостроительной и многих других отраслей промышленности, министерство сельского хозяйства, министерство трудовых резервов и др.
Следует иметь в виду, что хозяйственно-организаторская деятельность социалистического государства, так же как и его Другие функции, носит политический характер. Она служит осуществлению экономической политики социалистического государства и проводится государственными органами в борьбе со всякого рода антиплановыми, антигосударственными, местническими тенденциями, выражающими давление пережитков капитализма.
В условиях социализма значительно расширяются и масштабы культурно-воспитательной работы государственных органов. Уже в ходе строительства нового общества осуществлялась переделка сознания масс, воспитание их в духе социализма. Теперь, с победой социализма, созданы все объективные предпосылки и возможности для полного преодоления пережитков капитализма в сознании людей. На этой объективной основе и развертывается работа по коммунистическому воспитанию всего народа, осуществляемая коммунистической партией, Советским государством, общественными и культурными организациями трудящихся.
Советское государство выступило как организатор культурной революции в стране. Оно заботится о подъеме образования о расцвете науки и искусства. Характеризуя политику большевистской партии и Советского государства в области культурного строительства, А. А. Жданов говорил: «Центральный Комитет партии хочет, чтобы у нас было изобилие духовной культуры, ибо в этом богатстве культуры он видит одну из главных задач социализма» (А. А. Жданов, Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», стр. 38). Как более высокий общественный строй социализм может и должен создать духовные богатства, превосходящие все, что было создано предшествующими обществами. Эти задачи осуществляются Советским государством путем развития сети научных учреждений, культурно-просветительных учреждений, организации и руководства работой школ, техникумов, высших учебных заведений, театров, музеев, библиотек, издательств, кинофабрик, радиостудий и т. д. Руководство культурно-воспитательной работой осуществляется такими государственными органами, как министерства народного просвещения, высшего образования, кинематографии, комитеты при Совете Министров СССР по делам искусств, культурно-просветительных учреждений, радиофикации и радиовещания и др.
Культурно-воспитательная работа государственных органов направлена к развитию новых, социалистических черт у людей: сознательной дисциплины, коммунистического отношения к труду, к общественному достоянию, чувства советского патриотизма и советской национальной гордости. Своей культурно-воспитательной работой партия и Советское государство борются с тлетворным влиянием буржуазной идеологии, с остатками частнособственнических тенденций, с пережитками буржуазной морали, с проявлением национализма, с низкопоклонством перед буржуазной культурой Запада, с реакционной идеологией космополитизма и т. д.
Изменение формы Советского государства во второй фазе его развития
С переходом от первой ко второй фазе изменились не только функции, но и формы социалистического государства. Разумеется, основой нашей государственной системы, государственной формой диктатуры рабочего класса остаются Советы. Но сами Советы во второй фазе значительно изменились по своей форме по сравнению с Советами в первой фазе.
Как известно, источник политических учреждении нужно искать в конечном счете в экономическом базисе общества. В результате победы социалистической системы хозяйства созданы материальные предпосылки для изменения политической надстройки советского общества.
В докладе на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. товарищ Сталин поставил задачу — увенчать новый экономический базис социализма соответствующими надстройками: «Факты говорят, что мы уже построили фундамент социалистического общества в СССР и нам остается лишь увенчать его надстройками,— дело, несомненно, более легкое, чем построение фундамента социалистического общества» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 451). Эта задача была осуществлена принятием в декабре 1936 г. новой Сталинской Конституции — конституции победившего социализма и социалистической демократии. Принятие новой Конституции СССР означало, что политическая и юридическая надстройка советского общества была приведена в соответствие с экономическим базисом.
Изменение формы Советского государства оказалось необходимым вследствие того, что его прежние формы уже не соответствовали изменившейся классовой структуре советского общества, новым задачам и функциям государства. При этом важно отметить, что изменение формы Советского государства произошло вслед за изменением его задач и функций. Как всегда, форма изменяется после того, как вырастает новое содержание. Если изменение функций Советского государства относится к 1930—1934 гг., то изменение формы Советского государства началось позже — в 1936 г.
В чем же выразилось изменение формы Советского государства? Чем отличаются Советы во второй фазе государства от Советов в первой фазе?
В новых формах Советского государства отразилась новая классовая структура общества, новое соотношение классовых сил, сложившееся в результате победы социализма и ликвидации эксплуататорских классов в СССР. В соответствии с этим Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, существовавшие в первой фазе, были преобразованы в Советы депутатов трудящихся.
Принятие в 1936 г. новой Конституции явилось поворотом в политической жизни страны. Советская демократия получила полное развитие, стала до конца развернутой социалистической демократией. Новая Конституция СССР устранила ограничения политических прав, которые были неизбежны в СССР, пока существовали эксплуататорские классы. На первой ступени своего развития советская демократия не могла быть демократией для всех, а была демократией для большинства, т. е. для трудящихся, открыто ограничивая права эксплуататорского меньшинства. В «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятой 24 (11) января 1918 г. III Всероссийским съездом Советов, было провозглашено: «...теперь, в момент последней борьбы народа с его эксплуататорами, — эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти» (В. И. Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 387). Советские конституции до 1936 г. лишали избирательных прав бывших помещиков, капиталистов, кулаков, частных торговцев, полицейских, жандармов и т. д.
В дальнейшем, после того как эксплуататорские классы внутри страны были ликвидированы, отпала необходимость в каких бы то ни было ограничениях демократии. По Конституции 1936 г. была введена новая избирательная система, основанная на всеобщем избирательном праве. Таким образом, советская демократия, оставаясь демократией для трудящихся, превратилась из демократии для большинства населения в демократию для всех.
В первой фазе развития Советского государства было еще неизбежно некоторое неравенство политических прав рабочего класса и крестьянства. Первые советские конституции (Конституция РСФСР 1918 г. и Конституция СССР 1924 г.) устанавливали некоторые преимущества избирательных прав для рабочих по сравнению с крестьянами. Эти преимущества выражались, например, в том, что при выборах на всероссийские и всесоюзные съезды Советов представители от городских Советов, где преобладали рабочие, избирались из расчета один депутат на 25 тысяч избирателей, а от губернских (позже краевых и областных) съездов Советов, где преобладали крестьяне, — один депутат на 125 тыс. жителей. Это неравенство избирательных прав рабочих и крестьян партия большевиков рассматривала как временное, но оно было в то время необходимо, для того чтобы обеспечить политическое руководство рабочего класса. Без этого нельзя было сохранить диктатуру рабочего класса, а без нее крестьянство не могло быть избавлено от гнета помещиков в капиталистов, от восстановления помещичьей и капиталистической кабалы.
Победоносное развитие социалистического строительства в нашей стране привело к упрочению союза рабочего класса и крестьянства. Под руководством рабочего класса крестьяне вступили в колхозы и встали в ряды непосредственных строителей социализма. Этим был открыт путь к уничтожению всякой разницы между рабочими и крестьянами и прежде всего к устранению разницы в их избирательных правах. Конституция СССР 1936 г. заменила не вполне равные избирательные права равными. Уравнение избирательных прав крестьян с рабочими могло быть достигнуто и действительно было достигнуто не путем ослабления, а лишь путем усиления политического руководства обществом со стороны рабочего класса. Рабочий класс своей политикой, направленной к уничтожению всякой эксплуатации и победе социализма, прочно завоевал крестьянство на свою сторону. Ликвидация всех эксплуататорских классов высвободила крестьянство из-под их влияния. Встав на социалистический путь, крестьянство приблизилось к рабочему классу. Вследствие этого диктатура рабочего класса как передового класса общества получила более широкую социальную базу, стала опираться и на колхозное крестьянство и превратилась «в более гибкую, стало быть,— более мощную систему государственного руководства обществом...» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 522).
Развитие советской демократии во второй фазе выразилось также в замене многостепенных выборов прямыми выборам, что потребовало значительного изменения системы органов государственной власти. По Конституции СССР 1936 г. вместо всесоюзных, республиканских, краевых, областных, районных съездов Советов были установлены избираемые на весь срок до следующих выборов органы власти — Верховный Совет CCCP, Верховные Советы союзных республик, краевые, областные и другие Советы депутатов трудящихся. Депутаты всех этих Советов избираются гражданами непосредственно, путем прямые выборов.
Значительные изменения были внесены также в систему органов государственного управления. Установлено более четкое распределение полномочий между высшими органами государственной власти (Верховными Советами СССР и союзных республик) и высшими органами государственного управления (Советами Министров). Конституция СССР 1936 г. установила, что Советы Министров являются высшими исполнительными и распорядительными органами государственной власти, что она издают постановления и распоряжения на основе и во исполнение законов, принимаемых Верховными Советами. Такое разграничение полномочий органов государственной власти и государственного управления оказалось необходимым в связи с развитием Советского государства и усложнением его функций во второй фазе. Это разграничение не имеет ничего общего с тем отделением исполнительной власти от законодательной, которое свойственно буржуазному парламентаризму. В Советском государстве Совет Министров как высший орган исполнительной власти ответственен перед Верховным Советом СССР и подотчетен ему.
Выражением развития и усложнения деятельности органов государственного управления явилось также преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет Министров, а народных комиссариатов — в министерства, осуществленное на основе закона Верховного Совета СССР (март 1946 г.). Прежнее наименование, говорил Н. М. Шверник, «возникло в первый период существования Советского государства, который был связан с коренной ломкой старой государственной машины и установлением новых, советских форм государственной жизни. Это был период становления советской государственности, когда формы организации управления были еще неустойчивы и только складывались. Однако органы государственного управления не оставались неизменными; в ходе развития Советского государства изменялись формы и функции государственных органов. И можно сказать, что только после перестройки советской государственной системы на основе новой Конституции СССР наше Советское государство окончательно сложилось.
Теперь старое наименование — Народные Комиссариаты уже не выражает в достаточной степени отчетливо тот объем компетенции и ответственности, который возлагает Конституция СССР на центральные органы и на лиц, стоящих во главе отдельных отраслей государственного управления» («Заседания Верховного Совета СССР (первая сессия). Стенографический отчет», 1946, стр. 85).
Ввиду этого Верховный Совет СССР в 1946 г. ввел общепринятые в государственной практике наименования — министерство, министр, позволяющие более четко разграничить компетенцию центральных и местных государственных органов, руководителей центральных отраслей управления и работников местных учреждений.
Таким образом, в ходе развития Советского государства изменялись его организационные формы соответственно развитию и усложнению его функций. Во второй фазе своего развития Советское социалистическое государство неизмеримо окрепло и приняло новые формы, соответствующие задачам построения коммунизма.
6. Советское право
Советское право – высший тип права
Вместе с Советским социалистическим государством развивалось и советское право, представляющее новый, высший тип права, принципиально отличный от буржуазного права. Враги Советского государства утверждала, будто диктатура рабочего класса отрицает право, заменяя его насилием. Эта заведомая клевета свидетельствует лишь о том, что они вследствие своей классовой слепоты, злобы и тупоумия отождествляет право вообще с буржуазным правом. В действительности победивший рабочий класс, взяв власть и свои руки, разрушает старое, буржуазное право, отменяет старую законность, но создает вместо них новое, социалистическое право, новую, революционную законность.
Советское право представляет собой совокупность норм (правил поведения), установленных или санкционированных Советским государством, закрепляющих социалистический общественный строй и порядок и содействующих победе коммунизма. Советское право принципиально отличается от всех предшествующих типов права не только как новый, но и как высший тип права. В противоположность буржуазному праву, выражающему волю эксплуататорского меньшинства, советское социалистическое право выражает в своих нормах волю стоящего у власти рабочего класса—вождя и представителя всех трудящихся, т. е. интересы и волю сначала большинства, а затем (после ликвидации эксплуататорских классов) всего советского народа. В противоположность буржуазному праву, закрепляющему общественные порядки, угодные и выгодные эксплуататорам (господство капиталистической частной собственности, эксплуатацию человека человеком, неравноправие женщин, национальный гнет и т. д.), советское право закрепляет общественные и политические порядки, угодные и выгодные трудящимся (уничтожение частной собственности и эксплуатации человека человеком, господство общественной социалистической собственности, равноправие женщины с мужчиной, равноправие рас в наций и т. д.).
Закрепляя социалистические общественные порядки, советское право вместе с тем способствует их дальнейшему развитию. М. И. Калинин отмечал, что, «будучи надстройкой над уже сложившимися экономическими взаимоотношениями, право в свою очередь является фактором, толкающим и дающим определенное направление этим взаимоотношениям. Несомненно оно имеет свойство как закреплять уже сложившиеся отношения, так и толкать, вызывать, способствовать по крайней мере зарождению тех взаимоотношений, к которым законодатель сознательно стремится. В этом состоит сущность творческой роли законодательства» (М. И, Калинин, Статьи и речи, 1919—1935, Партиздат, 1936, стр. 80).
В первой фазе развития Советского государства установленные им законы и нормы права способствовали победе социалистических элементов народного хозяйства над капиталистическими. Многочисленные правовые ограничения (например, законы, регулировавшие применение наемного труда, аренды земли и т. д.) ставили преграды росту капиталистических элементов и содействовали их вытеснению.
Во второй фазе развития Советского государства отпали те правовые нормы, которые были порождены необходимостью подавлять эксплуататорские классы, и в советском праве получили полное развитие черты последовательного социалистического демократизма.
Основное значение советского права состоит в том, что оно закрепляет устои социализма, такие устои, как социалистическая собственность на средства производства, ликвидация эксплуатации и эксплуататорских классов, обязательность труда для каждого работоспособного гражданина по формуле: «Кто не работает, тот не ест», права граждан СССР на труд, на отдых, на образование и др., их демократические свободы и т. д.
При помощи норм права в социалистическом обществе регулируются самые различные области общественной жизни: организация и устройство государственной власти, административное управление, имущественные отношения, трудовые отношения, семейно-брачные отношения и т. д. Во всех этих областях общественной жизни советское право закрепляет принципы социализма и содействует их дальнейшему упрочению и развитию.
Материальной основой советского социалистического права как юридической надстройки является социалистический экономический базис. Советское право опирается на социалистическую систему хозяйства, на общественную собственность на средства производства. Оно охраняет социалистическую собственность от покушений со стороны врагов народа, воров и расхитителей народного добра. Охрана Общественной собственности, указывал товарищ Сталин, это «основная забота революционной законности в наше время» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 394).
Советское право устанавливает, что труд является обязанностью и делом чести каждого работоспособного гражданина. Оно охраняет и закрепляет социалистический принцип распределения по труду. При помощи норм права регулируется труд граждан СССР (продолжительность рабочего дня, нормы выработки, трудовая дисциплина и т. д.) и оплата труда в зависимости от его количества и качества. Таким путем устанавливается контроль со стороны государства за мерой труда и мерой потребления, имеющий целью обеспечить строгое соответствие между количеством и качеством труда, вложенного каждым работником в общественное производство, и получаемой им оплатой. Без такого правового регулирования не могло бы нормально функционировать социалистическое хозяйство, ибо, как указывал Ленин, нельзя, не впадая в утопизм, думать, будто после свержения капитализма люди могут сразу научиться «работать на общество без всяких норм права...» (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 439). Пока сохраняются пережитки капитализма в сознании людей, необходимо и известное принуждение, направленное против лодырей, летунов, нарушителей трудовой дисциплины и т. п. А это принуждение осуществляется при помощи норм права, устанавливаемых государством и имеющих обязательную силу для всех граждан.
Советское право, будучи последовательно демократическим, признает равенство прав и равенство обязанностей всех граждан. В свое время Энгельс, критикуя проект Эрфуртской программы германской социал-демократической партии, указывал, что недостаточно провозгласить равные права для всех граждан, необходимо также возложить на них равные обязанности. «Равные обязанности — для нас это особенно важное дополнение к буржуазно-демократическим равным правам, дополнение, отнимающее у последних их специфически-буржуазный смысл» (К. Маркс а Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 11, стр. 107). Это дополнение устраняет тот разрыв между правами и обязанностями граждан, который характерен для капиталистического общества, где господствующие классы фактически пользуются всеми правами и преимуществами, а угнетенные, не имея прав, несут на себе все бремя обязанностей. Конституция СССР устанавливает, что граждане СССР пользуются равными правами во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни, независимо от своего социального происхождения, имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания и т. д. Всем гражданам СССР предоставляется право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности, право на образование, право личной собственности, свобода совести, свобода слова, печати, собраний и митингов, право объединения в общественные организации и т. д. В то же время Конституция СССР возлагает на всех граждан равные обязанности: исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, беречь и укреплять социалистическую собственность, уважать правила социалистического общежития. Высшим долгом каждого гражданина СССР является защита отечества. Обеспечивая соблюдение гражданами общественных интересов социалистического общества, общегосударственных интересов, советское право в то же время охраняет их личные интересы и права.
Одна из особенностей советского права как права высшего типа состоит в том, что его нормы полностью отвечают нормам коммунистической нравственности. Поэтому советское социалистическое право является в то же время выражением нравственного самосознания советских людей, а выполнение его норм обеспечивается не только принудительной силой государства, но и высокой сознательностью граждан. Этим советское социалистическое право коренным образом отличается от буржуазного права, чьи нормы ненавистны трудящимся массам, ибо враждебны их интересам и их нравственному сознанию.
С этим связана и особая роль советского права как могучего средства коммунистического воспитания. Воспитание масс в духе социализма осуществляется коммунистической партией и Советским государством не только при помощи многообразных средств идейного воздействия (таких, как устная и печатная пропаганда, театр, кино, литература и т. д.), но и при помощи государственных законов. Советские законы, устанавливающие обязательность труда для каждого работоспособного гражданина, требующие строгой трудовой дисциплины на предприятиях, в колхозах, в учреждениях, представляют важнейшее средство коммунистического воспитания масс. Охраняя устои советского общества, осуществляя принуждение по отношению к носителям пережитков капитализма, они способствуют внедрению в повседневный обиход правил социалистического общежития. Это облагораживающее воздействие советского права на сознание масс составляет одну из его характерных особенностей и превращает его в действенное орудие борьбы за полную победу коммунизма.
7. Источники силы советского государства
Обоснование Лениным и Сталиным всемерного укрепления социалистического государства
Решающее значение для развития и упрочения Советского социалистического государства имела и имеет разработка Лениным и Сталиным теории социалистического государства. Громя Каутского и других ревизионистов, Ленин и Сталин не только отстояли коренные положения Маркса и Энгельса о необходимости слома буржуазного государства и создания мощных органов диктатуры пролетариата, но и развили дальше марксизм и по этому основному вопросу.
Уже опыт первых лет Великой Октябрьской социалистической революции показал необходимость для победившего пролетариата создать централизованный крепкий и мощный аппарат государственной власти, способный осуществлять задачи диктатуры пролетариата. Исходя на этого опыта, Ленин и Сталин неустанно боролись за укрепление Советского государства и разоблачали попытки врагов ленинизма подорвать его могущество. Товарищ Сталин дал сокрушительный отпор бухаринцам, истолковавшим тезис об уничтожении классов в качестве оправдания своей контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления государственной власти. Вскрывая диалектику перехода к коммунизму, товарищ Сталин показал, что социалистическое государство может в будущем отмереть не в результате его постепенного ослабления, а лишь в результате его высшего развития. На XVI съезде ВКГІ(б) товарищ Сталин заявил: «...мы вместе с тем стоим за усиление диктатуры пролетариата, представляющей самую мощную и самую могучую власть из всех существующих до сих пор государственных властей». В докладе об итогах первой пятилетки товарищ Сталин развил дальше это положение, указав: «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 394).
В отчетном докладе ЦК ВКП(б) на ХVIII съезда портив товарищ Сталин дал цельную и законченную теорию социалистического государства. Опираясь на опыт строительства Советского государства в капиталистическом окружении, товарищ Сталин конкретизировал общие положения марксизма о государстве, уточнил и углубил их. Он дал новую постановку вопроса о судьбах социалистического государства, показав, что страна победившего социализма, находясь в капиталистическом окружении, должна иметь достаточно сильное государство, чтобы защищать свои завоевания от нападения извне. Товарищ Сталин показал, что социалистическое государство сохранится в СССР и в период коммунизма, если сохранится капиталистическое окружение.
Такое решение вопроса о судьбах государства при социализме и коммунизме явилось результатом творческого развития И. В. Сталиным марксистско-ленинской теории. Оно потребовало пересмотра, применительно к конкретным условиям развития Советского Союза, известной формулы Энгельса о судьбах социалистического государства. Характеризуя развитие марксистско-ленинской теории по этому вопросу, И. В. Сталин писал:
«Энгельс в своём «Анти-Дюринге» говорил, что после победы социалистической революции государство должно отмереть. На этом основании после победы социалистической революции в нашей стране начётчики и талмудисты из нашей партии стали требовать, чтобы партия приняла меры к скорейшему отмиранию нашего государства, к роспуску государственных органов, к отказу от постоянной армии.
Однако советские марксисты, на основании изучения мировой обстановки в наше время, пришли к выводу, что при наличии капиталистического окружения, когда победа социалистической революции имеет место только в одной стране, а во всех других странах господствует капитализм, страна победившей революции должна не ослаблять, а всемерно усиливать свое государство, органы государства, органы разведки, армию, если эта страна не хочет быть разгромленной капиталистическим окружением. Русские марксисты пришли к выводу, что формула Энгельса имеет в виду победу социализма во всех странах или в большинстве стран, что она неприменима к тому случаю, когда социализм побеждает в одной, отдельно взятой стране, а во всех других странах господствует капитализм» (И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитздат, 1950). Хотя эти формулы по вопросу о судьбах социалистического государства исключают друг друга, обе они, как отметил И. В. Сталин, правильны, только каждая для своего времени: «формула советских марксистов — для периода победы социализма в одной или нескольких странах, а формула Энгельса — для того периода, когда последовательная победа социализма в отдельных странах приведёт к победе социализму в большинстве стран и когда создадутся, таким образом, необходимые условия для применения формулы Энгельса» (И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 51).
Неоценимое значение сталинской теории социалистического государства подтверждено ныне самой жизнью. Укрепление социалистического государства принесло великие плоды делу трудящихся и явилось одним из серьезнейших факторов победы Советского Союза во второй мировой войне.
Советская власть – самая прочная власть в мире
Характеризуя внутреннее положение Советского Союза, товарищ Сталин указывал на XVIII съезде ВКП(б), что в результате успешного осуществления политики большевистской партии «...мы имеем полную устойчивость внутреннего положения и такую прочность власти в стране, которой могло бы позавидовать любое правительство в мире» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 575).
На протяжении трех с лишним десятилетии существования Советского государства враги не уставали пророчить его близкую гибель, твердить об его «слабости» и «неустойчивости». История, однако, показала, что они упорно принимали желаемое за действительное. Вопреки их пророчествам Советское
государство непрерывно росло и крепло и ныне представляет собой самое прочное и самое мощное государство в мире.
В чем же состоят источники силы Советского государства?
Источником силы Советского государства является прежде всего его близость к народу, интересы которого оно выражает и защищает. Государственная власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. Это означает, что государственная власть у нас не противостоит народу, не является чуждой и враждебной народу, как в капиталистических странах, а близка народу и пользуется его постоянной и полной поддержкой.
Победа социализма в СССР, приведшая к сплочению рабочих, крестьян и интеллигенции в один общий трудовой фронт, к укреплению дружбы народов СССР, к полной демократизации политической жизни страны, еще более упрочила Советское государство и умножила источники его силы. Характеризуя причины, обеспечившие дальнейшее упрочение советского строя, товарищ Сталин отмечал на XVIII съезде ВКП(б), что победа социализма в СССР привела к установлению морально-политического единства советского общества, укреплению дружбы народов нашей страны, росту советского патриотизма. В этом и состоит, как указывал товарищ Сталин, основа прочности советского строя и источник неиссякаемой силы Советского Союза. Это значит, что «в случае войнам тыл и фронт нашей армии ввиду их однородности и внутреннего единства — будут крепче, чем в любой другой стране, о чем следовало бы помнить зарубежным любителям военных столкновений» (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 590). Эти пророческие сталинские слова полностью подтверждены опытом Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны (1941 —1945) товарищ Сталин развил дальше теорию о советском социалистическом государстве, о его функциях и источниках силы. В докладе о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции он дал классическое определение источников силы Советского государства. Товарищ Сталин указал прежде всего на то, что источником силы Советского Союза является дружба народов СССР. В основе советского государственного строя лежит дружественное сотрудничество всех народов, населяющих наш многонациональный Советский Союз. «Дружба народов наша страны выдержала все трудности и испытания войны и ещё более закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков» (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 1949, стр. 118).
Товарищ Сталин указал, далее, на то, что источником силы нашего государства является руководство партии большевиков, которая как в годы мирного строительства, так и в годы войны выступала в качестве руководящей и направляющей силы советского народа. «Под руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей страны завоевали себе свободу и построили социалистическое общество. В дни Отечественной войны партия предстала перед нами, как вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фашистских захватчиков. Организаторская работа партии соединила воедино и направила к общей цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы и средства делу разгрома врага» (Там же, стр. 119).
Товарищ Сталин указал, наконец, на то, что источником силы Советского Союза является советский строй, который оказался не только лучшей формой организации экономического и культурного подъема страны в годы мирного строительства, но и лучшей формой мобилизации всех сил народов на отпор врагу в военное время.
Государство, представляя собой политическую надстройку, черпает свои силы в том общественно-экономическом строе, на котором оно зиждется. Источником силы Советского государства является советский социалистический строй. Социалистическая система хозяйства дала возможность нашему государству в дни войны в кратчайший срок переключить все производство на военные рельсы, перераспределить материальные ресурсы в интересах победы.
В огне войны была испытана не только социалистическая система хозяйства, но и весь советский общественно-политический строй в целом. История войн учит, указывал товарищ Сталин, что лишь те государства выдерживали испытание войны которые «оказывались сильнее своего противника по развитию и организации хозяйства, по опыту, мастерству и боевому духу своих войск, по выдержке и единству народа на всём протяжении войны» (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 119).
Советский общественный строй обеспечил монолитное единство и выдержку народа как в мирное время, так и на всем протяжении войны. Вторая мировая война еще раз подтвердила, что социалистическое государство является самым прочным и самым мощным государством в мире. В истории до сих пор не бывало случаев, чтобы из такой тяжелой войны государство выходило окрепшим и в материальном, и в политическом, и в духовном отношениях. И если Советский Союз в итоге войны умножил свои силы, то это свидетельствует о его величайшей жизненности.
Результаты второй мировой войны значительно изменило соотношение между силами империализма и силами социализма на международной арене в пользу социализма. Колоссально выросли роль и влияние Советского Союза в международной жизни, его авторитет в глазах миллионов трудящихся всех стран. В годы второй мировой войны народы Советского Союза своей самоотверженной борьбой спасли цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В результате войны при поддержке Советского Союза освободились от империалистического гнета народы ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Азии. Советский Союз стоит ныне во главе антиимпериалистического, демократического лагеря, ведущего борьбу против империалистической реакции, за прочный мир, за демократию, за социализм. Советское социалистическое государство предстало перед всем миром как ведущая сила прогрессивного развития человечества.
Итак, социалистическое государство является главным орудием строительства коммунистического общества и защиты его от врагов. Опыт Советского Союза ярко показал неоценимое значение социалистического государства в борьбе за коммунизм. Трудящиеся Советского Союза успешно отразили все атаки внешних врагов, покончили с эксплуататорскими классами внутри страны и завоевали победу социализма именно потому, что они имеют такое могущественное орудие, как социалистическое государство, руководимое партией Ленина — Сталина. Всемерное усиление социалистического государства, всех его органов было и остается решающим политическим условием победоносного движения советского общества к коммунизму.
Глава десятая. Ликвидация эксплуататорских классов и пути уничтожения классовых различий в СССР
Маркс и Энгельс научно обосновали историческую необходимость уничтожения классов и показали, что основным средством осуществления этой задачи является диктатура пролетариата. Однако вопрос об уничтожении классов ставился Марксом и Энгельсом еще в общей форме, что вполне понятно, так как они не располагали опытом победоносной социалистической революции.
Ленин и Сталин на основе обобщения опыта Великой Октябрьской социалистической революции в СССР развили теорию марксизма. Они указали конкретные пути уничтожения классов, всесторонне разработали вопрос о формах и способах успешного строительства социализма в СССР.
1. Классы и классовая борьба в СССР в период перехода от капитализма к социализму
Опыт Великой Октябрьской социалистической революции подтвердил, что классы нельзя ни «отменить», ни уничтожить сразу. Социалистическая революция не может разрешить свои задачи одним ударом. Она начинается с захвата рабочим классом власти, которая затем используется им как средство, как рычаг для коренного переворота в экономическом базисе общества.
В течение всего переходного периода от капитализма к социализму экономика общества остается многоукладной, состоящей из нескольких укладов хозяйства. Ленин, говоря об экономическом строе СССР после победы Октябрьской революции, отмечал пять хозяйственных укладов, в том числе три основные формы, или уклада, хозяйства: социализм, мелкое товарное производство, частнохозяйственный капитализм. Этим трём укладам хозяйства соответствовали в переходный от капитализма к социализму период три класса: пролетариат, мелкая буржуазия (главным образом крестьянство) и буржуазия, оттеснённая на второстепенные позиции. В соответствии с этим уничтожение классов в нашей стране сводилось к решению двух разнородных, хотя и тесно связанных между собой, задач: 1) ликвидации эксплуататорских классов и 2) социалистической переделке мелкобуржуазных слоёв трудящихся.
Чтобы ликвидировать эксплуататорские классы, нужно было прежде всего лишить их политической власти, что и сделала в октябре 1917 г. Великая Октябрьская социалистическая революция Нужно было, далее, уничтожить их экономическую базу, экспроприировать частнокапиталистическую собственность на средства производства. Нужно было, наконец, не только ликвидировать капиталистические элементы, но и уничтожить те причины, которые их порождали, вырвать их корни в экономике страны. А эту последнюю задачу нельзя было решить, не проведя перестройки всего народного хозяйства на социалистических началах.
Ленин и Сталин указывали, что корни капитализма находятся в мелком товарном производстве. Мелкотоварное производство рождает капиталистические элементы постоянно, стихийно, в массовом масштабе. Поэтому, для того чтобы вырвать корни капитализма и ликвидировать причины, порождающие классы, нужно было перейти от мелкого товарного хозяйства к крупному обобществлённому хозяйству, перевести всё хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу крупного социалистического производства, т.е. уничтожить основные различия между рабочим классом и крестьянством.
Но эта последняя задача по необходимости должна была решаться иными средствами, чем ликвидация эксплуататорских классов, - не путём насильственного ниспровержения, а путём социалистической переделки крестьянского хозяйства, путём терпеливого перевоспитания масс крестьянства.
«Чтобы уничтожить классы, - писал Ленин в 1919 г., - надо, во-первых, свергнуть помещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выполнили, но это только часть и притом не самая трудная. Чтобы уничтожить классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех – работниками. Этого нельзя сделать сразу. Это задача несравненно более трудная и, в силу необходимости, длительная. Это – задача, которую нельзя решить свержением какого бы то ни было класса. Её можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к обобществлённому крупному хозяйству». (В.И.Ленин, Соч., т. 24, изд. 3, стр. 511.). Следовательно, задача уничтожения классов не могла быть исчерпана мерами насильственного подавления эксплуататоров, а предполагала создание таких экономических условий, которые делали бы невозможными эксплуатацию человека человеком и возникновение классовых различий.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции и ликвидация классов помещиков и крупных капиталистов
Победа Великой Октябрьской ческой революции нанесла решительный удар эксплуататорским классам и положила начало процессу уничтожения классов в нашей стране.
До революции эксплуататорскими в России являлись помещики и буржуазия. Буржуазия включала в себя несколько важнейших отрядов: капиталистов – в промышленности, купцов и спекулянтов – в области торговли, кулаков – в сельском хозяйстве. Общая численность эксплуататорских классов достигала в 1913 г. 22 100 тыс. человек (вместе с членами семей), что составляло 15,9% населения страны.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции навсегда уничтожила политическое господство помещиков и капиталистов в нашей стране. Свержение буржуазного империалистического Временного правительства и слом старой государственной машины, разрушение остатков сословного режима и национального гнета, ликвидация контрреволюционной печати и контрреволюционных организаций, наконец, роспуск буржуазного Учредительного собрания — всем этим было обеспечено полное отстранение эксплуататорских классов от политической власти. Первые же конституционные документы Советской республики юридически закрепили достигнутое, открыто провозгласив лишение эксплуататоров политических прав.
Экономическая мощь помещиков и капиталистов была подорвана в результате насильственной экспроприации этих классов. Уже в первый день победы Октябрьской социалистической революции был принят декрет о земле, по которому частная собственность на землю отменялась навсегда, помещичьи, удельные и монастырские земли отбирались без всякого выкупа и передавались в безвозмездное пользование трудящихся. По этому декрету крестьянство получило более 150 млн. десятин помещичьей земли. Таким образом, в первые месяцы Великой Октябрьской социалистической революции была осуществлена ликвидация помещичьего землевладения. Полностью ликвидация помещиков как класса по всей стране (если учесть попытки реставрировать помещичье землевладение в районах, попадавших под власть белогвардейцев и иностранных интервентов) была завершена к концу гражданской войны (1920 г.).
Насильственной экспроприации подверглись в ходе социалистической революции и крупные капиталисты. В течение ноября - декабря 1917 г. и первой половины 1918 г. была национализирована крупная промышленность. Были национализированы банки, представляющие основной нерв хозяйственной жизни. Перешли полностью в руки государства железные дороги, внешняя торговля, торговый флот и т. д. Национализация промышленности и банков нанесла удар не только российской, но и зарубежной буржуазии. Характерной особенностью российской буржуазии являлась ее зависимость от иностранного капитала. В 1914 г. доля иностранных капиталов в общей сумме акционерных капиталов России составляла 43%. Такие решающие отрасли народного хозяйства, как каменноугольная, нефтяная промышленность, больше чем наполовину находились в руках иностранного капитала. Экспроприировав капиталистов, Великая Октябрьская социалистическая революция разорвала цепи зависимости России от международного капитала.
В первые годы Великой Октябрьской социалистической революции был также нанесен серьезный удар капиталистическим элементам деревни — кулачеству. Численность кулаков до революции (в 1913 г.) достигала (вместе с членами семей) 17 100 тыс. — это был наиболее многочисленный эксплуататорский класс. Летом и осенью 1918 г. в деревне развернулась ожесточённая борьба с кулачеством, принявшая форму раскулачивания. Органом этой борьбы явились комитеты бедноты, созданные декретом советской власти от 11 июня 1918 г. Комбеды отбирали у кулаков излишки хлеба, излишнюю землю и излишний инвентарь, оставляя норму земли, одинаковую со всеми крестьянами. Комбеды сыграли серьезную роль в борьбе с кулачеством, а также в обеспечении городов, рабочих центров и Красной Армии продовольствием. Они подорвали мощь сельской буржуазии, осуществив частичную экспроприацию кулачества. Из 80 млн. гектаров земли, принадлежавшей кулакам до революции, было отобрано 50 млн.
Следует отметить различия в масштабах и способах экспроприации капиталистических классов в городе и деревне. Во-первых, в отличие от города, где крупная буржуазия подверглась полной экспроприации, в деревне экспроприация кулачества комитетами бедноты не означала еще полной его ликвидации. Раскулачивание означало в то время частичную конфискацию имущества кулаков, ограничение их деятельности как эксплуататоров, ростовщиков, скупщиков и т. д. Во-вторых, экспроприированные у кулаков средства производства обращались не в общенародную, государственную собственность, как это делалось со средствами производства крупной буржуазии в промышленности, а распределялись между бедняками. Только часть этих средств (например, молотилки, мельницы, маслобойки и т.д.) использовалась для общих нужд крестьянских хозяйств или для организовавшихся сельскохозяйственных артелей и коммун, большая же часть становилась достоянием бедняцких единоличных хозяйств. Это было неизбежно, так как в деревне еще не имелось условий, необходимых для широкой организации общественного социалистического хозяйства.
В результате глубоких политических и экономических преобразований, осуществленных в первые годы Великой Октябрьской социалистической революции, основные отряды эксплуататоров — помещики и крупные капиталисты – были ликвидированы. Эксплуататорские элементы потеряли решающие позиции в экономике страны и были оттеснены на позиции второстепенного, неосновного класса.
Однако социалистическая революция не могла сразу ликвидировать все капиталистические классы и уничтожить эксплуатацию во всех отраслях народного хозяйства. Различные отрасли народного хозяйства страны находились на разных ступенях развития, и не во всех отраслях имелись эконмические предпосылки, необходимые для ликвидации эксплуататорских классов. Высокое развитие капитализма в промышленности сочеталось в России с крайне отсталым земледелием, опутанным сетью докапиталистических отношений. В связи с этим после победы революции можно было «одним ударом» ликвидировать капиталистов в крупной промышленности, а в сельском хозяйстве этого сразу сделать было нельзя. Если классы помещиков и крупной буржуазии могли быть ликвидированы в первые годы революции, то ликвидация кулачества как класса потребовала длительной подготовки.
Пролетариат и крестьянство – основные классы советского общества в переходный период
Основными классами советского общества в период перехода от капитализма к социализму являлись пролетариат и трудящееся крестьянство, не эксплуатирующее чужого труда.
Пролетариат был при капитализме угнетённым классом, лишенным собственности на средства производства. После победы революции пролетариат превратился в господствующий класс, стал в лице своего государства хозяином всех крупных заводов, фабрик, транспорта, банков, земли и пр. Это — класс, который установил свою революционную диктатуру и направил развитие общества к социализму.
Вторым основным классом переходного периода, наряду с рабочим классом, являлся класс трудящихся крестьян, не эксплуатировавших чужого труда. Крестьянство, представлявшее в России громадное большинство населения, занимало и в эпоху диктатуры пролетариата среднее, промежуточное положение. Хозяйство крестьян основывается на частной собственности и мелкотоварном производстве. Вследствие этого крестьянство отличается двойственностью: с одной стороны, крестьянин является тружеником, он не эксплуатирует чужого труда, и это сближает его с рабочим; с другой стороны, он является частным собственником, и это роднит его с буржуазией. Отсюда неизбежные колебания крестьянства между рабочим классом и буржуазией. Эти колебания не прекратились и в эпоху диктатуры пролетариата.
Чем же объяснить, что крестьянство, которое при капитализме не являлось основным классом, стало после победы Октябрьской революции одним из основных классов советского общества? Это объясняется тем, что после свержения эксплуататорских классов коренным образом изменилось соотношение классовых сил в стране, изменилось и положение крестьянства. В течение первых лет Октябрьской социалистической революции советская деревня осереднячилась. До революции в деревне 65% крестьянских дворов составляла беднота, 20% — среднее крестьянство и 15 %:—кулачество. В 1918 г. в период комбедов часть кулаков была экспроприирована и опустилась до середняков, много бедняков, получивших землю и средства производства, поднялось до положения середняков. Вследствие этого удельный вес бедняков сократился примерно до 30% общего числа крестьянских дворов, а удельный вес середняков значительно вырос, достигнув примерно 60—65%. Середняк стал центральной фигурой земледелия. От взаимоотношений рабочего класса с трудящимся крестьянством, прежде всего со средним крестьянством, зависела судьба социализма, все будущее Советской страны. В этом смысле Ленин говорил, что союз рабочего класса с крестьянством — это альфа и омега Советской власти, необходимое и достаточное условие её прочности.
Руководящая роль в этом союзе принадлежала и принадлежит рабочему классу. Ленин и Сталин неоднократно подчеркивали руководящую роль пролетариата как единственного класса, способного привести к победе социализма и осуществить задачу уничтожения классов.
«Только тот из угнетенных классов,— учил Ленин,— способен своей диктатурой уничтожить классы, который обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с капиталом, — только тот класс, который усвоил себе всю городскую, промышленную, крупно-капиталистическую культуру, имеет решимость и способность отстоять её, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся,— только тот класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые историей на того, кто рвёт с прошлым и смело пробивает себе дорогу к новому будущему, — только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистёрскому, к этим качествам, которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у «интеллигенции»,— только тот класс, который «проделал закаляющую школу труда» и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся, всякому честному человеку». (В.И.Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 360.) .
Новые формы классовой борьбы в эпоху диктатуры пролетариата
С установлением диктатуры пролетариата классовая борьба не прекратилась, она только изменила свои формы. Пролетариат в этот период приобрел новые орудия классовой борьбы. Важнейшим из этих орудий является новый государственный аппарат. «Государство, при диктатуре пролетариата, есть лишь новое орудие его классовой борьбы»,— указывал Ленин. («Ленинский сборник» III, стр. 498.)
Основное изменение в условиях классовой борьбы пролетариата в переходный период от капитализма к социализму стоит в том, что он ведет теперь борьбу в качестве господствующего класса, используя против своих врагов все средства, какие имеются в руках господствующего класса, все орудия государственной власти: армию, суд, тюрьмы, разведку и т. д.
В набросках брошюры «О диктатуре пролетариата» (1919—начало 1920 г.) Ленин охарактеризовал новые формы и задачи классовой борьбы пролетариата. Ленин отметил пять новых форм классовой борьбы в эпоху пролетарской диктатуры:
1)Подавление сопротивления эксплуататоров. О подавлении сопротивления эксплуататоров Ленин говорил как о задаче и содержании целой эпохи, всего переходного периода. Победивший пролетариат подавляет сопротивление свергнутых классов при помощи различных средств: прямыми военными мерами ликвидирует контрреволюционные заговоры, саботаж, вредительство, лишает эксплуататоров политических прав, принимает меры экономического воздействия и т. д.
В ходе классовой борьбы выявилась теснейшая связь между внутренними и внешними врагами пролетариата. Социалистическая революция одержала победу первоначально лишь в одной стране, окруженной капиталистическими государствами. Поэтому у нее оказался не только внутренний, но и внешний фронт классовой борьбы. Капиталистическое окружение поддерживало все враждебные советской власти классовые силы внутри страны.
2)Гражданская война. Гражданская война есть крайняя форма обострения классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией, это открытая борьба между классами с opужием в руках. В силу многообразных международных связей капитализма гражданская война победившего пролетариата против национальной буржуазии перерастает в войну с буржуазией окружающих империалистических государств. Так и получилось в 1918-1920 гг., когда Советской Республике пришлось отбивать объединённый натиск иностранных интервентов и белогвардейской контрреволюции.
3)Нейтрализация мелкой буржуазии. Это своеобразная форма классовой борьбы, которая вытекает из двойственного положения мелкой буржуазии. Задача пролетариата по отношению к мелкой буржуазии состоит в том, чтобы пресекать ее колебания в сторону буржуазии и вести за собой. «Нейтрализация складывается из убеждения, примера, обучения опытом, пресечения уклонений насилием и т. п.»,— отмечал Ленин. («Ленинский сборник» III, стр. 495.) Формулировка этой задачи, данная Лениным в его наброске о формах классовой борьбы в эпоху диктатуры пролетариата, соответствовала первому периоду революции, когда партия проводила политику нейтрализации среднего крестьянства. В дальнейшем после упрочения советской власти, с конца 1918— начала 1919г., партия большевиков перешла к политике прочного союза с середняком. Она руководствовалась лозунгом Ленина: «Уметь достигать соглашения с средним крестьянином – ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на бедноту». (В.И.Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 171.) При этом сохранила своё значение та основная задача, на которую указывал Ленин, говоря об этой форме классовой борьбы,— государственное руководство пролетариата в отношении непролетарских трудящихся масс.
«Использование» буржуазии. Указывая на эту форму классовой борьбы, Ленин имел в виду то, что пролетариат ставит себе на службу буржуазных специалистов, использует их опыт в организации производства. Пролетариат берет власть, не располагая еще достаточным опытом и знаниями, необходимыми для управления, руководства хозяйством. Этим он, между прочим, отличается от всех прежде господствовавших классов, которые имели возможность еще в недрах старого строя создавать свою культуру, овладевать знаниями и навыками, необходимыми для управления. Напротив, пролетариат получает такую возможность только после свержения старого строя, сбросив с себя ярмо капиталистической эксплуатации. Отсюда для победившего пролетариата вытекает необходимость поставить себе на службу буржуазных специалистов, использовать их опыт и знания, чтобы научиться искусству управления и хозяйничанья. Использование буржуазных специалистов принимает характер классовой борьбы, потому что победившему пролетариату приходится пре-одолевать их сопротивление, пресекать силой попытки саботажа, вредительства и т. д.
Воспитание новой дисциплины. Перед рабочим классом стоит задача — воспитать всех трудящихся в духе новой, сознательной, социалистической дисциплины труда. Воспитание социалистической дисциплины — это своеобразная форма классовой борьбы, при помощи которой пролетариату приходится преодолевать сопротивление отсталых групп и слоев трудящихся, зараженных навыками капитализма. «Разве классовая борьба в эпоху перехода от капитализма к социализму,— писал Ленин,— не состоит в том, чтобы охранять интересы рабочего класса от тех горсток, групп, слоев рабочих, которые упорно держатся традиций (привычек) капитализма и продолжают смотреть на Советское государство по прежнему: дать «ему» поменьше и похуже,— содрать с «него» денег побольше». (В.И.Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 79.).
В воспитании новой дисциплины главную роль играют методы убеждения. Но, как и всякая иная форма классовой оно предполагает также и применение методов принуждения. Меры принуждения должны быть направлены против лодырей, тунеядцев, против тех, кто сопротивляется созданию дисциплины. Ленин требовал, «чтобы ни один жулик (в том числе и отлынивающий от работы) не гулял на свободе, а сидел в тюрьме или отбывал наказание на принудительных работах тягчайшего вида». (В.И.Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 374.) .
Победившему пролетариату приходится подавлять сопротивление эксплуататоров не только в области политики и экономики, но и в области идеологии. В идеологической области сопротивление оказывается даже наиболее упорным, длительным, глубоким, продолжаясь и после того, как сломлено вооружённое сопротивление враждебных пролетариату классов. Поэтому борьба против идейного сопротивления старого общества, против пережитков капитализма в сознании трудящихся является одной из важнейших задач классовой борьбы пролетариата. Без разрешения этой задачи он не может укрепить свое политическое господство.
И в условиях пролетарской диктатуры пролетариат ведёт политическую, экономическую и идеологическую классовую борьбу. При этом политическая борьба по-прежнему остаётся главной формой классовой борьбы. Ленин и Сталин подчёркивали, что ко всем вопросам социалистического строительства - и экономическим и идеологическим — необходимо подходить прежде всего с политической точки зрения, оценивать их политически. Решающим условием успешного преодоления враждебных сил старого общества и построения социалистического общества явилась правильная политика большевистской партии, которая прозорливо и мудро указала пути, ведущие к уничтожению классов.
Социалистическое преобразование экономики СССР и ликвидация капиталистических элементов
В октябре 1917 г. пролетариат победил капитализм, буржуазию политически. В ходе гражданской войны 1918—1920 гг. были отбиты попытки буржуазии и помещиков восстановить при помощи интервентов свое политическое господство, а поддерживавшие их мелкие партии — эсеры, меньшевики, анархисты, националисты — пошли ко дну. Однако в области экономики вопрос «кто — кого» еще не был решен. Капитализм сохранил свои корни в экономике страны: мелкое товарное хозяйство постоянно выделяло из своей среды капиталистические элементы. Поэтому рабочему классу, социализму предстояла решающая борьба с капитализмом: нужно было одержать победу над капиталистическими элементами, чтобы добить капитализм экономически.
Успешное решение вопроса «кто—кого», вопроса о победе социалистических элементов народного хозяйства над капиталистическими, зависело прежде всего от установления правильных экономических взаимоотношений между городом и деревней, от укрепления на новой, экономической, основе союза рабочих и крестьян. В годы гражданской войны этот союз носил военно-политический характер и поддерживался общей заинтересованностью рабочего класса и крестьянства в разгроме интервентов и белогвардейцев. Крестьяне на своем опыте убедились в том, что только власть рабочего класса могла закрепить за ними землю, отобранную у помещиков. С переходом к мирному хозяйственному строительству партия большевиков добилась укрепления союза рабочего класса с трудящимся крестьянством на новой, хозяйственной основе. И рабочий класс и крестьянство были заинтересованы в том, чтобы развитие сельского хозяйства пошло по социалистическому пути, а не по капиталистическому. Капиталистический путь развития мог принести большинству крестьян только разорение, ибо он предполагал обнищание большинства крестьянства во имя обогащения верхних слоев городской и сельской буржуазии. Поэтому крестьянство не могло быть заинтересовано в развитии по капиталистическому пути, чем и обусловливалась общность его коренных интересов с интересами рабочего класса.
В то же время внутри союза рабочего класса и крестьянства были неизбежны и некоторые противоречия. Рабочий класс и крестьянство представляли классы не только различные по своему экономическому положению, но и отличавшиеся разными тенденциями. Для рабочего класса была характерна социалистическая тенденция, а для крестьянства как класса частных собственников — товарно-капиталистическая тенденция. В связи с этим Ленин называл крестьянство «последним капиталистическим классом». Разъясняя приведенные слова Ленина, товарищ Сталин указывал: «Это значит, во-первых, что индивидуальное крестьянство является особым классом, строящим хозяйство на основе частной собственности на орудия и средства производства и отличающимся, ввиду этого, от класса пролетариев, строящих хозяйство на основе коллективной собственности на средства производства.
Это значит, во-вторых, что индивидуальное крестьянство является таким классом, который выделяет из своей среды, порождает и питает капиталистов, кулаков и вообще разного рода эксплуататоров». (И.В.Сталин, соч., т. 11, стр. 96.).
В этих условиях пролетарское руководство в отношении крестьянства имело решающее значение: пролетариат должен был вовлечь трудящееся крестьянство в русло социалистического строительства.
Пути осуществления этой задачи были определены Лениным в его статьях и выступлениях о новой экономической политике и в особенности в его последних статьях, относящихся к январю — марту 1923 г.: « О кооперации», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше». Ленин указывал, что в Советской Республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и крестьян. Несмотря на известные противоречия между этими классами, в нашем социальном строе не были заложены с необходимостью основания для раскола между ними. В связи с этим Ленин ставил перед партией задачу «внимательно следить за обстоятельствами, из которых может вытечь раскол, и предупреждать их, ибо в последнем счете судьба нашей республики будет зависеть от того, пойдёт ли крестьянская масса с рабочим классом, сохраняя верность союзу с ним, или она даст «нэпманам», т.-е. новой буржуазии разъединить себя с рабочими, расколоть себя с ними». (В.И. Ленин, Соч., т. 27, изд. 3, стр. 405.).
В зависимости от этого должен был решиться и вопрос «кто - кого», поставленный Лениным при переходе к нэпу, вопрос о том, кто победит — социалистические или капиталистические элементы. Ленин не раз подчеркивал, что исход этой борьбы зависит прежде всего от правильности политики партии и Советского государства. «Политика есть отношение между классами — это решает судьбу республики». (В.И. Ленин, Соч., т. 26, изд. 3, стр. 248.) При правильной политике партия большевиков и советская власть имели возможность сохранить и укрепить союз рабочего класса с крестьянством под руководством рабочего класса и одержать победу над буржуазией.
Перевести все хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу, на базу современного крупного производства — таков путь к социализму, указанный Лениным. В создании крупной индустрии, прежде всего тяжелой, Ленин видел ключ к перестройке сельского хозяйства на коллективных началах. Только на базе новой техники, на базе коллективного труда, учил Ленин, можно вывести крестьянство из нищеты и переработать психологию крестьянина — мелкого собственника – в духе социализма.
Удержав в своих руках политическую власть и основные командные высоты народного хозяйства: банки, крупную промышленность, железные дороги, внешнюю торговлю и пр., рабочий класс располагал необходимыми рычагами, для того чтобы победить капитализм экономически и построить социализм. После кратковременного отступления, продолжавшегося в течение первого года нэпа, советская власть закрепила свои позиции в экономике и перешла вновь в наступление на капиталистические элементы.
Раньше всего наступление на частный капитал развернулось в области торговли. Если в 1925/26 г. в руках частных торговцев было больше 42% розничного оборота, то в 1927/28 г. Удельный вес частного капитала упал до 24,8% розничного оборота. Начиная с 1927 г. оборот частной торговли начал сокращаться не только в процентном отношении, но и абсолютно. В результате развития социалистической промышленности, государственной и кооперативной торговли тысячи средних и мелких капиталистов были вытеснены и пошли ко дну.
Естественно, что наступление на капиталистические элементы города вызывало со стороны последних ожесточенное сопротивление. Одной из форм сопротивления классового врага было злостное вредительство верхушки буржуазной интеллигенции в различных отраслях народного хозяйства СССР. По указке иностранных империалистических разведок, при финансовой и иной поддержке бывших владельцев предприятий, находившихся за границей, возник ряд вредительских организаций, пытавшихся сорвать социалистическую индустриализацию страны, разрушить народное хозяйство, подготовить интервенцию против СССР, восстановить в СССР капиталистическое рабство.
Сопротивление эксплуататорских элементов нашло свое отражение и в партии, где рупором разорявшейся городской буржуазии явились в 1925—1927 гг. троцкисты и зиновьевцы. «По существу троцкисты пытались создать в СССР политическую организацию новой буржуазии, другую партию — партию капиталистической реставрации». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 266.). В своей борьбе против партии большевиков эти презренные изменники рабочего класса объединились вместе с остатками других разбитых оппозиционных групп в антипартийный блок, воплощавший дух пораженчества и капитулянтства перед капитализмом и стремившийся в угоду империалистам разложить большевистскую партию и повернуть страну на путь реставрации капитализма. Потерпев поражение, будучи идеологически и политически разбит партией, троцкизм перестал быть политическим течением, троцкисты превратились в банду политических двурушников, готовых на любые средства борьбы против народа.
Характерной чертой троцкизма являлось неверие в силы пролетарской революции, отрицание возможности союза рабочих и крестьян, отрицание возможности построения социализма в СССР. Троцкисты проповедывали неизбежность «неразрешимых конфликтов» между рабочим классом и крестьянством, рассматривали крестьянство как силу, враждебную рабочему классу, и отвергали возможность вовлечения крестьянства в русло социалистического строительства. Они провокационно утверждали, будто развитие промышленности в СССР может происходить лишь за счет разорения крестьянства, путём его экспроприации и пролетаризации. Эти антиленинские установки могли привести только к развалу союза рабочего класса и крестьянства, к подрыву социалистической индустриализации. Это была капитулянтская программа, рассчитанная на реставрацию капитализма в Советской стране.
Под руководством товарища Сталина партия разгромила троцкизм, идейно похоронила его. Развивая ленинскую идею гегемонии рабочего класса, товарищ Сталин доказал, что рабочий класс может и должен быть гегемоном в отношении основной массы крестьянства в области экономической, в деле строительства социализма, так же как он был в октябре 1917 г. гегемоном крестьянства в области политической, в деле свержения власти буржуазии и установления диктатуры пролетариата. Это значит, что рабочий класс, будучи руководителем крестьянства должен использовать свою государственную власть, для того чтобы вовлечь трудящееся крестьянство в русло социалистического строительства, переделать его хозяйство на началах социализма.
Товарищ Сталин показал, что социалистическая индустриализация страны играет ведущую роль в осуществлении этой задачи. Разработанная товарищем Сталиным и принятая XIV съездом ВКП(б) программа социалистической индустриализации предусматривала укрепление союза рабочего класса с трудящимся крестьянством и развертывание наступления на капиталистические элементы. Осуществление этой программы вело к неуклонному росту удельного веса и усилению командующей роли социалистических форм хозяйства за счет капиталистических форм. Уже к концу 1927 г., когда определились значительные достижения политики социалистической индустриализации, товарищ Сталин констатировал серьезные успехи в решении вопроса «кто — кого». На XV съезде ВКП(б) товарищ Сталин говорил:
«Этот вопрос был поставлен Лениным в 1921 году, после введения новой экономической политики. Сумеем ли мы связать нашу социализированную индустрию с крестьянским хозяйством, оттеснив частного торговца, частного капиталиста и научившись торговать, или частный капитал одолеет нас, учинив раскол между пролетариатом и крестьянством,— вот как стоял тогда вопрос. Теперь мы можем сказать, что в основном в этой области мы имеем уже решающие успехи…
Но теперь вопрос «кто — кого» приобретает уже другой характер. Теперь этот вопрос переносится из области торговли в область производства, в область производства кустарного, в область производства сельскохозяйственного, где частный капитал имеет свой известный удельный вес и откуда его нужно систематически выживать». (И.В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 298-299.).
В крупной промышленности роль частного капитала была уже и тогда ничтожной. Но в мелкой и кустарной промышленности частный капитал занимал еще некоторое место. В последующие годы развитие социалистической промышленности и кооперирование кустарного производства привели к вытеснению частного капитала и из области мелкой промышленности. На XVI съезде ВКП(б) в 1930 г. товарищ Сталин отметил, что вопрос «кто — кого» уже решен в основном в пользу социалистических форм промышленности, решен окончательно и бесповоротно.
Вслед за наступлением на капиталистические элементы в торговле и промышленности партия и Советское государство начали наступление на капиталистические элементы и в сельском хозяйстве. Успешно решить вопрос «кто — кого» в сельском хозяйстве, сломить кулака значило вместе с тем покончить с капиталистическими классами в нашей стране, ибо кулачество было последним и наиболее многочисленным эксплуататорским классом в СССР. (В 1928 г. эксплуататорские элементы в СССР насчитывали 6 801 тыс. человек, что составляло 4,5% общего числа населения, в том числе кулаков было 5 618 тыс. человек, или 3,7% населения.)
Успешное наступление на капиталистические элементы деревни было бы невозможно без разгрома бухаринско-рыковской оппозиции, развернувшей в 1928—1929 гг. ожесточенную борьбу против партии и пытавшейся повернуть страну на путь реставрации капитализма. Защитники и идеологи кулачества — бухаринцы развернули правооппортунистическую, буржуазно-реставраторскую программу, краеугольным камнем которой была проповедь мирного врастания кулачества в социализм. Эти реставраторы капитализма утверждали, что через кооперацию и банки «кулацкие кооперативные гнезда» будут постепенно врастать в систему социалистического хозяйства. По их утверждениям, должны были врастать в социалистическую систему и концессионные предприятия. Эта вредительская «теория» имела своим прямым назначением — доказать желательность свободного развития капиталистических элементов и ненужность их ликвидации. Свою «теорию» бухаринцы дополняли вражеским выводом о затухании классовой борьбы в переходный период, о постепенном угасании классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
Разоблачая эту буржуазно-реставраторскую «теорию», товарищ Сталин показал, что единственным путем к уничтожению классов является путь ожесточенной классовой борьбы пролетариата, что уничтожение классов достигается не в результате затухания классовой борьбы, а в результате её обострения.
«Не бывало еще в истории таких случаев, — говорил товарищ Сталин, — чтобы умирающие классы добровольно уходили со сцены. Не бывало еще в истории таких случаев, чтобы умирающая буржуазия не испробовала всех остатков своих сил для того, чтобы отстоять своё существование… наше продвижение вперёд, наше наступление будет сокращать капиталистические элементы и вытеснять их, а они, умирающие классы, будут сопротивляться, несмотря ни на что.
Вот в чём основа обострения классовой борьбы в нашей стране». (И.В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 37-38.)
Товарищ Сталин указывал при этом, что капиталистические элементы, вытесняемые ростом социализма, теряющие почву под ногами, не прекращают своего сопротивления, а, наоборот, переходят к наиболее острым средствам и формам сопротивления. Эти указания товарища Сталина имели неоценимое значение для мобилизации сил рабочего класса и трудящегося крестьянства против их классовых врагов.
Чем ближе была гибель эксплуататорских классов, тем ожесточеннее становилось их сопротивление. Враги применяли самые зверские методы борьбы: организовывали саботаж, диверсии, убийства советских работников, шпионаж в пользу иностранных разведок и т. д. Они делали ставку на интервенцию иностранных держав для свержения советской власти, готовы были распродать родину иностранным империалистам. В борьбе против социализма объединились все враги народа - от бывших белогвардейцев и кулаков до презренных троцкистско-зиновьевских и бухаринских изменников. Но все их вылазки были отбиты советской властью.
Решительно подавляя сопротивление врагов, партия и советская власть подготовили условия для ликвидации кулачества как класса и развернули наступление социализма по всему фронту.
Покончить с кулачеством как классом можно было только на основе массовой коллективизации сельского хозяйства, ибо корни капитализма были в мелком индивидуальном крестьянском хозяйстве. Выполнение таких великих исторических задач, как перевод крестьян на путь коллективного хозяйства и ликвидация кулачества как класса, требовало самой тщательной подготовки, которая «по глубине и размаху может быть смело поставлена в один ряд с подготовкой Великой Октябрьской социалистической революции». («Иосиф Виссарионович Сталин, Краткая биография», изд. 2, М. 1950, стр. 115.). Под руководством товарища Сталина - гениального стратега пролетарской революции — партия большевиков провела эту подготовку и осуществила исторический поворот в развитии деревни.
Во второй половине 1929 г. в деревне развернулось массовое колхозное движение, подготовленное всей предшествующей политикой партии, ростом социалистической индустрии, развитием сельскохозяйственной кооперации, опытом первых колхозов и совхозов, а также решительной борьбой с кулачеством во время хлебозаготовительных кампаний 1928 и 1929 гг.
Проведение сплошной коллективизации означало новый этап в развитии классовой борьбы в деревне. Переход к сплошной коллективизации, как указывает товарищ Сталин, совершался не в порядке простого и мирного вступления крестьян в колхозы, а в порядке массовой борьбы крестьян против кулачества. Сплошная коллективизация сразу приняла характер мощной антикулацкой лавины. Сплошная коллективизация означала переход всех земель в районе села в руки колхоза, а так как часть земель находилась в руках кулаков, то проведение сплошной коллективизации обязательно предполагало ликвидацию кулачества.
Решительное наступление на кулачество было предпринято партией большевиков и советской властью после длительной работы по укреплению союза рабочего класса и крестьянства под руководством рабочего класса, по развитию социалистической индустрии и коллективизации сельского хозяйства. От политики ограничения эксплуататорских элементов партия и Советское государство перешли к политике ликвидации кулачества как класса. Ликвидация кулачества как класса была проверена на основе сплошной коллективизации.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции положила начало ликвидации эксплуататорских классов, победа колхозного строя обеспечила завершение этой исторической задачи. «Если конфискация земли у помещиков была первым шагом Октябрьской революции в деревне,— говорилось в решениях XVI съезда ВКП(б) ,— то переход к колхозам является вторым и притом решающим шагом, который определяет важнейший этап в деле построения фундамента социалистического общества в СССР». («ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 2, изд. 6, 1941, стр. 428.).
Революционный переворот, начавшийся в 1929 г. в нашей деревне, имел своеобразные особенности, отличавшие его от всех прошлых революций. Когда в прошлом назревали глубокие революционные перевороты, то их материальные предпосылки подготовлялись стихийным экономическим развитием, не зависевшим от воли и сознательной деятельности людей. Своеобразие революционного переворота в развитии нашей деревни, начавшегося в 1929 г., заключалось в том, что его материальные предпосылки создавались партией большевиков и Советским государством сознательно. В то время как в прошлом революционные перевороты осуществлялись в результате напора передовых классов снизу, опрокидывавшего устои отжившего порядка, этот переворот был осуществлен «сверху, по инициативе государственной власти, при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 291-292.). Поэтому, как указывает товарищ Сталин в работе «Относительно марксизма в языкознании», этот переворот был осуществлён не в порядке взрыва, а в порядке постепенного перехода от старого, буржуазного индивидуально-крестьянского строя к новому, социалистическому, колхозному строю.
Именно это соединение планомерного воздействия государственной власти с могучим творческим подъемом самих масс, обеспечило успех социалистического преобразования в деревне. Оно дало возможность разрешить труднейшую после завоевания пролетариатом власти задачу социалистической революции задачу перевода на путь социализма десятков миллионов мелких единоличных крестьянских хозяйств, задачу ликвидации кулачества как самого многочисленного эксплуататорского класса.
В результате осуществления этого революционного переворота кулачество было экспроприировано, подобно тому, как в1918 г. были экспроприированы капиталисты в промышленности, с той, однако, разницей, что на этот раз средства производства, отобранные у эксплуататоров, перешли не в руки государства, а в руки объединенных крестьян, в руки колхозов.
Товарищ Сталин указал, что этот переворот был равнозначен по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 г. Эта революция разрешила одним ударом три коренных вопроса социалистического строительства:
«а) Она ликвидировала самый многочисленный эксплуататорский класс в нашей стране, класс кулаков, оплот реставрации капитализма;
б) Она перевела с пути единоличного хозяйства, рождающего капитализм, на путь общественного, колхозного, социалистического хозяйства самый многочисленный трудящийся класс в нашей стране, класс крестьян;
в) Она дала Советской власти социалистическую базу в самой обширной и жизненно необходимой, но и в самой отсталой области народного хозяйства — в сельском хозяйстве». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 292.).
С ликвидацией кулачества как класса был уничтожен последний эксплуататорский класс в СССР. Однако ликвидация эксплуататорских классов не означала прекращения классовой борьбы. Враждебное Советской стране капиталистическое окружение использовало остатки эксплуататорских классов, осколки разбитых партией антипартийных групп и течений для организации вредительства, диверсий, шпионажа, для подготовки новой интервенции против СССР. В лице троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, националистов иностранные разведки нашли готовые кадры для своей шпионской и подрывной работы. В 1934—1938 гг. советская власть разгромила ряд шпионско-вредительских организаций, созданных троцкистско-бухаринскими изменниками и предателями. В связи с этим товарищ Сталин с особой силой, подчеркивал необходимость революционной бдительности. Он неоднократно предупреждал большевиков, что враги народа, доживая последние дни, не оставляют своей борьбы против советской власти, а, наоборот, хватаются за самые отчаянные средства борьбы.
«Надо иметь в виду,— говорил товарищ Сталин в 1937 г.,— что остатки разбитых классов в СССР не одиноки. Они имеют прямую поддержку со стороны наших врагов за пределами СССР. Ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борьбы имеет своё действие в рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки разбитых классов. И именно потому, что они об этом знают, они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылазки.
Так учит нас история. Так учит нас ленинизм». (И.В. Сталин, О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников, Госполитиздат, 1938, стр. 18.).
Руководствуясь этими указаниями товарища Сталина, партия большевиков и советская власть разгромили шпионов и покончили с троцкистско-бухаринскими наемниками капитала.
Международное значение опыта классовой борьбы трудящихся СССР
Опыт Советского Союза, где уже ликвидированы все эксплуататорские классы, служит и будет служить руководством для трудящихся других стран. Разработанные Лениным и Сталиным пути ликвидации эксплуататорских классов, формы и методы социалистического строительства, основы экономической политики пролетариата в переходный период от капитализма к социализму, опыт классовой борьбы в СССР имеют всемирно-историческое значение.
Ныне при поддержке Советского Союза начали свое движение по пути социализма европейские страны народной демократии (Чехословакия, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Албания). Эти страны уже вступили в переходный период от капитализма к социализму.
Мощная поддержка Советского Союза обусловила некоторое своеобразие в путях развития и формах классовой борьбы в странах народной демократии. Если в Советской России в 1918—1920 гг. победившим рабочим и крестьянам пришлось вести гражданскую войну против внутренней контрреволюции и защищать свою страну от иностранной военной интервенции, то в странах народной демократии, поскольку они движутся к социализму не в одиночестве, а при поддержке Советского Союза, трудящиеся оказались избавленными от иностранной военной интервенции и гражданской войны.
Однако это вовсе не означало возможности продвижения этих стран к социализму мирным путем, без классовой борьбы, без ее обострения, как это утверждали правооппортунистические и националистические предатели, проникшие в pяды коммунистических и рабочих партий. Развитие стран народной демократии вновь подтвердило, что классовая борьба в переходный период от капитализма к социализму не затухает, а обостряется.
Основные уроки пройденного трудящимися СССР пути и в особенности выводы о неизбежности обострения классовой борьбы в переходный период, о руководящей роли рабочего класса и его партии в строительстве социализма, о решающем значении но-вой государственной власти для подавления свергнутых эксплуататоров и для обеспечения победы социализма, об огромной роли разведки для борьбы со шпионами, диверсантами, вредителями, агентами капитала — все эти выводы имеют решающее значение и для развития стран народной демократии. Политические и экономические преобразования, уже осуществленные в этих странах, например ликвидация помещичьего землевладения, национализация крупной промышленности и банков, могли быть проведены лишь благодаря руководству партии рабочего класса. Известно, например, что в Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Польше сначала была национализирована лишь часть крупных предприятий, прежде всего предприятия, принадлежавшие немцам и изменникам народа; затем были приняты законы о дальнейшем расширении круга национализируемых предприятий. Принятие этих законов проходило в борьбе против сил реакции, при сопротивлении колеблющихся элементов. Без руководства партий рабочего класса было бы невозможно обеспечить дальнейшее углубление социалистических преобразований в этих странах.
В ходе ожесточенной классовой борьбы были разгромлены реакционные партии, стремившиеся к реставрации капитализма и империалистического гнета. Вокруг коммунистических партий сплотились все революционные силы, стремящиеся вести развитие своих стран к социализму. В результате этого осуществлено объединение левого крыла социал-демократических партий с коммунистическими партиями на базе марксизма - ленинизма в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Польше. Создание единых партий рабочего класса, осуществленное на базе марксизма-ленинизма, способствовало усилению руководящей роли рабочего класса во всей общественной и государственной жизни стран народной демократии.
Успешное продвижение стран народной демократии по пути к социализму закономерно вызывает усиление сопротивления классово враждебных сил как внутри этих стран, так и за их пределами. Империалистический лагерь, возглавляемый правящими кругами США и Англии, отнюдь не желает мириться с тем, что народы Центральной и Юго-Восточной Европы сбросили с себя оковы империализма. Стремясь реставрировать капиталистические порядки и сорвать дело социалистического строительства в этих странах, повернуть их против Советского Союза, империалистическая реакция применяет самые гнусные и коварные приемы: организует шпионаж, заговоры, диверсии, убийства, подготовляет интервенцию. Ее штурмовым отрядом служит презренная троцкистско-фашистская клика Тито, пробравшаяся обманным путем к власти в Югославии. Как было установлено на процессах Райка и его сообщников в Венгрии и Трайчо Костова в Болгарии, главарь югославской фашистской банды Тито и его ближайшие сообщники уже давно завербованы и взяты на шпионскую службу англо-американскими империалистами.
Деятельность фашистско-шпионской банды Тито наглядно показывает, с какой злобой и ожесточением борются силы империалистической реакции против демократии и социализма, какие коварные средства применяют эксплуататорские классы и их агентура в борьбе против трудового народа. Опыт трудящихся Советского Союза, разгромивших под руководством партии Ленина - Сталина все происки внешних и внутренних врагов и добившихся победы социализма в СССР, учит трудящихся стран народной демократии революционной бдительности и непримиримости к врагам народа.
2. Победа социализма в СССР и изменение классовой структуры советского общества
Классовый состав населения СССР
В своем докладе «О проекте Конституции Союза ССР» И. В. Сталин показал, что в результате победы социализма коренным образом изменился экономический базис, а сообразно с этим изменилась и классовая структура советского общества. C победой социализма были ликвидированы все эксплуататорские классы. Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало купцов и спекулянтов в области товарооборота.
По данным переписи 1939 г., социальный состав населения СССР (без новых республик и западных областей Украины и Белоруссии) был следующим: рабочие и служащие города и села составляли 49,7% населения, колхозники и кооперированные кустари — 46,9, крестьяне-единоличники и некооперированные кустари — 2,6, нетрудящиеся — 0,04%.
Таким образом, ныне все население нашей страны (за ничтожным исключением) состоит уже из трудящихся, и, следовательно, мы прошли главный и решающий этап по пути уничтожения классов. Уничтожена эксплуатация человека человеком, представляющая основную характерную черту классового общества.
В 1920 г. в речи на III съезде РКСМ В. И. Ленин, отвечая на вопрос, что такое классы, сказал: «Это то, что позволяет одной части общества присваивать себе труд другой». (В.И. Ленин, Соч., т. 30, изд. 3, стр. 411.). Таких общественных групп, из которых одна могла бы присваивать труд другой, в СССР уже не стало. В этом смысле наше общество уже нельзя назвать классовым. Но, как мы знаем, ликвидацией эксплуататорских классов еще не исчерпывается задача уничтожения классов. Еще остается некоторая, хотя и не коренная разница между рабочим классом и крестьянством. Следовательно, в нашем социалистическом обществе еще существуют классы, но только трудящиеся классы.
Изменение социальной природы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции
Ныне советское общество состоит, как указывал товарищ Сталин, из двух классов — рабочего класса и класса крестьян. Кроме этих классов у нас существует как особая общественная прослойка интеллигенция. Облик этих социальных групп за годы социалистического строительства в корне изменился.
Рабочий класс СССР не только вырос количественно, но и претерпел глубокое качественное изменение. В его составе нет больше рабочих, занятых на частнокапиталистических предприятиях, ибо таких предприятий в СССР уже не существует; нет сельскохозяйственных пролетариев-батраков, эксплуатируемых кулаками. Все наши рабочие заняты теперь на социалистических предприятиях, рабочий класс полностью освобожден от эксплуатации. «Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролетариатом? Ясно, что нельзя, — указывал товарищ Сталин, — … пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность на орудия и средства производства и направляющий советское общество на пути коммунизма». (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 511.).
Изменилось и крестьянство СССР. Оно освобождено не только от помещичьей кабалы, но и от эксплуатации кулаками, купцами, ростовщиками, спекулянтами. Советское крестьянство уже не представляет собой класса мелких производителей, члены которого разобщены, распылены, работают в одиночку в своих мелких хозяйствах с их отсталой техникой и рабски привязаны к своей частной собственности. Напротив, наше советское крестьянство в своём подавляющем большинстве состоит из колхозников, т.е. оно «базирует свою работу и свое достояние не на единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном труде и современной технике». (Там же, стр. 511-512.).
Благодаря коллективизации крестьянского хозяйства сделан решающий шаг по пути уничтожения разницы между рабочим классом и крестьянством. Что разделяло раньше рабочего и крестьянина? Прежде всего то, что крестьянин вел свое хозяйство на основе частной собственности на средства производства. Что порождало раньше неизбежные колебания середняка между пролетариатом и буржуазией? То, что середняк был мелким товаропроизводителем, отличался двойственной природой. Но с переходом крестьян на путь колхозов основой их существования стала не частная, а коллективная собственность. Крестьянство порвало с мелкособственническим хозяйством и, объединившись в колхозы, встало в ряды непосредственных строителей социализма.
Уменьшилось также расстояние, отделяющее от рабочих и крестьян интеллигенцию. За годы социалистического строительства сложилась новая, советская интеллигенция, всеми своими корнями связанная с народом, с рабочим классом и крестьянством. Изменился прежде всего состав интеллигенции. Как указывал товарищ Сталин, 80—90% нашей интеллигенции составляют выходцы из рабочего класса, крестьянства и других слоев трудящихся. Изменился и самый характер деятельности интеллигенции. Если до революции основная часть интеллигенции была привязана к колеснице капитала и обслуживала интересы имущих классов, то теперь интеллигенция служит народу. Новая, трудовая интеллигенция вместе с рабочими и крестьянами строит социалистическое общество.
Все эти изменения в социальной структуре советского общества, в облике рабочего класса, крестьянства, интеллигенции нашли свое яркое выражение в морально-политическом единстве советского общества.
Морально-политическое единство советского общества
«Особенность советского общества нынешнего времени, в отличие от любого капиталистического общества, — говорил товарищ Сталин, - состоит в том, что в нем нет больше антагонистических, враждебных классов, эксплоататорские классы ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества». (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 589.).
Материальной основой морально-политического единства советского общества является социалистическая система хозяйства. Вместо прежней многоукладной экономики в СССР создана монолитная социалистическая экономика. На этой материальной основе сложилось невиданное в прошлом политическое и духовное единство народа. Наше общество свободно от классовых столкновений и, несмотря на существующие еще в нём классовые различия, сплочено воедино общими экономическими интересами, общими политическими стремлениями, общей моралью, общей идеологией. Если во всех прежних общественных формациях движущей силой исторического развития являлась ожесточенная классовая борьба, то социалистическое общество, напротив, развивается на началах дружественного сотрудничества всех составляющих его социальных групп.
Морально-политическое единство советского общества ещё более окрепло в годы Великой Отечественной войны. Война показала всю тщетность надежд наших врагов вызвать раскол, разлад между рабочими и крестьянами, найти трещины в нашем социальном строе. Перед лицом общего врага еще теснее сплотились все советские люди, еще прочнее стал союз рабочего класса и крестьян, подкрепляемый союзом этих классов и нашей трудовой интеллигенции. Во время войны 1941—1945 гг. товарищ Сталин многократно отмечал великий вклад в дело разгрома врага, сделанный рабочим классом, колхозным крестьянством, интеллигенцией. Развитие сотрудничества между этими социальными группами привело к дальнейшему укреплению морально-политического единства советского общества.
Годы войны ярко показали, каким великим преимуществом Советской страны является ее социальное единство — то, что в советском обществе нет враждующих, антагонистических классов. Советский общественный строй обеспечил единство народа на всем протяжении войны. Отечественная война Советского Союза явила зрелище, невиданное в истории, когда весь народ, как один человек, мужественно стал на защиту своей Родины. И если раньше, до победы социализма в СССР, можно было только теоретически обосновывать, какие преимущества даёт обществу преодоление классовых антагонизмов, то теперь эти преимущества доказаны практически нашей великой победой над врагом.
Партия большевиков – передовой отряд трудящихся СССР
Высшим выражением морально-политического единства советского общества является то, что в Советском Союзе весь народ объединен вокруг одной партии — партии большевиков. Буржуазные политики, журналисты, писатели не хотят, да и не могут, понять закономерности этого факта. Они изощряются в поисках «доказательств» необходимости существования других партий в СССР, без удержу клевещут на партию большевиков, оценивая ее монопольное положение как результат каких-то ухищрений и махинаций.
В действительности положение большевистской партии как единственной партии в СССР, руководительницы и передового отряда всех трудящихся, есть закономерное выражение всего пройденного народными массами пути политического развития. Уже в период Великой Октябрьской социалистической революции партия большевиков как вождь социалистического переворота сплотила вокруг себя подавляющее большинство трудящихся и эксплуатируемых, вырвав их из-под влияния буржуазных и мелкобуржуазных партий. В результате победы революции и установления диктатуры рабочего класса партия большевиков стала правящей партией.
Буржуазные партии, явившиеся организаторами контрреволюции, заговоров и восстаний против социалистического Советского государства, были разгромлены и быстро пошли ко дну. Та же судьба постигла и соглашательские партии эсеров, меньшевиков, анархистов, националистов, имевшие до Октябрьской революции некоторое влияние в рабочем классе и крестьянстве. Эти партии еще накануне Октября завершили свое развитие, превратившись в буржуазные партии, отстаивающие всеми силами целость и сохранность капиталистического строя. После победы социалистической революции эти партии помогали белогвардейским генералам и интервентам в их вооруженной борьбе против Советской Республики, организовывали контрреволюционные заговоры и восстания, террор против советских деятелей. Своей антисоветской деятельностью эти партии окончательно разоблачили себя в глазах народных масс как контрреволюционные партии. «Период гражданской войны и интервенции явился периодом политической гибели этих партий и окончательного торжества коммунистической партии в Советской стране. («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 236.).
По мере того как теряли опору в массах эсеры, меньшевики и другие подобные им партии, рос и укреплялся авторитет коммунистической партии. Массы убеждались на своем собственном опыте, что только коммунистическая партия способна защитить интересы народа, что только она выражает интересы трудящихся.
Таким образом, весь ход социалистической революции привел к тому, что коммунистическая партия оказалась единственной политической партией в СССР. Товарищ Сталин отмечал, что «положение нашей партии, как единственно легальной партии в стране (монополия компартии), не есть нечто искусственное и нарочито выдуманное. Такое положение не может быть создано искусственно, путём административных махинаций и т.д. Монополия нашей партии выросла из жизни, сложилась исторически, как результат того, что партии эсеров и меньшевиков окончательно обанкротились и сошли со сцены в условиях нашей действительности». (И.В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 114.).
Пока в нашей стране существовали эксплуататорские классы — частные торговцы и промышленники в городе, кулаки деревне, — неизбежны были с их стороны попытки создать другие партии — партии капиталистической реставрации. Стеснённые условиями пролетарской диктатуры, которая не давала возможности легального оформления этих партий, враги социализма возлагали надежды на то, что им удастся расколоть коммунистическую партию. Им помогали троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы и прочие изменники, стремившиеся взорвать единство партии большевиков, чтобы создать в СССР другую партию - партию капиталистической реставрации.
Большевистская партия под руководством товарища Сталина разгромила все попытки врагов расколоть ее ряды. Она свято следовала ленинскому завету о необходимости хранить, как зеницу ока, единство своих рядов. «Нам, в нашей обстановке капиталистического окружения, — говорил товарищ Сталин в 1924 г., — нужна даже не только единая, не только сколоченная, но настоящая стальная партия, способная вы-держать натиск врагов пролетариата, способная повести рабочих на решительный бой». (И.В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 23.).
Победа социалистического строя в нашей стране опрокинула надежды врагов на раскол партии. Опасность раскола, которая одно время была реальной, устранена, ибо с победой социализма в городе и деревне уничтожена возможность раскола между рабочим классом и крестьянством, ликвидированы эксплуататорские классы, сопротивление которых питало и порождало всякого рода оппортунистические уклоны в партии. В неизмеримой степени возросла сплоченность партии, окрепли ее идейное и организационное единство, ее связи с массами. Партия успешно разбила и до конца разоблачила в глазах трудящихся всех противников. Противники генеральной линии партии стали врагами народа, превратились в банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц на службе иностранных разведок и были разгромлены.
Победа социализма в СССР окончательно закрепила положение коммунистической партии как единой и единственной партии и полностью уничтожила всякую почву для существования других партий в стране. «Партия есть часть класса, его передовая часть, - указывал товарищ Сталин. — Несколько партий, а значит и свобода партий может существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонистические классы, интересы которых враждебны и непримиримы, где имеются, скажем, капиталисты и рабочие, помещики и крестьяне, кулаки и беднота и т. д. Но в СССР нет уже больше таких классов, как капиталисты, помещики, кулаки и т. п. В СССР имеются только два класса, рабочие и крестьяне, интересы которых не враждебны, а наоборот — дружественны. Стало быть, в СССР нет почвы для существования нескольких партий, а значит и для свободы этих партий. В СССР имеется почва только для одной партии, Коммунистической партии. В СССР может существовать лишь одна партия – партия коммунистов, смело и до конца защищающая интересы рабочих и крестьян. А что она не плохо защищает интересы этих классов, в этом едва ли может быть какое-либо сомнение. (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 523-524.).
Вокруг коммунистической партии сплочен весь народ. И рабочие, и крестьяне, и советские интеллигенты видят в коммунистической партии свою родную партию, своего признанного вождя и руководителя. Руководящая роль коммунистической партии законодательно закреплена в Конституции СССР, принятой в 1936 г. Партия большевиков является, как сказано в статье 126 Конституции СССР, «передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя».
Стирание граней между рабочим классом, крестьянством и интеллигенцией
На основе победы социализма в СССР открыт путь к постепенному стиранию классовых граней, оставшихся в советском обществе. Товарищ Сталин впервые в марксистской литературе показал особенности этого процесса. Охарактеризовав глубокие изменения, происшедшие за годы социалистического строительства в классовой структуре советского общества, товарищ Сталин сказал:
«О чём говорят эти изменения?
Они говорят, во-первых, о том, что грани между рабочим классом и крестьянством, равно как между этими классами и интеллигенцией — стираются, а старая классовая исключительность — исчезает. Это значит, что расстояние между этими социальными группами все более и более сокращается.
Они говорят, во-вторых, о том, что экономические противоречия между этими социальными группами падают, стираются.
Они говорят, наконец, о том, что падают и стираются также политические противоречия между ними». (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 512.).
После того как революционным путем были ликвидированы эксплуататорские классы, после того как основная масса крестьянства вступила на путь социализма, в стране остались только трудящиеся классы, основные различия между которыми уничтожены, а оставшиеся некоренные, неосновные различия постепенно стираются.
Экономические предпосылки полного стирания классовых граней в СССР складываются в ходе завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Они сводятся прежде всего к преодолению противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом.
Ленин писал в брошюре «Великий почин»:
«Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие между людьми физического и людьми умственного труда. Это - дело очень долгое». (В.И. Ленин. Соч., т. 29, изд. 4, стр. 388.).
Построив социалистическое общество в СССР, мы выполнили первую часть задачи, о которой говорил Ленин: отменили частную собственность на средства производства. Но мы ещё не успели уничтожить полностью разницу между городом и деревней, между людьми умственного и физического труда, хотя и в этом направлении достигнуты решающие успехи.
Еще Маркс и Энгельс гениально предвидели и научно обосновали необходимость уничтожения противоположности между городом и деревней. Но в то время было невозможно предуказать форму разрешения этой противоположности. Конкретные пути и формы уничтожения противоположности между городом и деревней были определены Лениным и Сталиным на основе теоретического обобщения опыта социалистического строительства в СССР. Товарищ Сталин в речи «К вопросам аграрной политики в СССР», произнесенной в 1929 г., указал, что в связи с социалистической переделкой сельского хозяйства, в связи с коллективизацией крестьянского хозяйства «вопрос об отношениях между городом и деревней становится на новую почву, что противоположность между городом и деревней будет размываться ускоренным темпом». (И.В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 160.).
Предвидение товарища Сталина полностью оправдалось. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства позволила преодолеть отставание сельского хозяйства от промышленности. Сельское хозяйство и промышленность развиваются в СССР на однотипной социалистической основе. Сельскохозяйственный труд в СССР становится разновидностью индустриального труда.
Вследствие этого былая противоположность между городом и деревней уже в корне подорвана в СССР. Но у нас еще остается различие между городом и деревней, выражающееся и в существовании двух форм общественной социалистической собственности: государственной (общенародной) и кооперативно-колхозной.
Различие между двумя формами социалистической собственности лежит в основе классовых различий между рабочими и крестьянами. Хотя коренное различие между рабочим классом и крестьянством уничтожено, все же рабочий класс и крестьянство в СССР еще отличаются друг от друга по своему отношению к средствам производства, по своей роли в общественной организации труда, по способам получения общественного дохода.
Различия между рабочими и крестьянами по их отношению к средствам производства связаны с тем, что в СССР заводы, совхозы, MТC и вообще государственные предприятия представляют собой всенародное достояние, а общественные предприятия в колхозах — достояние отдельных колхозов. Это значит, что имеется различие по степени экономической зрелости социалистических отношений между колхозами и государственными предприятиями: государственные предприятия представляют более высокую ступень обобществления средств производства и являются предприятиями последовательно социалистического типа. Кроме того, на государственных предприятиях обобществлены все средства производства, тогда как в колхозах — лишь главные и решающие средства производства. Согласно уставу сельскохозяйственной артели некоторая небольшая часть средств производства (подсобное хозяйство на приусадебном участке, скот, птица, мелкий сельскохозяйственный инвентарь и т.д.) остается в личной собственности колхозника. Ввиду этого колхозники в отличие от рабочих имеют свой личный двор, своё личное хозяйство.
Остаются известные различия между рабочими и крестьянами и по их роли в общественной организации труда. Государственные предприятия представляют собой более высокую форму организации общественного труда, и рабочий класс является носителем «...коммунистически объединенного, — в едином масштабе громадного государства, — труда». (В.И. Ленин, Соч., т. 30, изд. 4, стр. 88.). Колхозы представляют обобществление труда в более узких рамках.
На государственных предприятиях директоры, начальники цехов назначаются государственными органами, а в колхозах организацией труда занимается правление, которое избирается членами данного колхоза.
Рабочий класс как носитель более высокой формы социалистических производственных отношений играет ведущую роль в организации общественного труда в целом, в том числе и труда крестьян. Это находит свое выражение в руководстве Советского государства всей экономической жизнью страны, включая сельское хозяйство. Важнейшим рычагом государственного руководства сельским хозяйством являются машинно-тракторные станции, представляющие олицетворение ведущей роли coциалистической индустрии в отношении колхозной деревни.
Различия между рабочими и крестьянами проявляются и в способах получения дохода. Рабочие получают доход в виде денежной заработной платы из общенародного фонда потребления колхозники — определенную часть денежного и натурального дохода своего колхоза по трудодням. В отличие от рабочих колхозники получают свой доход не целиком из общественного хозяйства, а частично и из личного подсобного хозяйства. Наконец, колхозники в отличие от рабочих выступают как продавцы на рынке, где они реализуют часть продуктов, полученных от колхоза и от личного хозяйства.
Все это свидетельствует о том, что крестьяне еще остаются особым классом, отличным от рабочего класса. Товарищ Сталин указывал, что «если большинство крестьян стало вести колхозное хозяйство, то это еще не значит, что оно перестало быть крестьянством, что у него нет больше своего личного хозяйства, своего личного двора и т. д.». (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 527.).
Окончательное преодоление различий между рабочим классом и крестьянством будет достигнуто на основе дальнейшего всестороннего развития производительных сил социалистического общества и уничтожения пережитков капитализма в экономике и сознании людей. Это развитие постепенно приведет к полному уничтожению противоположности между городом и деревней, к сближению двух форм социалистической собственности и их слиянию в единую коммунистическую собственность. Предпосылкой этого слияния будет всестороннее развитие и укрепления, как государственной, так и кооперативно-колхозной собственности. При этом ведущую роль играет развитие и укрепление государственной формы собственности, в особенности МТС, при помощи которых обеспечивается развитие и укрепление сельскохозяйственной артели. Так в процессе постепенного перехода от социализма к коммунизму создаются условия для постепенного стирания граней между рабочим классом и крестьянством. Эти грани отпадут полностью с переходом к высшей фазе коммунизма, «когда классов уже не будет и когда рабочие и крестьяне превратятся в тружеников единого коммунистического общества». (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 527.).
Что же касается граней между этими классами и интеллигенцией, то они постепенно сотрутся на основе уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом.
Развивая теорию марксизма-ленинизма, товарищ Сталин указал конкретные пути преодоления противоположности между трудом умственным и трудом физическим. Он наголову разбил мелкобуржуазных болтунов, которые утверждали, будто противоположность между трудом умственным и физическим можно изжить, понизив культурно-технический уровень работников умственного труда до уровня средне-квалифицированных рабочих. Товарищ Сталин показал, что уничтожения этой противоположности можно добиться лишь на базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда. В стахановском движении товарищ Сталин открыл начатки культурно-технического подъёма рабочего класса, необходимого для того, чтобы подорвать основы противоположности между умственным и физическим трудом, обеспечить высокую производительность труда и изобилие предметов потребления.
Одним из важнейших результатов культурной революции, происшедшей в Советском Союзе, является создание новой, советской интеллигенции, вышедшей из рядов рабочего класса, крестьянства, советских служащих. За период с 1926 по 1939 г. Население СССР в целом увеличилось на 16%, численность же интеллигенции выросла гораздо больше: количество инженеров увеличилось на 670%, агрономов — на 400, научных работников - на 610, учителей — на 250, врачей — на 130%.
Вместе с ростом интеллигенции как особой прослойки советского общества растет и культурный уровень всей массы рабочих и крестьян. Это ведет к тому, что в будущем все трудящиеся СССР поднимутся до того образовательного уровня, который ныне характерен для людей умственного труда. «Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем»,— сказал товарищ Сталин на XVIII съезде ВКП(б). Когда эта задача будет решена, когда будет уничтожена противоположность между умственным и физическим трудом, тогда отпадут и грани, различия между интеллигенцией и рабочими и крестьянами.
Таким образом, стирание классовых граней в СССР имеет своей предпосылкой преодоление противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом.
Мы видели в главе 6, что исторически возникновение классов было связано с развитием общественного разделения труда, выразившегося в развитии противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом. Мы видим теперь, что окончательное уничтожение классов связано с преодолением этих форм разделения труда благодаря высочайшему развитию производительных сил.
Преодоление классовых различий в СССР требует не только создания экономических предпосылок, но и громадной воспитательной работы, переделки быта и идеологии людей, переделки пережитков капитализма в их сознании.
Борьба с пережитками капитализма в сознании людей
Постепенность стирания классовых различий в СССР совсем не означает того, что этот процесс совершится сам собой, без всякой борьбы. Напротив, потребуется приложить много усилий, понадобится долгая и упорная борьба не только для того, чтобы создать необходимую материальную базу перехода от социализма к коммунизму, но и для того, чтобы преодолеть все пережитки и следы классового общества. Советское общество в настоящее время, как указывал товарищ Сталин, «свободно от классовых столкновений» (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 598.). После того, как ликвидированы эксплуататорские классы и достигнуто морально-политическое единство советского общества, отпало большинство тех форм классовой борьбы, о которых говорил Ленин в начале Октябрьской революции. Отпала необходимость в подавлении эксплуататоров, ибо эксплуататорских классов в СССР больше нет. Полностью устранена возможность Гражданской войны, ибо внутри страны нет антагонистических, враждебных классов, которые могли бы выступить с оружием друг против друга. Отпала и такая форма классовой борьбы, как использование буржуазных специалистов, ибо уже создана новая, народная интеллигенция, а остатки старой интеллигенции растворились в недрах новой.
Соответственно изменившейся обстановке иной характер обрело руководство крестьянством со стороны рабочего класса, которое в свое время Ленин характеризовал как своеобразную задачу классовой борьбы пролетариата. Раньше рабочему классу приходилось вести классовую борьбу с буржуазией за влияние на крестьянство, а двойственное положение крестьянина как мелкого товаропроизводителя порождало у него постоянные колебания между рабочим классом и буржуазией. Теперь крестьянство бесповоротно стало под красное знамя социализма, а его колебания принадлежат уже прошлому. Из этого, однако, отнюдь не следует, что уже исчезла необходимость государственного руководства крестьянством со стороны рабочего класса.
У отсталой части крестьян еще дают себя знать остатки частнособственнических тенденций. Они проявляются не только в сфере рыночных отношений, где колхозник выступает как продавец, но и внутри колхозов. Это остаток той товарнокапиталистической тенденции, которая была раньше свойственна крестьянству и противостояла социалистической тенденции рабочего класса. Но теперь коммунистическая партия и Советское государство в борьбе против частнособственнических тенденций отсталых крестьян имеют возможность опереться на поддержку большинства крестьян, честно и добросовестно трудящихся в колхозах. Это—борьба за преодоление пережитков капитализма внутри колхозов, за укрепление и развитие общественного хозяйства колхозов.
По-новому ставится теперь и задача воспитания новой дисциплины, которую Ленин рассматривал как своеобразную форму классовой борьбы, где авангарду рабочего класса приходится преодолевать сопротивление отсталых групп и прослоек трудящихся, зараженных навыками и традициями капитализма. Раньше эти навыки и традиции поддерживались в среде трудящихся эксплуататорскими классами. Ныне, с ликвидацией эксплуататорских классов, подрублен важнейший корень, питавший буржуазные и мелкобуржуазные предрассудки в среде трудящихся. За годы социалистического строительства произошло глубокое изменение взглядов, нравов, обычаев людей, укоренилось в массах социалистическое сознание. Но пережитки капитализма в сознании советских людей еще продолжают существовать. Они сохраняются, во-первых, в силу отставания сознания людей от их бытия, а во-вторых, в силу того, что «все еще существует капиталистическое окружение, которое старается оживлять и поддерживать пережитки капитализма в экономике и сознании людей в СССР и против которого мы, большевики, должны всё время держать порох сухим». (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 466.).
Есть ещё люди, зараженные частнособственнической психологией, продолжающие по старинке относиться к общественному труду и коллективному достоянию, нарушающие трудовую дисциплину и правила социалистического общежития. Есть еще люди, заражённые низкопоклонством перед буржуазным Западом. Ввиду этого необходима систематическая борьба за воспитание социалистического сознания, за укрепление социалистического отношения к труду и общественному долгу. Эта борьба против антиобщественных и антипатриотических проступков отдельных людей и есть борьба против навыков и традиций, оставшихся в наследство от капитализма. Ее ведут совместными усилиями рабочие, крестьяне, интеллигенция СССР, спаянные морально-политическим единством.
После того как разгромлены и ликвидированы остатки эксплуататорских классов в СССР, международная буржуазия потеряла всякую классовую опору внутри Советского Союза. Тем более настойчиво она пытается использовать пережитки капитализма в сознании наших людей: остатки частнособственнической психологии, пережитки буржуазной морали, преклонение отдельных отсталых людей перед буржуазной культурой Запада, проявления космополитизма, национализма и т. д.
После второй мировой войны изменилась расстановка сил на международной арене, изменились средства и формы борьбы между силами социализма и силами империалистической реакции, но сама эта борьба не только не прекратилась, но приобрела еще большую остроту. Усилились и поползновения международной буржуазии оказать давление на сознание советских людей.
Вот почему в послевоенные годы, когда особое значение приобрело коммунистическое воспитание, идеологическая работа, партия большевиков и Советское государство поставили наиболее широко задачи борьбы с тлетворным влиянием буржуазной идеологии.
Советский народ успешно решил в пользу социализма вопрос «кто—кого» внутри страны, но тем острее встает этот вопрос в отношениях между СССР и империалистическими государствами. «Поскольку в СССР ликвидированы антагонистические классы и достигнуто морально-политическое единство советского общества, вся острота классовой борьбы для СССР передвинулась теперь на международную арену». (Доклад Г.М. Маленкова о деятельности ЦК ВКП(б), «Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года», Госполитиздат, 1948, стр. 154.). Борьба против враждебных нам сил капиталистического окружения ведется не только на рубежах Советского Союза. Это также борьба против агентуры иностранных разведок, засылаемой ими внутрь СССР, против тлетворной буржуазной идеологии, которую наши враги пытаются экспортировать в СССР.
Классовая борьба, которую ведут трудящиеся СССР, строящие коммунизм, повернута ныне своим острием против внешних врагов и их агентуры внутри страны. Главным орудием защиты социализма является Советское социалистическое государство, в функциях которого находит свое выражение классовая борьба советского народа.
За годы социалистического строительства в СССР в корне преобразилась классовая структура общества. Ликвидировав старый, капиталистический базис общества и построив новый социалистический базис, трудящиеся Советского Союза, опираясь на Советское социалистическое государство, под руководством партии большевиков осуществили ликвидацию всех эксплуататорских классов и добились преодоления важнейших различий между рабочим классом и крестьянством. Тем самым достигнуты коренные успехи в решении программной задачи научного коммунизма — задачи уничтожения классов. На основе морально-политического единства советского общества идет процесс постепенного стирания граней между рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией. С переходом к коммунизму полностью исчезнут классовые различия в СССР.
Глава одиннадцатая. Марксизм-ленинизм и национально-колониальный вопрос
В марксизме-ленинизме национально-колониальный вопрос занимает одно из важнейших мест. Национально-колониальный вопрос в современную эпоху есть часть общего вопроса о социалистической революции и диктатуре пролетариата.
1. Марксистская теория нации
Что такое нация?
Что такое нация, как и когда исторически возникают нации и национальные движения? Глубокий научный ответ на этот вопрос дан в труде И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» (1913). Обобщая процесс возникновения наций, И. В. Сталин дал следующее классическое определение нации:
«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
При этом само собой понятно, что нация, как и всякое историческое явление, подлежит закону изменения, имеет свою историю, начало и конец». (И. В. Сталин, Соч., т. 2, стр. 296 — 297.)
Только совокупность всех указанных И. В. Сталиным признаков дает нацию. Достаточно отсутствия одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией.
Нация, учит товарищ Сталин, это прежде всего определенная общность людей. Но общность эта не расовая и не племенная: нации возникают из людей различных племен и рас. Итальянская нация возникла из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и т. д. Немецкая нация возникла из смешения германских племен с римлянами, кельтами и т. д. Французская нация образовалась из галлов, римлян, германцев и т. д. То же самое можно сказать и о других нациях.
Чем же отличается нация от расы и племени?
Расовые различия между людьми — это различия по чисто внешним биологическим признакам (цвету кожи, волос и т. д.). Эти различия сложились в результате обособленного существования отдельных групп единого человеческого рода в различных географических условиях.
Вопреки мнению расистов, развивающих лженаучную теорию о разделении человечества на «высшие» и «низшие» расы, о зависимости судьбы народов от их «расовых свойств», в действительности с точки зрения физиологии человека расовые признаки совершенно несущественны, и, конечно, не они определяют развитие общества и судьбы народов. Наоборот, развитие общества определяет судьбы племен, народов и рас.
Развитие общества, начиная с древних времен, приводит к смешению людей различных племен и рас. Поэтому нет чистых племен и рас; под давлением фактов это вынуждены признать и сами расисты. Нет также «высших» и «низших» рас; подчинение и порабощение одних племен и рас другими объясняется полностью законами общественного развития.
Расы, племена и народы существовали до возникновения наций. Нации появляются лишь с возникновением капитализма.
В период первобытно-общинно-родового строя люди жили родами. С развитием общества отдельные роды объединяются в союзы родов, в племена, племена — в союзы племен. Так жили древние греки, римляне, славяне, германцы, арабы, так жили и индейцы в период открытия Америки европейцами, так живут до сих пор многие отставшие в своем развитии племена и народности в различных частях света.
Вследствие возникновения частной собственности и классового неравенства первобытно-общинный строй разлагается, племена в союзах племен смешиваются и сливаются, теряют свою самостоятельность, люди организуются и расселяются уже не по признаку родства (по родам и племенам), а по территориальному признаку, в государстве.
Смешиваясь и сливаясь друг с другом в ходе развития общества, различные племена и союзы племен образуют народы и народности. Народ — это не просто союз племен, а такое их объединение, в котором племена сливаются и утрачивают свою обособленность, свое особое управление, когда их земли сливаются в одну территорию, а все население объединившихся племен имеет одно общее управление. (См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, изд. 1945 г., стр. 118, 125 — 126, 185; К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч.1, стр. 75 — 76, 83, 88 — 89, 93, 96, 139, и «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. IX, стр. 88, 121, 141, 151 — 153.)
Так возникли народы древнего мира при переходе от первобытно-общинного строя к рабству. Так возникли русский народ и другие народы России при их переходе от первобытно-общинного строя к феодальному способу производства. Но это еще не были нации в точном смысле слова.
И народы и нации — это исторически сложившиеся, устойчивые общности людей. Эта общность не тождественна государственной общности. Британская империя, например, тоже «исторически сложившаяся общность», но эта общность — государственная, а не национальная, она возникла в ходе колониальных захватов и подчинения Англией народов разных стран, в ходе беспощадного подавления и эксплуатации народов.
Нация немыслима без общности языка, а для государства общий язык не обязателен. Общий национальный язык возникает исторически из языка народа или народности, превращающейся в нацию, а язык народа в свою очередь возникает и развивается в течение длительного времени в процессе взаимодействия различных племенных диалектов, являясь продуктом всего исторического развития общества, всей истории народа, который создает данный язык. Язык есть орудие общения между людьми, он возникает в процессе общественного производства и развивается на основе экономического, политического и культурного общения между людьми.
Без понятного, общего и единого для членов данного общества языка невозможно совместное производство, распадается, перестает существовать общество. Будучи орудием общения, обмена мыслями, язык является орудием борьбы и развития общества, орудием развития его производства и духовной культуры. «Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе». (И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 22.)
Национальный язык образуется из языка племен и народностей в процессе слияния их в одну общую нацию. При объединении и слиянии племен и народностей в нацию происходит скрещивание и слияние их языков и диалектов, причем обычно один из языков выходит победителем, сохраняя свой основной запас слов и свои грамматические формы, законы, обогащая свой запас слов за счет побежденных языков. Так происходит образование и развитие национальных языков в условиях антагонистических обществ с их национальным гнетом.
Скрещивание и смешение языков племен и народностей может происходить лишь в процессе длительного экономического, политического, культурного общения между ними. Общность языка создает базу для такого общения. Без общности языка не может быть и национальной общности. Язык, учит И. В. Сталин, является формой национальной культуры.
Итак, общность языка — необходимый признак нации. Но это не единственный признак. Англичане и североамериканцы говорят на одном языке, а составляют две нации. Почему? Прежде всего потому, что они живут не совместно, а на разных территориях. Нация же складывается только в результате длительного и постоянного общения людей, а это невозможно без общности территории. Следовательно, общность территории — также необходимый признак нации, хотя она сама по себе не создает еще нации. Наряду с общностью территории необходима экономическая связь, объединяющая людей, говорящих на одном языке и живущих на одной территории, в одно целое. А такая связь создается впервые лишь торговлей, рынком, капитализмом.
Славянские племена в Киевской Руси слились в один народ с одним общим языком, были объединены политически в одном государстве, но не составляли еще нации. Национальные связи между ними, указывает Ленин, возникли лишь в период Московской Руси, когда была уничтожена феодальная раздробленность страны, когда произошло слияние ранее экономически разобщенных «земель» и удельных княжеств, когда внутри централизованного феодального государства развивается товарное обращение, создается всероссийский национальный рынок.
Разоблачая буржуазно-идеалистическую теорию народника Михайловского, согласно которой национальные связи — это продолжение и обобщение родовых связей, Ленин показал, что создание национальных связей на базе развития капитализма означало создание буржуазных связей, ибо во главе процесса развития нации и национального рынка шла буржуазия. (См. В. И. Ленин, Соч., т. 1, изд. 4, стр. 137 — 138.) Поэтому и нации эти следует квалифицировать как буржуазные, указывает И. В. Сталин, развивая эти положения Ленина. Именно такие нации имел в виду И. В. Сталин, когда в 1913 г. писал, что нация есть категория эпохи подымающегося капитализма. Такие нации имел в виду и Ленин, когда писал в 1914 г.: «Нации неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития». (В. И. Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 56.)
На основе развития капитализма, создания национального рынка возникают буржуазные нации. Процесс образования наций, происходящий в разных странах в разное время и в различных исторических условиях, не закончился еще и теперь. Во многих колониальных странах, где капитализм еще очень мало развит, а феодальные отношения и даже пережитки рабства, всячески поддерживаемые империализмом, опутывают жизнь народов, их консолидация в нации задерживается и подавляется. Но процесс складывания наций вопреки насилиям и гнету империализма происходит и в колониях, поскольку там создается промышленность, развивается рынок, растет национальная буржуазия и национальный пролетариат.
В СССР нации складываются и развиваются на новой общественно-исторической основе, на основе советского социалистического строя. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории наций, эпоху формирования и развития социалистических наций на развалинах старых, буржуазных наций. В Советский Союз, указывает И. В. Сталин, входят около 60 наций, национальных групп и народностей. Наряду со сложившимися нациями в СССР (в частности на Кавказе и на севере страны) имеются маленькие племена и народности, развивающиеся теперь, на основе советского социалистического строя, в социалистические нации.
Особенности исторического формирования, складывания и развития наций не могут не наложить своего отпечатка на психический, духовный склад людей. Нации отличаются поэтому друг от друга не только по языку, территории, экономической жизни, но и по психическому складу. Если англичане, американцы и ирландцы, говорящие на одном языке, составляют тем не менее не одну, а три нации, указывает товарищ Сталин, то в этом немалую роль играет и тот своеобразный психический склад, который выработался у каждой нации в результате особых условий их жизни в течение многих поколений. Психический склад нации, или «национальный характер», сам по себе трудноуловим: его можно определить лишь постольку, поскольку он проявляется в исторических делах нации, в особенностях ее культуры.
В истории и культуре русского народа нашли свое выражение такие его высокие качества, отмеченные И. В. Сталиным, как ясность ума, стойкость характера, разумное терпение, русский революционный размах. Эти качества русского народа сложились в условиях его трудовой жизни, в ходе борьбы с иноземными захватчиками, в его революционной борьбе, особенно в период Великой Октябрьской социалистической революции и строительства социализма. Эти качества нашли отражение и в развитии национальной русской культуры и в ленинизме как высочайшем достижении русской и мировой культуры, сыграли исключительно большую роль во время Великой Отечественной войны.
Психический склад нации нельзя отрывать от условий жизни нации, от исторического развития народа, как это делают идеалисты. Психический склад нации — это не что иное, как «сгусток впечатлений», получаемых людьми данной нации от условий ее материальной жизни, от условий окружающей исторической среды. Значит, психический склад нации, или национальный характер, нельзя рассматривать как нечто раз навсегда данное и неизменное; национальный характер изменяется под влиянием развития условий материальной жизни нации.
Великая Октябрьская социалистическая революция, социалистическое строительство за три десятилетия в корне изменили морально-политический облик, характер, психический склад народов Советского Союза.
«Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня, — указывает товарищ Жданов. — Мы уже не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны». (А. А. Жданов, Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госполитиздат, 1946, стр. 36.)
Народы СССР, развивая свою культуру, национальную по форме и социалистическую по содержанию, сохраняя и развивая свои лучшие национальные традиции, вместе с тем выработали в себе психический склад и характер социалистических наций, освобожденных от эксплуатации, общие черты характера советского народа, народа-героя, освободителя, творца и новатора, проникнутого идеями советского патриотизма, дружбы народов, расового равноправия, уважения к правам других народов.
Психический склад нации содержит в себе некоторые относительно устойчивые черты, национальные особенности и традиции, передаваемые из поколения в поколение путем воспитания в труде, в быту, в семье и школе. Эти относительно устойчивые черты накладывают свою печать на физиономию нации, составляют специфику, особенность ее психического склада, или национального характера, на данную историческую эпоху.
Психический склад нации определяется условиями ее материальной жизни, особенностями всего предшествующего исторического развития данной нации. Исторически сложившиеся черты характера, присущие всем представителям данной нации, у различных классов этой нации видоизменяются в соответствии с различными условиями бытия этих классов. Маркс и Энгельс отмечали, например, что национальной чертой англичан и американцев, в частности их буржуазной интеллигенции, является практицизм, тогда как для немецкой буржуазной интеллигенции до революции 1848 г. была характерна особая склонность и любовь к абстрактной теории и идеалистической философии, оторванной от практической жизни. Эти черты так или иначе нашли свое выражение и в развитии английской и немецкой национальной культуры, философии, литературы, искусства в конце XVIII и в начале XIX в. Особенности национальных форм культуры в свою очередь оказывали обратное влияние на последующее развитие нации и национального характера.
Но чем объясняются национальные особенности самого культурного прогресса? Метафизики выводили их из якобы неизменной «природы» нации, идеалисты типа Гегеля — из национального духа, расисты — из «расовой крови и души». Но все эти «теории» не имеют ничего общего с наукой. Только марксизм дает правильный ответ на поставленный вопрос. Особенности психического склада, особенности развития культуры всецело обусловлены историческими особенностями экономического и политического развития нации. Своеобразием исторического развития нации определяется своеобразие психического склада как отдельных слоев и классов, из которых состоит нация, так и всей нации в целом.
Критика идеалистических определений нации
Реакционная, буржуазная социология рассматривает нацию идеалистически и метафизически как нечто вечное, неизменное, существующее независимо от исторических условий, времени и пространства. Этот взгляд на нацию проповедуют и разные ревизионисты, реформисты, националисты, выдающие себя за социалистов, демократов и даже «марксистов».
Теоретики австрийской социал-демократии О. Бауэр и К. Реннер (Шпрингер) утверждают, что единственный признак нации — это «национальный характер», а все остальное — лишь «условия» развития нации, а не ее признаки. Подходя к определению нации с идеалистических позиций, Бауэр и Реннер сводят нацию к явлениям со-знания, к духовной жизни, игнорируя такие условия материальной жизни, как общность территории и экономической жизни, составляющие основу развития нации. По Реннеру, «нация — это союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих людей» или «культурная общность группы современных людей, не связанная с землёй». По этой теории, люди, разобщенные веками территориально и экономически, но имеющие «культурную общность», могут составлять одну нацию. Теория Бауэра и Реннера является не только идеалистической, но и националистической, ибо она замазывает классовые антагонизмы внутри нации, проповедует «единство» между эксплуатируемыми и их эксплуататорами, т. е. подчинение первых вторым. По этой «теории», немецкие рабочие должны «мыслить одинаково» с немецкими капиталистами, раз они составляют одну нацию.
По Бауэру, не только общность территории и экономической жизни, но и общность языка не есть необходимый признак нации. Согласно теории Бауэра, евреи, живущие в США, в Европе и других частях света и говорящие на языках тех наций, среди которых они живут, тем не менее составляют одну нацию. Вместе с другими буржуазными социологами он смешивает понятие нации с понятием племени, расы, с религиозными и бытовыми особенностями тех или иных народностей. Евреи имеют общность происхождения от еврейского народа, жившего в древности в Палестине. Но живущие в разных странах среди разных народов евреи не составляют особой нации, поскольку они не имеют общности языка, территории, экономической жизни, а говорят на языке тех народов, среди которых живут общей с ними экономической и культурной жизнью. Они могут быть отнесены лишь к национальным группам, национальным меньшинствам, вкрапленным в инонациональные компактные большинства.
Отрывая нацию от породившей ее почвы, сводя ее к одному «национальному характеру», О. Бауэр и Реннер превращают нацию и национальный характер в какую-то незримую, самодовлеющую, мистическую силу. Такая «нация» ничем принципиально не отличается от «национального духа» спиритуалистов. Это не реальная, живая, действующая на земле нация, а нечто неуловимое, мистическое, загробное, писал товарищ Сталин, высмеивая эту идеалистическую и националистическую теорию.
Современные буржуазные социологи и философы, подвизающиеся в США и в Англии, — Э. Росс, Э. Богардус, Г. Месс, Г. Кон, В. Сульцбах и другие идеологи империализма — выводят нацию из «национального сознания». Проповедники англо-американского расизма, национализма и космополитизма объявляют национальный суверенитет, свободу и независимость всех других наций, кроме англосаксов, отжившим «предрассудком», который надо отбросить в интересах установления мирового господства империалистов США. Так эта антинаучная, реакционная, идеалистическая теория нации используется для оправдания агрессии империалистов США и Англии.
Марксистско-ленинская теория нации является единственно научной теорией. Она объясняет возникновение и развитие наций и их сознания из условий их материальной жизни и указывает всем нациям путь к освобождению от гнета империализма.
2. Национальные движения и национально-колониальный вопрос
Возникновение национальных и многонациональных государств и национальных движений
Обобщая историю возникновения и развития наций, И. В. Сталин указывает, что англичане, французы, немцы, итальянцы и другие народы Западной Европы сложились в нации в эпоху подымавшегося капитализма, уничтожавшего феодальную раздробленность государств. В Западной Европе образование наций в общем совпало по времени с процессом образования централизованных государств, и нации поэтому развились в самостоятельные национальные государства. Исключением была Ирландия, которая оказалась под гнетом Англии.
На востоке Европы, напротив, образование централизованных государств, ускоренное потребностями обороны (от нашествия монголов, турок и др.), произошло до ликвидации феодализма, следовательно раньше образования наций. Поэтому здесь образовались многонациональные государства (Россия, Австро-Венгрия). Здесь народы, не успев еще сложиться в нации, оказались объединенными в большие государства. Во главе этих государств стали господствующие классы наиболее сильных, экономически и политически развитых народов. Когда с развитием капитализма народы этих государств стали складываться в нации, они уже не могли развиться в самостоятельные национальные государства. Так складывались в нации украинцы, белорусы, армяне, грузины, латыши, литовцы и другие народы в России, чехи, поляки, словаки, хорваты и другие народы в Австро-Венгрии. То, что было исключением в Западной Европе (положение ирландцев), стало правилом на Востоке. Так сложились многонациональные государства, в которых эксплуататорские классы наиболее сильных и развитых народов стали осуществлять национальный гнет (политический, экономический, культурный) по отношению к другим народам этих государств.
Первоначальной ареной национального гнета и национальных движений в Европе стали многонациональные буржуазно-помещичьи монархии. Характер национального гнета определялся характером классовых отношений и власти внутри этих монархий. В Австро-Венгрии и Германии немецкие помещики и буржуазия угнетали чешских, словацких, украинских и польских рабочих, крестьян и интеллигенцию, проводили политику насильственного онемечивания. В России царизм проводил политику русификации и натравливания одной нации на другую.
Характер национального гнета обусловливает в свою очередь особенности национального движения, его цели, требования, программу. С изменением исторических условий изменяется содержание и характер национальных движений.
Каково отношение рабочего класса и его партии к национальным движениям? Как марксизм-ленинизм решает национально-колониальный вопрос? При решении этого, как и любого другого, вопроса революционной теории и практики марксизм-ленинизм исходит из закономерностей развития общества, из учета коренных интересов рабочего класса. Марксизм-ленинизм подходит к национальным движениям конкретно-исторически, рассматривая их в связи с эпохой, с общественным строем данной страны, вскрывая классовое содержание этих движений. И. В. Сталин учит:
«Национальный вопрос нельзя считать чем-то самодовлеющим, раз навсегда данным. Являясь лишь частью общего вопроса о преобразовании существующего строя, национальный вопрос целиком определяется условиями социальной обстановки, характером власти в стране и, вообще, всем ходом общественного развития». (И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 155.)
Три периода в истории национально-освободительных движений
Исходя из марксистско-ленинской периодизации истории общества и развивая ее дальше, И. В. Сталин отмечает следующие три всемирно-исторических периода в развитии национальных движений. (См. И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 33 — 36.)
Первый период — период ликвидации феодализма и победы капитализма в Западной Европе. Это период возникновения национальностей и национальных государств на западе, многонациональных государств — на востоке Европы. Это период буржуазных и буржуазно-демократических революций и связанных с ними национально-освободительных движений, составляющих часть этих революций.
В период восходящего капитализма главными организаторами национального гнета являются феодальные монархии, класс помещиков и буржуазия господствующей нации. Им противостоит молодая буржуазия угнетенных наций. Буржуазия одной нации борется против конкуренции буржуазии других наций, стремясь обеспечить себе «свой» национальный рынок. Рынок — первая школа, где буржуазия учится национализму.
Но дело не ограничивается рынком. Господствующие классы командующей нации переносят борьбу из экономической сферы в область политических отношений и культуры. Используя свое господство, они прибегают к всевозможным притеснениям, к запрещению языка, школ, религии угнетенных наций, к ограничению и ущемлению их избирательных и других политических прав. Там, где отсутствуют элементарные демократические права и свободы, система угнетения наций переходит в систему натравливания одной нации на другую, в систему резни и погромов. Все это задерживает культурное развитие угнетенных наций, порождает вражду между нациями, тормозит развитие революционного освободительного движения.
Буржуазия угнетенной нации взывает к трудящимся массам, изображая свои классовые интересы как интересы всей нации. Так как национальный гнет обрушивается всей тяжестью на рабочих и крестьян, то эти классы также вступают в движение. Сила национально-освободительного движения зависит от участия в нем трудящихся масс, и она особенно значительна там, где в движение вовлекаются широкие слои нации, пролетариат и крестьянство. Но в этот период пролетариат еще нигде не превратился в политически самостоятельную, руководящую силу; национальным движением в эту эпоху руководит буржуазия, и движение носит поэтому ограниченно буржуазный характер. Добившись власти, буржуазия сама прибегает к притеснению и угнетению других наций и национальных меньшинств.
Второй период в развитии национального гнета и борьбы с ним относится к периоду империализма.
Это, как указывал Ленин, период угнетения наций на основе господства финансового капитала. В этот период национальные государства на Западе — Англия, Италия, Франция, США — превращаются в государства многонациональные, колониальные.
Империализм разделил мир на горстку великих империалистических держав, господствующих наций и лагерь угнетенных наций, зависимых стран и колоний, составляющих большинство населения земного шара и нещадно эксплуатирующихся финансовым капиталом. В этом, учит ленинизм, суть империализма в области национальных отношений. Финансовый капитал не уживается в рамках национальных государств. Он стремится к захвату, к порабощению и эксплуатации чужих стран и наций, к борьбе за колонии, к расширению сфер эксплуатации. Расширение и усиление национально-колониального гнета неизбежно вызывает рост национально-освободительных движений угнетенных народов против империализма.
Таким образом, национально-колониальный вопрос в период империализма является вопросом об освобождении народов колоний и зависимых стран oт ига империализма. А так как большинство населения колоний составляет крестьянство, то национально-колониальный вопрос в период империализма есть в сущности вопрос крестьянский, т. е. вопрос об освобождении (при поддержке пролетариата передовых стран) крестьянства колоний от ига империализма. Но национально-колониальный вопрос не сводится целиком к крестьянскому вопросу, ибо кроме аграрно-крестьянского вопроса сюда входят вопросы национальной независимости и государственности, языка, культуры и т. д.
Характеризуя первый и второй периоды в развитии национального вопроса, товарищ Сталин указывал, что они имеют одну общую черту. «Состоит она в том, что в оба периода нации терпят гнёт и порабощение, ввиду чего национальная борьба остаётся в силе, а национальный вопрос — не разрешённым. Но есть между ними и разница. Состоит она в том, что в первый период национальный вопрос не выходит из рамок отдельных многонациональных государств и захватывает лишь немногие, главным образом европейские нации, между тем как во второй период национальный вопрос из вопроса внутригосударственного превращается в вопрос междугосударственный — в вопрос о войне между империалистическими государствами за удержание в своём подчинении неполноправных национальностей, за подчинение своему влиянию новых народностей и племён за пределами Европы». (И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 36.)
Усиление гнета и эксплуатации народов колоний и зависимых стран империалистическими державами, борьба между ними за колонии, за передел мира неизбежно толкает народы колоний и зависимых стран на борьбу против империализма.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции и появление Советского государства, провозглашение и осуществление ленинско-сталинской национальной политики, освобождение народов Советского Востока от национально-колониального гнета, успешная борьба народов СССР против империалистических захватчиков и интервентов — все это вдохновляет угнетенные народы колоний и зависимых стран, особенно народы Востока, на борьбу за свое освобождение от ига империализма. Эра «безмятежной» эксплуатации колоний империалистами кончилась. Началась эра национально-колониальных революций. Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новому, третьему периоду в развитии национального вопроса.
Третий период в развитии национального вопроса — это период советский, социалистический, период уничтожения капитализма и ликвидации национального гнета; это период освобождения угнетенных народов от ига империализма, период их добровольного объединения на базе социализма. Этот период открывает новую эру в истории народов, эру национально-колониальных революций под руководством социалистического пролетариата.
Постановка национального вопроса
В соответствии с каждым из этих периодов в развитии национальных движений изменяется и постановка национального вопроса, причем марксизм-ленинизм рассматривает его как подчиненный главному вопросу — вопросу о революционном преобразовании общества на началах социализма. Товарищ Сталин указывает, «что национальный вопрос есть часть общего вопроса о развитии революции, что на различных этапах революции национальный вопрос имеет различные задачи, соответствующие характеру революции в каждый данный исторический момент, что сообразно с этим меняется и политика партии в национальном вопросе». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 350.)
Не всякое национальное движение является прогрессивным, освободительным движением. История знает немало реакционных национальных движений, которые выступали тормозом прогрессивного развития общества, мешали росту классового сознания угнетенных трудящихся масс. Примером такого реакционного движения является мюридизм и движение Шамиля в первой половине XIX в. Это религиозно-националистическое движение служило закабалению трудящихся Кавказа и использовалось Турцией и Англией для борьбы против России.
Маркс и Энгельс подходили конкретно-исторически к оценке национальных движений, проводя различие между национальными движениями революционными и реакционными. В Германии Маркс и Энгельс боролись за революционно-демократический путь национального воссоединения посредством низвержения феодально-монархического строя. Они выступали против национального движения некоторых славянских национальностей, поскольку эти движения в то время использовались царизмом и австро-венгерской монархией: реакция использовала законную ненависть угнетенных славянских народов к их вековым угнетателям немцам и венграм, для того чтобы подавить революцию 1848 г. в Германии и Венгрии. Маркс и Энгельс разоблачили угнетательскую политику немцев (пруссаков и австрийцев) по отношению к соседним народам и требовали освобождения последних в интересах освобождения самих немцев от гнета феодально-монархического строя. Но немецкая буржуазия поддерживала политику угнетения других наций, и это было одной из важнейших причин поражения революции 1848 г. в самой Германии. Оправдалось полностью положение Маркса и Энгельса о том, что «не может быть свободным народ, угнетающий другие народы». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 223.)
Анализируя национальные движения в странах Европы, в Индии и Китае, Маркс и Энгельс дали основные, отправные идеи по национально-колониальному вопросу. Из этих идей исходили Ленин и Сталин, разрабатывая политику пролетариата в национальном вопросе в новую эпоху, эпоху империализма и пролетарских революций, когда капитализм стал величайшим угнетателем наций, когда национально-освободительные движения народов колоний и зависимых стран стали частью общей борьбы против империализма, когда национально-колониальный вопрос фактически превратился из составной части буржуазно-демократических революций в часть борьбы за социалистическую революцию. В. И. Ленин еще в 1916 г. указал, что национальные движения нужно рассматривать как составную часть борьбы за социализм, как часть мирового социалистического движения против империализма. Это было гениальное научное предвидение, сделанное на основе глубокого анализа всего международного положения. Это был новый этап в постановке и разрешении национально-колониального вопроса. В ходе Великой Октябрьской социалистической революции, как и предвидел Ленин, национально-колониальный вопрос выступил как часть вопроса о социалистической революции.
И. В. Сталин указывает, что в постановке национального вопроса партией большевиков нужно различать период, когда национальный вопрос рассматривался как часть буржуазно-демократической революции, и период, когда национальный вопрос стал рассматриваться как часть вопроса о социалистической революции и диктатуре пролетариата. Определяя политику партии в национальном вопросе в период социалистической революции, И. В. Сталин писал:
«Партия считала, что свержение власти капитала и организация диктатуры пролетариата, изгнание империалистических войск из пределов колониальных и зависимых стран и обеспечение для этих стран права на отделение и организацию своих национальных государств, ликвидация национальной вражды и национализма и укрепление интернациональных связей между народами, организация единого социалистического народного хозяйства и налаживание на этой почве братского сотрудничества народов, — являются лучшим решением национально-колониального вопроса в данных условиях». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 352.)
Социалистический период в национальном вопросе входит теперь все более в свою полную силу, поскольку новые страны отпадают от системы капитализма, вступив на путь народной демократии, на путь перехода от капитализма к социализму. Народы СССР уже завершили этот переход.
В период Октябрьской социалистической революции внутри национальных движений России происходил раскол: буржуазные национальные движения стали реакционными и контрреволюционными, они направлялись против социалистической революции и советского строя. В противоположность им развернулось революционное движение трудящихся масс угнетенных наций против помещиков и капиталистов, против иностранных интервентов, за национальное самоопределение на основе советского строя. Эти движения и стали частью социалистической революции в России, ибо они не могли победить без победы пролетарской диктатуры. С другой стороны, победа социалистической революции стала возможна лишь в союзе с этими движениями, была облегчена союзом с ними.
Новое, что дали Ленин и Сталин по национально-колониальному вопросу, заключается в том, что они обобщили указания Маркса и Энгельса и выработали стройную систему взглядов о национально-колониальных революциях в эпоху империализма, связали национально-колониальный вопрос с вопросом о свержении империализма, объявили национальный вопрос составной частью социалистической революции. Развивая дальше теорию марксизма-ленинизма, И. В. Сталин определил сущность и значение национального вопроса в период советский, социалистический, наступивший после Октября 1917 г. Он разработал подробно вопрос о союзе пролетарских революций с национально-колониальными революциями и освободительными движениями в этот период, вопрос о союзе этих движений с Советской Республикой. Товарищ Сталин разработал вопрос о строительстве многонационального социалистического государства в обстановке капиталистического окружения, вопрос о формах государственного объединения национальных советских республик в общесоюзном государстве (СССР), принципы советской федерации и автономии, вопрос о революционном преобразовании старых, буржуазных наций в новые, социалистические нации, вопрос о строительстве национальной по форме и социалистической по содержанию культуры, вопрос о дружбе и сотрудничестве социалистических наций и народов СССР, вопрос о едином фронте свободолюбивых народов против империалистической агрессии.
3. Марксистско-ленинское решение национального вопроса
Две тенденции в национальном вопросе при капитализме
Политика партии большевиков в национальном вопросе исходит из законов развития общества и интересов рабочего класса и всех трудящихся. Развивающийся капитализм, указывает Ленин, знает две противоположные тенденции в национальном вопросе: первая тенденция — пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против национального гнета, уничтожение феодальной раздробленности и создание национальных государств; вторая тенденция — развитие и учащение всяческих отношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание международных связей на почве интернационального единства капитала. Первая тенденция преобладает в эпоху восходящего капитализма, вторая — в эпоху империализма. Обе тенденции суть общий закон развития капитализма.
Провозглашая право на самоопределение вплоть до отделения и образования своего самостоятельного национального государства и вместе с тем отстаивая добровольное соединение, сотрудничество наций, марксизм-ленинизм учитывает обе тенденции и последовательно проводит принцип пролетарского интернационализма, солидарности трудящихся всех наций в борьбе за свержение империализма. (См. В. И. Ленин, Соч., т. 20, изд. 4, стр. 11.)
Развивая дальше эти положения Ленина, товарищ Сталин показал, что для империализма эти две тенденции являются неразрешимым противоречием, ибо империализм может «сближать» нации лишь путем колониальных захватов и насильственного удержания колоний в рамках империалистического «целого». Для пролетариата, для марксизма-ленинизма, наоборот, эти две тенденции суть две стороны одного и того же дела — освобождения угнетенных наций от ига империализма и добровольного объединения их на базе единого социалистического хозяйства, на основе полного равноправия, взаимного доверия и дружественного сотрудничества. (См. И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 147, т. 5, стр. 181, 186.) Таков всеобщий закон социализма в области национальных отношений. Образцом такого решения национального вопроса является СССР.
Рабочий класс кровно заинтересован в уничтожении национального гнета, национальной вражды, в укреплении солидарности трудящихся всех наций в их борьбе против всякого угнетения — классового и национального. Буржуазному национализму рабочий класс и его партия противопоставляют пролетарский интернационализм, идею международной солидарности трудящихся.
Ленинско-сталинская программа разрешения национального вопроса
Основными, исходными пунктами в марксистско-ленинском решении национального вопроса являются: а) признание права наций на самоопределение вплоть до отделения, б) признание суверенности и равноправия всех рас и наций, в) интернациональный принцип организации рабочих всех национальностей страны, воспитание трудящихся в духе пролетарского интернационализма и дружбы народов.
В соответствии с этим Ленин и Сталин, партия большевиков еще в период подготовки буржуазно-демократической революции выдвинули следующие требования по национальному вопросу:
\1. Полная демократизация государства как основа для решения национального вопроса.
\2. Установление национального и расового равноправия во всех областях общественной жизни: политической, экономической и культурной.
\3. Право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
\4. Интернациональное классовое сплочение рабочих всех национальностей страны, создание классовых организаций пролетариата (политическая партия, профсоюзы, кооперация и т. д.) по интернациональному принципу, единых в масштабе всей страны.
Таков марксистско-ленинский, пролетарский метод решения национального вопроса.
Капиталистический строй неизбежно порождает национальный гнет и национальную вражду. Но отсюда вовсе не следует, что нужно отказаться от лозунга права наций на самоопределение как лозунга «непрактичного» и «неосуществимого», как утверждали «левые» в германской и польской социал-демократии, Роза Люксембург и другие. Ленин и Сталин разоблачили и разгромили эту «левацкую» «теорию», доказав, что марксисты обязаны поддерживать буржуазно-демократические национально-освободительные движения, направленные против империалистического гнета. Марксизм-ленинизм стоит за добровольное объединение наций. Но именно для этого социалисты обязаны признавать на деле право наций на самоопределение вплоть до отделения. Это кажется противоречивым и парадоксальным: «разъединение — для объединения». Но, как указал товарищ Сталин, противоречие это не выдуманное, а реальное и жизненное. Это противоречие ведет развитие общества вперед, тогда как отрицание права на самоопределение означает поддержку империализма, поддержку реакции.
Право на самоопределение и отделение нельзя смешивать с вопросом о целесообразности отделения, учат Ленин и Сталин. Требование самоопределения наций не есть абсолют, а является частью борьбы за демократию и социализм. Может получиться, что часть противоречит целому, и тогда нужно отвергнуть часть. Коммунистические партии не могут поддерживать те национальные движения, которые используются империализмом и реакцией против других свободолюбивых народов. Вопрос о том, отделяться ли в самостоятельное государство или оставаться в составе данного государства, должны решать сами нации. Но, разумеется, марксисты сохраняют за собой право вести пропаганду за добровольное объединение наций на базе социализма и демократии, они считают своим долгом и обязанностью влиять на волю нации в социалистическом и демократическом духе. Партия большевиков культивирует в сознании трудящихся не то, что разъединяет нации, а то, что их объединяет. Она культивирует революционные традиции совместной борьбы народов против буржуазно-помещичьего гнета, против иноземных захватчиков, традиции дружественного интернационального сотрудничества трудящихся и взаимопомощи в деле построения социализма и коммунизма.
Марксизм-ленинизм подходит к решению национального вопроса диалектически, конкретно-исторически. Он рассматривает национальные движения и национальный вопрос в связи с общим ходом общественного развития, как вопрос, подчиненный главному вопросу марксизма — вопросу о социалистической революции и диктатуре пролетариата, об условиях ее завоевания и укрепления.
В рамках одной и той же эпохи, учит ленинизм, бывают различные по характеру национальные движения, и для каждой нации может потребоваться особое решение вопроса в зависимости от условий и отношений, в которых живет нация. Решение, годное для одной страны, было бы неправильно переносить механически на другие страны без учета конкретных условий и ступени исторического развития стран и народов. А условия, в которых живут народы, постоянно меняются. Значит, должно меняться и решение национального вопроса.
Марксистская диалектика учит, что решение, правильное для данного момента, может оказаться неправильным для другого момента. Решение, правильное для Польши в середине XIX в., было неправильным для Польши конца XIX и начала XX в. Маркс, требуя отделения русской Польши от царской России в середине XIX в., был прав. И польские марксисты, выступая в конце XIX в. против отделения от России, тоже были правы, ибо условия изменились.
Маркс и Энгельс поддерживали освободительное движение Польши в середине XIX в., поскольку оно было направлено против царизма — главного оплота европейской реакции в ту эпоху. А к концу XIX в. произошли глубокие изменения как в международном положении, так и в отношении Польши к России. Капитализм перешел в стадию империализма. Россия стала очагом мощного революционного движения. Россия и Польша сблизились экономически и культурно. Польские рабочие активно участвовали в общероссийском революционном движении против царизма, и пропаганда отделения Польши могла лишь ослабить это движение, ослабить борьбу за свободу самой Польши. Вот почему польские марксисты были правы, выступая в конце XIX и начале XX в. против отделения Польши от России. Ныне польские марксисты строят свободную демократическую и социалистическую Польшу, укрепляющую дружбу с народами Советского Союза, ибо СССР защищает свободу и независимость всех народов от порабощения и агрессии со стороны американо-английских империалистов.
Критика националистической программы австрийской социал-демократии и Бунда
Постановка и решение национального вопроса в ленинизме коренным образом отличается от постановки этого вопроса в партиях II Интернационала, в партиях правых социалистов, которые скатились на буржуазные, империалистические позиции. Партии II Интернационала пробавлялись пустыми словесными декларациями о «равенстве наций» при капитализме, ограничивая при этом национальный вопрос узким кругом европейских наций, не решаясь ставить вопрос о равноправии азиатских и африканских народов с европейскими, о равенстве черных и белых.
Теоретики II Интернационала, австрийские социал-демократы О. Бауэр, К. Реннер и др., под видом марксистского решения национального вопроса выдвинули националистическую, реакционную программу так называемой «культурно-национальной автономии». Эта программа имеет своей идеологической основой идеалистическую и метафизическую теорию нации. Вместо права наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, т. е. вместо права на самостоятельное политическое, экономическое и культурное развитие народов, программа «культурно-национальной автономии» предлагала угнетенным нациям ограничиться автономией в вопросах школы, церкви, религии и тому подобных «культурных делах». Бауэр и Реннер исходили из принципа сохранения целости австро-венгерской монархии, т. е. насильственного удержания угнетенных народов в рамках империалистического «целого» во главе с немцами. Эта программа, следовательно, увековечивала господство одной нации (немцев) над другими народами (славянами) в Австро-Венгрии, она отказывала угнетенным народам в праве на самоопределение, в праве на создание своих самостоятельных государств.
В России точку зрения «культурно-национальной автономии» защищали бундовцы, меньшевики, национал-уклонисты, троцкисты и т. п. Но партия большевиков во главе с Лениным и Сталиным разоблачила буржуазно-националистическую сущность этой программы и спасла российское рабочее движение от этой «мерзости», как говорил Ленин. Подробную и уничтожающую критику теории и политики «культурно-национальной автономии» дал И. В. Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос».
Правые социалисты фактически скатились на позиции расизма, активно поддерживая и осуществляя политику империализма в национально-колониальном вопросе. Лидеры правых социалистов — Эттли и Бевин в Англии, Ги Молле во Франции, Спаак в Бельгии, Сарагат в Италии, Реннер и Шумахер в Австрии и Германии помогают империалистам беспощадно эксплуатировать и угнетать народы колоний, вести против них разбойничьи колониальные войны.
Ленинизм разоблачил эту ложь империалистов и их пособников — социал-шовинистов и доказал, что декларации о «равенстве наций», не подкрепленные прямой поддержкой освободительной борьбы угнетенных народов, являются пустыми и лживыми. Ленинизм связал национальный вопрос с вопросом об освобождении колоний от ига империализма, расширил понятие самоопределения, провозгласив право угнетенных народов зависимых стран и колоний на отделение от угнетающих их империалистических государств, на самостоятельное государственное существование.
4. Решение национального вопроса в СССР
Принципы советской национальной политики
В СССР осуществлена ленинско-сталинская программа по национальному вопросу. Уже в начале Октябрьской социалистической революции, 15 ноября 1917 г., была издана знаменитая «Декларация прав народов России», составленная И. В. Сталиным и утвержденная Советским правительством; эта декларация провозгласила принципы советской политики по национальному вопросу: 1) равенство и суверенность всех народов России, 2) их право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, 3) отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, 4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп. Эта декларация, подписанная Лениным и Сталиным, открыла новую эру в истории национальных отношений, эру социализма. Ее принципы вошли в Конституцию СССР.
Установление советского строя и провозглашение права наций на самоопределение вплоть до отделения перевернули прежние отношения между трудящимися разных национальностей. Советская власть уничтожила национальный гнет и заложила прочный фундамент для добровольного объединения народов в единое государство — СССР. Это объединение исторически закономерно, оно вытекало из природы советского строя и вместе с тем диктовалось внешними условиями развития страны социализма. Во-первых, социалистическое государство по своей природе интернационально: оно строится на дружбе и братской взаимопомощи народностей. Во-вторых, социалистическое хозяйство требует планового руководства в общегосударственном масштабе. В-третьих, объединение отдельных советских республик в федерации, а позднее, в 1922 г., в Союз Советских Социалистических Республик было исторически необходимо, чтобы общими усилиями разбить армии белогвардейцев и интервентов, ликвидировать разруху, поднять народное хозяйство, индустриализировать страну, рационально разместить и развить производительные силы в интересах трудящихся всех национальностей, построить социализм в обстановке враждебного капиталистического окружения и превратить СССР в силу, могущую воздействовать на международную обстановку и изменить ее в интересах трудящихся.
Советская федерация и автономия
В ходе строительства многонационального Советского государства революционным творчеством самих народных масс, руководимых большевистской партией во главе с Лениным и Сталиным, были созданы и формы этого объединения, формы советской автономии и федерации.
Советская федерация принципиально отличается от федераций буржуазных тем, что она основана на равноправии и добровольном объединении народов. Она в состоянии осуществить и на деле обеспечивает не только равноправие, но и фактическое экономическое и культурное равенство всех народов, как больших, так и малых.
Федерация на основе буржуазного строя неизбежно приводит к ущемлению прав малых или экономически слабых наций более сильными и экономически развитыми нациями, к национальному гнету, вражде и трениям. Характер и значение федерации коренным образом меняется в условиях советского строя, ибо этот строй в состоянии обеспечить братское сотрудничество наций в едином союзном государстве. В советской федерации большие и малые нации полностью равноправны и пользуются широкой автономией, предоставляющей каждой нации максимум условий для ее свободного развития. Классовая сущность советской автономии состоит в том, что вся власть находится в руках рабочих и крестьян, а буржуазия всех национальностей устранена от власти. (См. И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 87.)
Особенно важное преимущество советской автономии составляют разнообразие и гибкость ее форм, полное соответствие быту, культуре и психическому складу национальностей. Она отвечает интересам всех народов СССР. Эти народы в начале революций находились на самых различных ступенях исторического развития, начиная от охотничьего, кочевого, патриархального хозяйства северных и восточных окраин России и кончая передовыми промышленными областями центральной России. Преимущества советской автономии, ее гибкость, разнообразие форм дали возможность советской власти «проложить себе дорогу в самые захолустные дебри окраин России, поднять к политической жизни самые отсталые и разнообразные в национальном отношении массы, связать эти массы с центром самыми разнообразными нитями, — задача, которую не только не решало, но и не ставило себе (боялись поставить!) ни одно правительство в мире». (И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 355.) В результате размежевания областей в соответствии с принципами ленинско-сталинской национальной политики многие национальности — украинцы, белорусы, узбеки, таджики, казахи, туркмены и др., — разорванные на части старым, бюрократическим административным делением, были воссоединены в единое национальное целое, получили широчайшие экономические и политические возможности для развития.
Партия большевиков помогла народам СССР развить и укрепить у себя советскую социалистическую государственность в формах, соответствующих их национальным особенностям, на их родном языке: организовать управление, администрацию, суд, органы хозяйства из местных людей, знающих быт, традиции и психологию местного населения.
Ликвидация фактического (экономического и культурного) неравенства наций
Установление правового равенства всех рас и наций России является всемирно-историческим завоеванием социалистической революции, заслугой советской власти и партии Ленина — Сталина. Но их заслуга не ограничивается этим. Партия большевиков поставила перед советской властью, перед русским рабочим классом, перед русской нацией как самой выдающейся и передовой нацией еще одну всемирно-исторической важности задачу: помочь ранее угнетенным и отставшим народам раз-вить у себя передовую промышленность, создать свои кадры рабочих, квалифицированные кадры работников хозяйственного и государственного аппарата, кадры своей национальной интеллигенции, помочь этим народам подняться до уровня передовых и ликвидировать то фактическое (экономическое и культурное) неравенство, причины которого коренились не только в особенностях социального строя и истории угнетенных народов, но и в колониальной политике царизма и империализма.
Эта грандиозная историческая задача была рассчитана на длительный период, потому что миллионы людей национальных окраин России, на востоке и на севере, жили до социалистической революции еще в условиях патриархальщины, кочевого быта, феодально-крепостнической эксплуатации, рабства женщины в семье, в условиях бескультурья и почти всеобщей неграмотности. Многие угнетенные народности не имели не только своей промышленности, своих кадров интеллигенции, но и своей письменности. Советское государство блестяще решило эту великую задачу. От патриархальщины и кочевого быта ранее угнетенные и отстававшие народы сделали гигантский скачок к социализму, минуя капитализм. Народы, обреченные при капитализме на ассимиляцию, вымирание и исчезновение, возродились на основе советского строя к новой жизни, консолидировались в социалистические нации.
При общем быстром темпе развития промышленности СССР промышленность экономически отсталых национальных окраин росла еще быстрее. Так, если в 1940 г. валовая продукция крупной промышленности увеличилась по Союзу в 11,7 раза по сравнению с 1913 г., то в Казахской ССР она увеличилась в 19,6 раза, в Киргизской ССР — в 153 раза, в Таджикской ССР — в 277 раз! Валовая продукция крупной промышленности Узбекской ССР увеличилась только за время Великой Отечественной войны больше чем в 10 раз, а основные фонды промышленности увеличились в 33 раза!
Безраздельно господствующая социалистическая система хозяйства является теперь общим экономическим базисом развития всех народов СССР. На этой основе ликвидировано прежнее экономическое и культурное неравенство между национальностями СССР, неравенство, являвшееся результатом векового классового и национального гнета.
Народы СССР совершили не только гигантский скачок — революцию в области экономики, — они совершили также глубочайшую культурную революцию, еще невиданную нигде и никогда в истории человечества.
Число учащихся в начальных и средних школах выросло уже в 1938/39 учебном году по сравнению с 1914/15 учебным годом в Украинской ССР в 3 раза, в Белорусской ССР — в 4, в Армянской республике — больше чем в 8 раз, в Казахстане — почти в 11, в Туркмении — в 30, в Узбекистане — в 64, в Таджикистане — в 680 раз. Уже в 1938/39 учебном году в начальных и средних школах обучалось в расчете на 1 тыс. человек населения: в РСФСР — 187 человек, в Белорусской ССР — 192, в Украинской — 176, в Туркменской — 163, в Таджикской — 170, в Узбекской — 176, в Казахской — 179, в Азербайджанской — 195, в Грузинской — 196, в Киргизской — 204, в Армянской — 237 человек. Выросло также количество студентов в вузах всех советских республик, созданы многочисленные кадры советской национальной интеллигенции. По количеству и качеству специалистов СССР стоит теперь впереди всех других стран мира. В 10 союзных республиках созданы свои академии наук, в других союзных и в некоторых автономных республиках созданы филиалы Академии наук СССР.
Десятки народностей получили при советской власти свою письменность. Литература в СССР издается больше чем на 100 языках. Из среды ранее угнетенных наций выросли и быстро растут талантливые деятели науки, искусства, литературы, государственные, хозяйственные и военные руководители.
Расцвет национальной по форме, социалистической по содержанию культуры народов СССР
Расцвела национальная по форме, социалистическая по содержанию культура народов СССР, воспитывающая массы не в духе национализма, а в духе интернационализма, советского патриотизма, дружбы народов.
Идеологической основой и выражением новой, социалистической по содержанию и национальной по форме культуры народов СССР является ленинизм, высшее достижение русской национальной и мировой культуры. Политической основой развития этой культуры является советский государственный строй, ленинско-сталинская национальная политика партии и Советского государства. Экономической основой расцвета этой культуры являются социалистические производственные отношения. На основе социалистического способа производства, на основе советского государственного строя, на основе идей марксизма-ленинизма происходит процесс все более тесного экономического, политического и культурного сближения социалистических наций СССР между собой, укрепляется дружба и сотрудничество народов. Подлинно демократическое решение национального вопроса обеспечило расцвет национальной государственности и национальной культуры всех народов СССР. В этом проявляется сила и преимущество советской социалистической демократии и ее великое значение для прогресса всех народов, как больших, так и малых. Возрождение наций и расцвет их куль-тур есть величайшее завоевание советской социалистической демократии и ленинско-сталинской национальной политики и составляет нашу законную советскую национальную гордость.
Для расцвета культуры народов СССР в условиях социализма особое значение имеет развитая товарищем Сталиным теория национальной по форме, социалистической по содержанию культуры.
В. И. Ленин характеризовал лозунг национальной культуры при господстве буржуазии как лозунг буржуазный, ибо национальная культура в условиях господства буржуазии является по своему содержанию буржуазной, националистической, имеющей своей целью отравить, затемнить сознание масс, чтобы укрепить господство буржуазии. Борясь против лозунга национальной культуры в условиях господства помещиков и буржуазии, Ленин бил по реакционному содержанию национальной культуры, а не по её национальной форме.
«В каждой национальной культуре, — указывал Ленин, — есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры. Поэтому «национальная культура» вообще (в условиях буржуазно-помещичьего строя. — М. К.) есть культура помещиков, попов, буржуазии...
Ставя лозунг «интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения», мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы, берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации». (В. И. Ленин, Соч., т. 20, изд. 4, стр. 8.)
Ленин квалифицировал враждебное противопоставление одной национальной культуры (в целом) другой национальной культуре (тоже в целом) как национализм, как переход с позиций марксизма на позиции буржуазного национализма, затушевывающего классовые антагонизмы внутри нации и национальной культуры.
«Есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.» (Там же, стр. 16.)
А что такое национальная культура при диктатуре пролетариата, в условиях советского строя? И. В. Сталин пишет: «Социалистическая по своему содержанию и национальная по форме культура, имеющая своей целью воспитать массы в духе интернационализма и укрепить диктатуру пролетариата». (И. В. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей, 1939, стр. 249 (подчеркнуто мной. — М. К.).)
Интернациональная культура не безнациональна. Она существует и развивается в определенной национальной форме.
Отсюда ясно, что лозунг национальной культуры в условиях советского строя получает совсем иное содержание, чем в условиях господства буржуазии. Лозунг национальной культуры был лозунгом буржуазным, пока у власти стояла буржуазия и консолидация наций происходила на основе буржуазных порядков, но этот лозунг стал пролетарским, социалистическим, когда у власти стал пролетариат, а консолидация наций стала протекать под эгидой советской власти.
Национальная форма социалистической культуры — это совокупность тех особых средств и форм выражения интернационального содержания социалистической культуры у данной нации, которые отличают ее от форм и средств выражения этой же культуры у других наций. Основное, главное в национальной форме культуры — это национальный язык; ее характеризуют также особенности национального искусства: литературы, музыки, архитектуры и т. д.
Ленин учил, что целью социализма является «...не только сближение наций, но и слияние их». (В. И. Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 135.) Но это не может произойти сразу, в короткий срок. «Подобно тому, как человечество может придти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций человечество может придти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т е. их свободы отделения». (Там же, стр. 135 — 136.) Ленин указывал, что национальные различия останутся «еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе», что попытка уничтожить их в период диктатуры пролетариата в одной стране — «вздорная мечта». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 227.) Товарищ Сталин отмечает, что «...процесс отмирания национальных различий и слияния наций Ленин относит не к периоду победы социализма в одной стране, а исключительно к периоду после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе, то есть, к периоду победы социализма во всех странах, когда будут уже заложены основы мирового социалистического хозяйства». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 346.)
Развивая и обосновывая это положение, И. В. Сталин указывает, что было бы неправильно полагать, что исчезновение национальных различий, слияние наций, национальных языков и культур произойдет сразу же после поражения мирового империализма, одним ударом, в порядке «декретирования сверху». Попытки произвести слияние наций путем «декретирования сверху», путем принуждения, могут играть на руку только империалистам, могут загубить дело освобождения наций, организацию братского сотрудничества наций. Такая политика равносильна реакционной политике ассимиляции наций, которую проводили царские, турецкие, персидские, немецко-прусские и австрийские ассимиляторы и ныне проводят американо-английские империалисты, пытающиеся навязать всем народам свой язык и буржуазно-американский «образ жизни», свою растленную реакционную буржуазную «культуру». Но история показывает, что политика ассимиляции, будучи антинародной, обречена на неизбежный провал.
Обобщая опыт решения национального вопроса в СССР, И. В. Сталин сделал гениальный прогноз о путях развития наций после победы диктатуры пролетариата и социализма во всем мире.
Было бы ошибочно думать, — указывает товарищ Сталин, — что первый этап периода всемирной диктатуры пролетариата будет началом отмирания наций и национальных языков, началом складывания единого общего языка. Наоборот, первый этап, в течение которого будет окончательно ликвидирован национальный гнёт, — будет этапом роста и расцвета ранее угнетённых наций и национальных языков, этапом утверждения равноправия наций, этапом ликвидации взаимного национального недоверия, этапом налаживания и укрепления интернациональных связей между нациями.
Только на втором этапе периода всемирной диктатуры пролетариата, по мере того как будет складываться единое мировое социалистическое хозяйство, — вместо мирового капиталистического хозяйства, — только на этом этапе начнёт складываться нечто вроде общего языка, ибо только на этом этапе почувствуют нации необходимость иметь наряду со своими национальными языками один общий межнациональный язык, — для удобства сношений и удобства экономического, культурного и политического сотрудничества. Стало быть, на этом этапе национальные языки и общий межнациональный язык будут существовать параллельно. Возможно, что первоначально будет создан не один общий для всех наций мировой экономический центр с одним общим языком, а несколько зональных экономических центров для отдельных групп наций с отдельным общим языком для каждой группы наций, и только впоследствии эти центры объединятся в один общий мировой центр социалистического хозяйства с одним общим для всех наций языком». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 348 — 349.)
Товарищ Сталин показал, что в условиях социализма коренным образом изменяются и закономерности развития национальных культур и языков, ибо здесь не может быть и речи о подавлении и ассимиляции одних культур и языков другими, о поражении одних языков и победе других, как происходит в условиях антагонистических обществ с их национальным гнетом. В условиях социализма национальные языки и культуры имеют полную возможность свободно обогащать друг друга в порядке сотрудничества. После победы социализма во всем мире из сотен национальных языков в результате длительного экономического, политического и культурного сотрудничества будут выделяться сначала наиболее обогащенные единые зональные языки, которые сольются потом в один общий международный язык, который не будет ни английским, ни немецким, ни русским, ни французским, а новым языком, вобравшим в себя лучшие элементы национальных и зональных языков.
Прогноз И. В. Сталина основан на глубоком научном анализе законов развития общества и замечательно подтверждается на опыте Советского Союза и стран народной демократии, где происходит расцвет национальных культур и языков и их взаимное обогащение в порядке сотрудничества.
Национальные различия и языки начнут отмирать, уступая место общему для всех мировому языку, когда мировая социалистическая система хозяйства окрепнет в достаточной степени и социализм войдет в быт всех народов, когда сами нации убедятся на практике в преимуществах общего языка перед национальными. Период строительства социализма есть период расцвета национальных культур, социалистических по содержанию, национальных по форме. Товарищ Сталин указывал: «Надо дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком в период победы социализма во всём мире. Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним общим языком, когда пролетариат победит во всём мире и социализм войдёт в быт, — в этом именно и состоит диалектичность ленинской постановки вопроса о национальной культуре». (И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 369.)
Развивая национальную по форме, социалистическую по содержанию культуру, народы СССР берут все положительное и ценное, что было в культуре прошлого, в литературе, музыке, в национальных песнях, мелодиях, в стиле национальной архитектуры. Они критически усваивают культуру прошлого, воспринимая лучшие, передовые, революционные, демократические и социалистические элементы и традиции в культурном наследстве.
В культуре прошлого, разумеется, есть и реакционное содержание, антинародные черты и отжившие стороны, мешающие движению вперед, например религиозные верования и обряды, шаманство, родовая месть, многоженство, затворничество женщин, паранджа и т. п. Социализм отбрасывает все реакционное и творчески развивает положительные достижения культуры прошлого в интересах трудящихся масс.
Социалистическая культура воспитывает трудящихся в духе интернационализма, полного равноправия всех рас и наций, в духе советского патриотизма, который гармонически сочетает национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза.
И. В. Сталин учит, что каждая нация имеет свои качественные особенности. Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каждая нация в общую сокровищницу мировой культуры, обогащая ее. «В этом смысле все нации — и малые, и большие, — находятся в одинаковом положении, и каждая нация равнозначна любой другой нации». (И. В. Сталин, Речь на обеде в честь Финляндской Правительственной Делегации 7 апреля 1948 г., «Большевик» № 7, 1948, стр. 2.)
Культура великого русского народа как самая передовая, развитая и богатая культура становится общим достоянием всех народов СССР. И каждый народ СССР вносит свой вклад в общую сокровищницу советской, социалистической культуры. Великие писатели, поэты, мыслители и художники прошлого — Шота Руставели и Низа-ми, Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Некрасов, Герцен и Белинский, Чернышевский и Добролюбов, Тургенев и Толстой, Тарас Шевченко и Леся Украинка, Репин и Суриков, Глинка и Чайковский, — писатели и поэты современности — Горький и Маяковский, Шолохов и Фадеев, Якуб Колас и Павло Тычина, Сулейман Стальский и Джамбул и другие — нашли путь к сердцу миллионов людей всех народов.
Построение социализма в СССР привело не к ассимиляции прежде угнетенных и потому отстававших в своем развитии больших и малых наций, а к их национальному возрождению и консолидации, к расцвету их национальных культур на основе социализма, к сближению и дружбе наций. Такова закономерность исторического развития наций на основе советского строя и социалистического способа производства.
5. Дружба народов СССР и борьба с буржуазным национализмом
Дружба народов СССР — достижение социализма
В октябре 1920 г. товарищ Сталин писал: «Советская Россия проделывает невиданный еще в мире опыт организации сотрудничества целого ряда наций и племён в рамках единого пролетарского государства на началах взаимного доверия, на началах добровольного, братского согласия. Три года революции показали, что этот опыт имеет все шансы на успех». (И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 362.)
История показала, что буржуазные многонациональные государства, построенные путем насильственного объединения, раздираются классовой борьбой и национальной враждой и распадаются, а опыт образования многонационального государства, созданного на базе социализма, удался полностью. Распалась в 1918 г. австро-венгерская монархия, основанная на угнетении славян немцами и венграми. Распалась буржуазно-помещичья Польша, построенная на угнетении украинцев и белорусов польскими панами-помещиками. Распалась гитлеровская «третья империя» и колониальная империя Муссолини, распалась японская империя. Трещат колониальные империи Великобритании, Франции, Голландии и т. д., раздираемые внутренними национальными и классовыми антагонизмами, национальным гнетом и борьбой угнетенных народов за свободу и независимость. Антагонистические противоречия капитализма обусловливают внутреннюю неустойчивость многонациональных буржуазных государств, бессилие буржуазии в деле разрешения национального вопроса, крах ее попыток объединения наций путем насилий, аннексий, захватов.
Совсем другую картину мы имеем в СССР. «Отсутствие эксплоататорских классов, являющихся основными организаторами междунациональной драки; отсутствие эксплоатации, культивирующей взаимное недоверие и разжигающей националистические страсти; наличие у власти рабочего класса, являющегося врагом всякого порабощения и верным носителем идей интернационализма; фактическое осуществление взаимной помощи народов во всех областях хозяйственной и общественной жизни; наконец, расцвет национальной культуры народов СССР, национальной по форме, социалистической по содержанию, — все эти и подобные им факторы привели к тому, что изменился в корне облик народов СССР, исчезло в них чувство взаимного недоверия, раз-вилось в них чувство взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотрудничество народов в системе единого союзного государства.
В результате мы имеем теперь вполне сложившееся и выдержавшее все испытания многонациональное социалистическое государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части света». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 513 — 514.) Это целиком подтверждено теперь и самым суровым испытанием — Великой Отечественной войной.
Дружба народов СССР является движущей силой развития советского общества, важнейшим завоеванием ленинско-сталинской национальной политики. Это одно из величайших достижений социализма, предмет нашей советской национальной гордости. Этим завоеванием народы обязаны великой партии Ленина — Сталина.
Товарищ Сталин о буржуазных и социалистических нациях
В своей замечательной работе «Национальный вопрос и ленинизм» товарищ Сталин показал, что на основе социалистического строя возникли и развились совершенно новые, социалистические нации, каких еще не было в истории человечества. Эти нации коренным образом отличаются от наций буржуазных, сложившихся и развивающихся на базе капиталистических общественных порядков, под эгидой и верховенством буржуазии.
Буржуазные нации расколоты на антагонистические классы — на эксплуататорское меньшинство и эксплуатируемое большинство. Классовый антагонизм обусловливает и антагонистические формы развития наций и национальной культуры, накладывает свой отпечаток на весь психический склад наций. И. В. Сталин так охарактеризовал нации, складывающиеся в период капитализма:
«Буржуазия и её националистические партии были и остаются в этот период главной руководящей силой таких наций. Классовый мир внутри нации ради «единства нации»; расширение территории своей нации путём захвата чужих национальных территорий; недоверие и ненависть к чужим нациям; подавление национальных меньшинств; единый фронт с империализмом, — таков идейный и социально-политический багаж этих наций.
Такие нации следует квалифицировать, как буржуазные нации». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 338.)
Совсем иное дело — нации в условиях социализма. Нации СССР консолидируются, складываются и развиваются на базе советского строя, под руководством рабочего класса и его партии. Характеризуя эти нации, И. В. Сталин еще в 1929 г., до полной ликвидации эксплуататорских классов, до полной победы социализма в СССР, писал:
«Рабочий класс и его интернационалистическая партия являются той силой, которая скрепляет эти новые нации и руководит ими. Союз рабочего класса и трудового крестьянства внутри нации для ликвидации остатков капитализма во имя победоносного строительства социализма; уничтожение остатков национального гнёта во имя равноправия и свободного развития наций и национальных меньшинств; уничтожение остатков национализма во имя установления дружбы между народами и утверждения интернационализма; единый фронт со всеми угнетёнными и неполноправными нациями в борьбе против политики захватов и захватнических войн, в борьбе против империализма, — таков духовный и социально-политический облик этих наций.
Такие нации следует квалифицировать, как социалистические нации». (Там же, стр. 339.)
Социалистические нации возникли и развились на развалинах старых, буржуазных наций, в результате ликвидации капитализма. Социалистические нации СССР — русская, украинская, белорусская, грузинская, армянская, азербайджанская, казахская, узбекская, башкирская, татарская, литовская, эстонская, латышская, молдавская и др. — коренным образом отличаются от соответствующих старых, буржуазных наций старой России как по своему классовому составу и духовному облику, так и по своим социально-политическим устремлениям. Это нации гораздо более жизнеспособные, сплоченные, чем любая буржуазная нация, «ибо они свободны от непримиримых классовых противоречий, разъедающих буржуазные нации, и являются гораздо более общенародными, чем любая буржуазная нация». (Там же, стр. 341.) Эти нации состоят ныне из трудящихся классов, освобожденных от эксплуататоров и эксплуатации. Это — социалистические нации, скрепленные полным морально-политическим единством социалистического общества, нации с единой целью, едиными общими интересами, с единой волей, с единым социалистическим сознанием, нации, строящие национальную по форме, социалистическую по содержанию культуру, воспитывающую всех трудящихся в духе единой коммунистической морали, единого и самого передового, до конца последовательного научного мировоззрения — марксизма-ленинизма.
Таких наций и такого народа, как многонациональный советский народ, еще не было и не могло быть раньше в истории человечества. Это — завоевание социализма, достижение ленинско-сталинской национальной политики советской власти.
Борьба против буржуазного национализма
Все завоевания ленинско-сталинской национальной политики в СССР достигнуты в непримиримой борьбе с национализмом всех мастей.
«Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм — вот два непримиримо-враждебные лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики (более того: два миросозерцания)», — учит Ленин. (В. И. Ленин, Соч., т. 20, изд. 4, стр. 10.) В условиях, когда буржуазия свергнута и у власти находится рабочий класс, эксплуататорские классы и их агентура пытаются использовать оружие национализма с целью реставрации капитализма.
Сущность национализма не в идее национального объединения, а в идеологии и политике разжигания недоверия, розни, вражды и ненависти между народами; эта идеология и политика выражают эгоистические интересы эксплуататорских классов, стремящихся обеспечить свое господство и свои классовые привилегии при помощи старого принципа рабовладельцев: «разделяй и властвуй». Буржуазные националисты разжигают вражду между трудящимися разных наций и проповедуют «единство» эксплуататоров и эксплуатируемых внутри нации, чтобы подчинить трудящихся буржуазии, отвлечь их от классовой борьбы против «своей», национальной буржуазии. Национализм коренится в самой природе буржуазного строя, в отношениях частной собственности и эксплуатации.
«Если частная собственность и капитал, — указывает И. В. Сталин, — неизбежно разъединяют людей, разжигают национальную рознь и усиливают национальный гнёт, то коллективная собственность и труд столь же неизбежно сближают людей, подрывают национальную рознь и уничтожают национальный гнёт. Существование капитализма без национального гнёта так же немыслимо, как немыслимо существование социализма без освобождения угнетённых наций, без национальной свободы». (И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 19.)
В СССР на социалистической экономической основе удалось полностью ликвидировать не только национальный гнет, но и следствие его — идеологию буржуазного национализма и уклоны к национализму внутри партии. Эти уклоны существовали, пока существовали эксплуататорские классы, разжигавшие национальную рознь и вражду среди трудящихся разных национальностей.
Уклон к великодержавному национализму и шовинизму в СССР выражался в стремлении не считаться с национальными различиями культуры и быта, в стремлении подготовить ликвидацию национальных республик и областей, подорвать национальное равноправие, пересмотреть политику партии по развитию советской государственности, школы и прессы на родном языке, ликвидировать развитие национальной культуры народов и перейти к политике ассимиляции якобы в интересах «интернационализма». Такая политика помешала бы культурному подъему ранее угнетенных наций и толкнула бы их в сторону национализма, т. е. обрекла бы их на духовную кабалу, на подчинение реакционной идеологии национализма. Это подорвало бы основу Советского государства — дружбу народов.
Сущность местного национализма выражается в стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы, затушевать классовые противоречия внутри своей нации, в стремлении отойти «...от общего потока социалистического строительства, в стремлении не видеть того, что сближает и соединяет трудящиеся массы национальностей СССР, и видеть лишь то, что может их отдалить друг от друга.
Уклон к местному национализму отражает недовольство отживающих классов ранее угнетенных наций режимом диктатуры пролетариата, их стремление обособиться в свое национальное государство и установить там свое классовое господство». (И. В. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей, 1939, стр. 251.)
Оба эти уклона культивировали буржуазный национализм, ослабляли единство трудящихся, играли на руку интервенционистам, оба имели общие классовые корни.
«Уклон к национализму есть приспособление интернационалистской политики рабочего класса к националистской политике буржуазии. Уклон к национализму отражает попытки «своей», «национальной» буржуазии подорвать советский строй и восстановить капитализм. Источник у обоих уклонов, как видите, — общий. Это — отход от ленинского интернационализма». (Там же, стр. 255.)
Условия, необходимые для воспитания трудящихся масс всех народов СССР в духе пролетарского интернационализма, в духе дружбы народов, созданы решительной борьбой партии большевиков против обоих уклонов, борьбой за преодоление пережитков национализма в быту и сознании людей.
Пережитки капитализма, указывает И. В. Сталин, «более живучи в области национального вопроса, чем в любой другой области. Они более живучи, так как имеют возможность хорошо маскироваться в национальном костюме». (И. В. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей, 1939, стр. 255.)
Так, например, некоторые историки и писатели, рассматривая развитие той или иной нации, ее культуры, «забывают» марксову теорию классовой борьбы, игнорируют классовое содержание и классовый характер культуры, изображают развитие национальной культуры как единый поток, без всякой классовой борьбы внутри нации и национальной культуры, что означает на деле прикрашивание отживших, реакционных сторон национальной культуры и истории нации в условиях капитализма. Отсюда такие факты, как изображение в татарской литературе в качестве народного героя татарского хана-феодала Идегея, совершавшего разбойничьи набеги против народов России. Некоторые историки и писатели, следуя методу буржуазного украинского историка-националиста Грушевского, затушевывали классовую борьбу в истории Украины, Белоруссии и других национальностей СССР. Такие буржуазно-националистические установки приводят к прикрашиванию феодально-монархических и буржуазно-клерикальных элементов в национальной культуре прошлого, к оживлению национализма.
Пережитки буржуазного национализма проявляются в СССР и в форме национального нигилизма, космополитизма, выражая безразличие, равнодушие к судьбам своего социалистического отечества, к своей великой советской родине. Антипатриотическая группка космополитов в СССР прикрывалась флагом «интернационализма». Но интернационализм и космополитизм диаметрально противоположны, как противоположны интересы пролетариата и буржуазии.
Космополитизм — это антипатриотическая, буржуазно-империалистическая идеология, третирующая лучшие, прогрессивные, революционные и демократические традиции народов, их культуру. Космополитизм отрицает национальную культуру, национальный суверенитет и свободу всех наций и рас, за исключением одной «универсальной», «образцовой», «высшей» нации и расы. Космополитизм стал ныне идеологическим оружием империалистов США, стремящихся к мировому господству. Чтобы осуществить свои планы агрессии, лишить народы свободы, независимости и подчинить их своему господству, империалисты стремятся разоружить народы идейно, при помощи антипатриотической идеологии космополитизма.
Следует помнить, что капиталистическое окружение стремится всячески оживить и использовать в своих интересах пережитки капитализма в сознании советских людей, в том числе и в области национального вопроса. Цель этого стремления — подорвать или ослабить дружбу народов Советского Союза — важнейший источник их силы и непобедимости, посеять недоверие между ними, недоверие к великому русскому народу, ослабить советский патриотизм.
Поэтому необходимо беспощадно пресекать все и всякие проявления национализма. Русский рабочий класс под руководством партии Ленина — Сталина показал всем народам путь к освобождению от всякого социального и национального гнета и эксплуатации, показал образец подлинного пролетарского интернационализма. И. В. Сталин в приветствии Москве в день ее 800-летия писал, что Москва стала знаменосцем новой, советской эпохи. Москва является знаменем борьбы трудовых людей всего мира, всех угнетенных рас и наций за их освобождение от господства плутократии и империализма. Трудящиеся Запада и Востока смотрят поэтому на Москву с восхищением.
Теория и практика СССР в национальном вопросе нанесли смертельный удар всем реакционным, националистическим и расовым теориям. Нет «высших» и «низших» рас и наций. Но в условиях антагонистических формаций общества (рабства, феодализма, капитализма) неизбежно возникает угнетение и порабощение одних племен, народов и наций другими, вследствие чего происходит отставание угнетенных племен, народов и наций в их общественном развитии. Практика СССР подтвердила, что неевропейские народы, освобожденные от национального гнета, втянутые в русло социалистического развития, способны двинуть и двигают вперед культуру не меньше, чем народы европейские.
Расовые теории широко используются буржуазией для обоснования империалистической политики. Гитлеровцы избрали своим идеологическим оружием человеконенавистническую расовую теорию в расчете на то, что проповедь звериного национализма создаст морально-политические предпосылки для господства немецких империалистов над народами. Гитлеровцы особо стремились посеять рознь между народами Советского Союза, вызвать драку между ними, чтобы поработить их поодиночке.
Но планы и расчеты гитлеровцев провалились. Дружба народов СССР выдержала все испытания и еще более закалилась в годы Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.
В ходе войны фашисты понесли не только военное, но и морально-политическое поражение. Политика расовой ненависти стала источником внутренней слабости и внешнеполитической изоляции фашистской Германии, одним из факторов развала разбойничьего гитлеровского блока.
Теория и практика равноправия и дружбы народов СССР, уважение к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза.
«Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовой ненависти гитлеровцев». (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госполитиздат, 1949, стр. 162.) Оправдалось полностью указание И. В. Сталина о том, что, пока существует дружба народов СССР, они непобедимы и им не страшны никакие враги.
Буржуазные националистические и расовые теории утверждают, что борьба рас и наций, национальная вражда и угнетение — вечный закон истории. Они внушают народам националистический предрассудок, будто действенным методом освобождения угнетенных наций является разобщение, обособление от других наций, метод национальной вражды. Марксизм-ленинизм и практика СССР разоблачили эти теории и предрассудки, нанесли им смертельный удар. Практика СССР доказала на деле возможность и целесообразность братского союза трудящихся самых различных национальностей на началах добровольности и полного равноправия, на началах сотрудничества и дружбы народов. Практика СССР доказала возможность и целесообразность пролетарского, интернационалистического метода освобождения угнетенных наций, и этот метод оказался единственно правильным методом.
Опыт СССР изучается теперь всеми передовыми демократическими силами во всем мире. На основе учения Ленина и Сталина, на основе опыта СССР коммунистические партии стран народной демократии разрешают практически национальный вопрос, осуществляя право наций на самоопределение, проводя принцип полного равноправия и братского сотрудничества наций, преобразуя старые, буржуазные нации в духе социализма, воспитывая их в духе пролетарского интернационализма, ведя непримиримую борьбу с буржуазным национализмом и космополитизмом. Буржуазно-помещичья Польша, Венгрия, Румыния были ареной национального гнета и вражды. Теперь этой политике положен конец. Все нации в странах народной демократии получили полное равноправие. Права национальных меньшинств охраняются законом. Ликвидируется фактическое экономическое и культурное неравенство между нациями. Чехи, например, помогают словакам развивать промышленность, создавать кадры квалифицированных рабочих, национальной интеллигенции. Все страны народной демократии оказывают помощь друг другу в строительстве социализма, получают поддержку и помощь от Советского Союза и сплачиваются вокруг него как могучего оплота мира, свободы и независимости всех народов.
6. Национально-колониальный вопрос и борьба против империалистической агрессии на современном этапе. СССР — оплот свободы и независимости народов
Империалисты США и Англии после второй мировой войны взяли на себя роль авангарда и главного оплота мировой реакции, колониального грабежа, угнетения и эксплуатации народов. Они стремятся установить свое господство над всем миром. Чтобы ослабить сопротивление народов, американские и английские империалисты развернули идеологический поход против идеи суверенитета наций и права наций на свободное самоопределение. Появляется масса книг, статей и других космополитических «трудов», в которых идея национального суверенитета изображается как «отживший предрассудок», «анахронизм», понятие нации — как вредная фикция, которую пора отбросить. В таком духе пишут американский социолог Богардус, английский социолог Коббен, профессор Корр, Г. Кон, В. Сульцбах и др. С этой установкой выступил в английском парламенте бывший министр иностранных дел в кабинете Черчилля — Иден. Стремление превратить все страны в свою колонию — такова суть похода англо-американских империалистов против свободы и суверенитета народов.
Идеология космополитизма имеет целью отравить сознание американского народа националистическими и расистскими идеями о превосходстве «американского образа жизни», о праве американцев на мировое господство, идейно разоружить другие народы и использовать предательскую политику буржуазии других стран, ее низкопоклонство перед капиталистической Америкой, чтобы облегчить американским империалистам порабощение этих стран.
Правые социалисты лакейски служат не только своей буржуазии, но и империалистам США, продавая и предавая национальные интересы, свободу и независимость народов своих стран. В полном соответствии с интересами империалистов США они пропагандируют идею «мирового правительства» (разумеется, под эгидой англо-американского империализма), выступают против суверенитета наций как «отжившего предрассудка», требуют ограничения суверенитета в интересах США, клевещут на СССР и страны народной демократии. Лейбористы Эттли и Бевин в Англии, правые социалисты во Франции, Бельгии, Голландии активно проводят империалистическую политику своих хозяев в национально-колониальном вопросе. Социалисты, входящие во французское империалистическое правительство, подавляли и помогают подавлять свободу и независимость народов Вьетнама, ведут против них грязную, гнусную колониальную войну. Американские, английские и французские «социалисты» помогали и помогают империалистам душить освободительное движение народов Индонезии, Индии, Малайи, Бирмы, Палестины, Греции, Испании, Кореи и других стран. Но эта политика империалистов и их лакеев обречена на провал.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции, уничтожившей национально-колониальный гнет на территории огромного государства, вдохновила угнетенные народы Востока и всего мира на борьбу против империализма. Советский Союз является для них могучим оплотом и светлым маяком, указывающим путь к освобождению.
«Это значит, что Октябрьская революция открыла новую эпоху, эпоху колониальных революций, проводимых в угнетенных странах мира в союзе с пролетариатом, под руководством пролетариата...
Эра безмятежной эксплуатации и угнетения колоний и зависимых стран прошла.
Наступила эра освободительных революций в колониях и зависимых странах, эра пробуждения пролетариата этих стран, эра его гегемонии в революции». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 243, 245.)
Победа Великой Октябрьской социалистической революции по-новому поставила национально-колониальный вопрос во всем мире. Обобщая опыт революций и национально-освободительных движений, Ленин и Сталин указали необходимость союза этих движений со страной победившего социализма для общей борьбы против империализма. Ленин подчеркивал, что после образования Советской Республики нельзя уже ограничиваться провозглашением сближения трудящихся разных наций, а «необходимо вести политику осуществления самого тесного союза всех национально - и колониально-освободительных движений с Советской Россией, определяя формы этого союза сообразно степени развития коммунистического движения среди пролетариата каждой страны или буржуазно-демократического освободительного движения рабочих и крестьян в отсталых странах или среди отсталых национальностей». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 287.) Развивая эти положения Ленина, И. В. Сталин указывал, что в наше время революционером и интернационалистом на деле является тот, «кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР потому, что СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперёд это революционное движение невозможно, не защищая СССР». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 51.)
И. В. Сталин учит, что взаимное сотрудничество и дружба стран народной демократии, их сотрудничество с СССР являются главными условиями подъема и рас-цвета стран народной демократии, условиями их побед на фронте строительства социализма, главной гарантией их свободы и независимости от покушений со стороны империализма. Вот почему те, кто подобно фашистско-националистической клике Тито стремится подорвать это сотрудничество и дружбу, являются злейшими врагами социализма и демократии, врагами и национально-освободительного движения, агентами империалистов.
Империалистическая буржуазия США и Англии стремится использовать всех и всяких буржуазных националистов, чтобы оторвать страны народной демократии от сотрудничества и дружбы с СССР и закабалить. На примере фашистско-националистической клики Тито в Югославии, контрреволюционных шпионских групп Райка в Венгрии и Трайчо Костова в Болгарии видно, что империалисты США и Англии насаждают свою агентуру, чтобы осуществить свои агрессивные планы. Буржуазный национализм, культивируемый империалистами США и Англии, направлен своим острием прежде всего против СССР, против стран народной демократии, против мира между народами, против демократии и социализма.
СССР — оплот лагеря мира, демократии и социализма — сплачивает вокруг себя все свободолюбивые народы мира, трудящихся всех стран, борющихся за прочный, справедливый демократический мир, против поджигателей новой войны. Победа, несомненно, будет за этим лагерем, ибо он борется и строит новый мир, растущий изо дня в день. Этот новый мир неодолим. Политика США, Англии и других колониальных держав неизбежно закончится позорным провалом, ибо она вызывает возмущение и восстания народов зависимых стран и колоний.
B. И. Ленин указывал, что исход мировой борьбы между капитализмом и коммунизмом зависит в конечном счете от того, что Россия, Индия, Китай составляют гигантское большинство населения и что это большинство после победы Октябрьской социалистической революции с необычайной быстротой втягивается в борьбу за свое освобождение. (См. В. И. Ленин, Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 416 — 417.) С победой китайского народа над империализмом и с образованием Китайской демократической республики страны народной демократии в Европе и Азии вместе с Советским Союзом насчитывают около 800 млн. человек — больше трети населения земного шара.
И. В. Сталин еще в 1925 г. с трибуны XIV съезда партии указывал, что силы революционного движения в Китае неимоверны, что они еще не сказались как следует, что они должны сказаться в будущем. «Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не считаются с ними в должной мере, пострадают от этого». (И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 293.) Правда и справедливость целиком на стороне китайской революции, указывал товарищ Сталин. «Вот почему мы сочувствуем и будем сочувствовать китайской революции в её борьбе за освобождение китайского народа от ига империалистов и за объединение Китая в одно государство. Кто с этой силой не считается и не будет считаться, тот наверняка проиграет». (Там же, стр. 294.)
И. В. Сталин указывал, что иностранные империалисты, стремящиеся повернуть назад ход истории Китая при помощи пушек, полагающие, что «законы артиллерии» сильнее законов истории, потерпят неизбежный крах. Гениальные прогнозы И. В. Сталина блестяще оправдались.
С победой китайской демократии национально-освободительная борьба народов Азии и всех колониальных и зависимых стран поднялась на новую, более высокую ступень. Победа великого китайского народа означает серьезное укрепление сил и позиций возглавляемого Советским Союзом лагеря мира, демократии и социализма.
Борьба народов Китая, Кореи, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бирмы, Малайи и других колониальных стран вконец расшатала всю колониальную систему империализма. В национально-освободительную борьбу против англо-американского империализма втянулись и народы Европы — Италии, Франции, Германии и других стран. Немецкий народ, освобожденный Советской Армией от гитлеризма, ныне борется против расчленения Германии, за национальное воссоединение ее как демократического и миролюбивого государства, против превращения Западной Германии в военную базу англо-американской империалистической агрессии. Образование Германской демократической республики И. В. Сталин оценил как поворотный пункт в истории Европы, ибо существование миролюбивой демократической Германии наряду с миролюбивым Советским Союзом исключает возможность новой войны в Европе и устраняет угрозу порабощения народов Европы мировыми империалистами.
Борьба народов за свою независимость составляет ныне неразрывную часть борьбы за мир, демократию и социализм. Во главе этой борьбы народов стоят коммунистические партии, взявшие в руки знамя защиты национального суверенитета, свободы и независимости своих народов и идущие во главе всех демократических и патриотических сил своих стран.
Политика СССР, основанная на принципе признания равноправия и суверенитета всех наций, больших и малых, пользуется уважением и симпатией всех свободолюбивых народов. Верный своей ленинско-сталинской национальной политике, СССР последовательно отстаивает и поддерживает право каждой нации на свободное самоопределение и самостоятельное развитие, оказывает бескорыстную поддержку всем миролюбивым и свободолюбивым нациям в их борьбе за независимость. Ярким проявлением этой бескорыстной, благородной, великодушной и мудрой ленинско-сталинской национальной политики является политика СССР в отношении Германии: несмотря на огромный ущерб, причиненный гитлеровскими оккупантами СССР, советское правительство как во время войны, так и после победы последовательно отстаивает и проводит политику сохранения национального единства, свободы и независимости Германии и германского народа, политику демократического мира и сотрудничества в борьбе за мир.
СССР стоит за подлинное сотрудничество со всеми народами на началах полного равноправия. Советское государство является могучим оплотом свободы, равноправия, независимости, безопасности и мирного сотрудничества между народами. Не может быть сомнения в том, что эта политика победит, ибо она правильна, она выражает интересы трудящихся всего мира и полностью соответствует закономерному движению общества вперед, к коммунизму.
Глава двенадцатая. Марксизм-ленинизм о войне
1. Происхождение и сущность войн
Ленин и Сталин учат, что империализм есть канун социалистической революции, период открытых революционных схваток и классовых битв пролетариата с буржуазией, период прямой подготовки сил к свержению господства буржуазии, к захвату власти пролетариатом. Эпоха империализма — это эпоха революций и самых разнообразных по своему характеру войн: империалистических, гражданских, национально-освободительных, переплетения тех и других. Вот почему марксистско-ленинская теория о войне и армии имеет огромное значение для рабочего класса и его марксистской партии в борьбе за социализм.
Война – продолжение политики насильственными средствами
Войны представляют собой одно из сложных и противоречивых явлений социальной жизни. Они проходят через всю историю классового общества и оказывают огромное влияние на жизнь народов и государств, замедляя или ускоряя ход общественного развития.
В противоположность буржуазным теоретикам, проповедующим вечность и неустранимость войн, Маркс и Энгельс показали, что война есть общественно-историческое явление, возникшее на определенной ступени развития человеческого общества. Было время, когда войн не было, настанет время, когда войн не будет. Классики марксизма-ленинизма установили зависимость войны от способа производства, от классовой структуры общества.
Первобытно-общинный строй, где отсутствовали классы, эксплуатация человека человеком и государство, не знал войн как организованной вооруженной борьбы во имя каких-либо политических целей. Тогда не было ни специальных отрядов вооруженных людей (армии), ни специальных орудий для ведения войны. Вооруженные столкновения, имевшие место между отдельными родами и племенами, происходили от случая к случаю либо из-за лучших угодий для охоты, либо из-за пастбищ для скота. Подобные столкновения не были обусловлены самим характером общественных отношений первобытно-общинного строя.
Вооруженные столкновения принимают характер войн только в период разложения первобытно-общинного строя, т. е. тогда, когда в результате общественного разделения труда появилась частная собственность на средства производства, а вместе с ней возникли и начали оформляться классы и государства. В этих условиях вооруженные нападения стали средством обогащения эксплуататоров, средством приобретения рабов.
Возникновение частной собственности, классов и государства привело к появлению и «особых отрядов вооруженных людей», т. е. армии, полиции и т. д. Война стала регулярной функцией государств, представляющих интересы угнетателей, средством укрепления и расширения их господства, источником грабежа других народов.
Ленин и Сталин учат, что война по своей сущности есть продолжение политики того или иного класса насильственными средствами. Господствующие классы и их правительства осуществляют свои классовые цели, свою политику самыми различными средствами — экономическими, идеологическими, дипломатическими и т. д. Если эти средства не приводит к поставленным целям, господствующие классы и государства прибегают к открытому насильственному, вооруженному способу борьбы – к войне.
Поэтому, чтобы понять сущность войны и породившие ее причины, надо изучить политику, проводимую известными классами и державами перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. «Ту самую политику,— писал Ленин,— которую известная держава, известный класс внутри этой державы вел в течение долгого времени перед войной, неизбежно и неминуемо этот же самый класс продолжает во время войны, переменив только форму действия». ( В.И.Ленин, соч., т. ХХХ, изд. 3, стр. 333.)
Ленин учит, что если политика империалистическая, т. е. защищает интересы финансового капитала, грабящего и угнетающего колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империалистическая война. Если политика национально-освободительная, т. е. выражает интересы народа, его борьбу против национального гнета, то и война, вытекающая из такой политики, есть национально-освободительная война. Если главным содержанием политики пролетариата в его классовой борьбе против буржуазии является освобождение от капиталистического рабства, то и гражданская война (революция) пролетариата против буржуазии есть продолжение той же освободительной политики.
Источники войн, а также объяснение характера и целей войн надо искать в антагонистических способах производства, находящих свое отражение в политике классов и государств. Изучение политики данных классов и государств дает возможность установить, какие материальные интересы и каких классов привели к данной войне, и определить характер и цели этой войны.
Марксизм-ленинизм впервые в истории общественной науки раскрыл классовую природу политики и войны, взаимосвязь и взаимозависимость войны и политики, показав, что основы всякой политики и всякой войны заложены в самом способе производства, в системе общественно-политических отношений, в социальном и государственном строе данной страны. Ленин неоднократно подчеркивал, что «всякая война нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она вытекает». (В.И.Ленин, соч., т. ХХХ, изд. 3, стр. 333.)
Но не из всякого способа производства, не из всякого общественно-политического строя с необходимостью вытекает война. С уничтожением капитализма, с победой социализма во всем мире не будет и войн. Революционные, освободительные войны, которые приходится вести социалистическому государству, вытекают не из социалистического способа производства, не из внутренних законов развития социалистического общества, а обусловливаются капиталистическим окружением.
Как нет внеклассовой политики, так нет и войны, которая не преследовала бы политических, классовых целей. Характер политической цели имеет решающее влияние на ведение войны. Но вскрыть действительную сущность войны не так легко, ибо цели войны не всегда объявляются открыто. Советский Союз всегда открыто заявлял о целях войн, которые он вынужден был вести; войны СССР носят освободительный характер.
Агрессивные эксплуататорские государства, наоборот, всегда скрывали и скрывают действительные цели своих войн. Чтобы придать захватническим войнам какую-то видимость справедливости, идеологи эксплуататорских классов прибегают к жульническим маневрам, к лживым идеологическим вывескам и политическим лозунгам, при помощи которых можно было бы мобилизовать народные массы на борьбу за чуждые им интересы.
Поэтому нельзя познать причины и сущность той или иной захватнической войны, если ограничиться рассмотрением лишь ее внешних идеологических покровов, если не вникнуть в суть политики, которая привела к данной войне.
Установив зависимость войны от политики классов и государств, марксизм-ленинизм решительно отвергает точку зрения буржуазных идеологов, рассматривающих воину как продолжение только внешней политики. Марксизм-ленинизм учит, что между внутренней и внешней политикой, проводимой классами и государствами, существует неразрывная, органическая связь. Внешняя политика государств находится в прямой зависимости от политической линии господствующего класса внутри страны. Ленин указывал, что «...характер войны и ее успех больше всего зависят от внутреннего порядка той страны, которая вступает в войну, что война есть отражение той внутренней политики, которую данная страна перед войной ведет». (В.И.Ленин, Соч., т.30, изд. 4, стр. 131.).
Справедливые и несправедливые войны
Ленинско-сталинское определение войны как продолжения политики насильственными средствами нашло свою конкретизацию в положении о войнах справедливых и несправедливых, которое с научной точностью раскрывает политический характер войн как современной эпохи, так и войн прошлых времен. Ленин и Сталин учат, что бывают войны справедливые и несправедливые, войны передовых классов и войны реакционных классов, войны, служащие закреплению классового и национального гнета, и войны, ведущие к освобождению от этого гнета.
Ленинско-сталинская классификация воин современной эпохи дана в следующей классической формулировке товарища Сталина: «война бывает двух родов:
а) война справедливая, незахватническая, освободительная, имеющая целью либо защиту народа от внешнего нападения и попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства капитализма, либо, наконец, освобождение колоний и зависимых стран от гнета империалистов, и
б) война несправедливая, захватническая, имеющая целью захват и порабощение чужих стран, чужих народов». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 161.).
Ленин и Сталин указывают, что характер и цели войны могут существенно изменяться в зависимости от изменения политической обстановки, в которой развертывается война. История знает случаи, когда в результате изменения международной и внутренней обстановки воюющих стран, в результате образования новой расстановки политических сил справедливые войны становились несправедливыми и, наоборот, несправедливые войны превращались в справедливые. Наглядным примером превращения справедливых войн в несправедливые являются наполеоновские войны Франции конца XVIII и начала XIX в.
Несправедливые, захватнические войны реакционных эксплуататорских классов задерживают, тормозят развитие человеческого общества, ибо они усиливают гнет и эксплуатацию порабощенных классов и народов, отстаивают старое, отжившее, реакционное и подавляют новое, рождающееся, революционное.
В современных условиях несправедливыми являются войны, которые ведет буржуазия против пролетариата, против коммунистического движения. Несправедливыми, реакционными являются также и те войны, которые ведет империалистическая буржуазия против народов колониальных и зависимых стран, борющихся за свое национальное освобождение. Наконец, несправедливыми войнами являются и те войны, которые происходят между самими империалистическими государствами в их борьбе за передел мира, за рынки сбыта и сферы приложения капитала.
Наоборот, справедливые, освободительные войны — и прежде всего войны пролетариата против буржуазии — являются прогрессивными, революционными войнами, ибо они разрушают старые, вредные и реакционные учреждения, мешающие свободному развитию народов, несут угнетенному человечеству освобождение от капиталистического рабства, освобождение народов от гнета империализма и создают условия для самостоятельного государственного и национального развития народов колоний и зависимых стран. Справедливые войны выражают потребности дальнейшего развития общества и служат этому развитию.
Буржуазные пацифисты выступают противниками всякой войны. Они подходят к войне абстрактно, метафизически, без анализа ее классового содержания. Большевики никогда не были простыми пацифистами, противниками всякой войны вообще и никогда не смотрели на войну с сентиментальной точки зрения. Они требуют конкретного анализа войны и являются противниками захватнических, несправедливых войн и сторонниками войн справедливых, освободительных. Большевики являются противниками таких войн, которые ведутся эксплуататорскими классами в целях усиления своего господства, грабежа трудящихся масс и подавления других народов. Большевики всегда выступали против насилия над трудящимися. Они призывали трудящиеся массы к самой решительной борьбе против захватнических войн вплоть до революции и свержения власти капитала. Но вместе с тем большевики являются принципиальными сторонниками насилия революционных классов и прогрессивных общественных сил по отношению к реакционным классам и их политическим учреждениям, ибо «без насилий по отношению к насильникам, имеющим в руках орудия и органы власти, нельзя избавить народ от насильников». (В.И.Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 441).
Поэтому марксизм-ленинизм признает законность, прогрессивность, справедливость и необходимость войн угнетенных классов против своих угнетателей, но осуждает войны эксплуататорских классов и государств против народов и угнетенных классов как варварское и зверское дело. «Социалисты всегда становятся на сторону угнетенных и, следовательно, они не могут быть противниками войн, целью которых является демократическая или социалистическая борьба против угнетения». (В.И.Ленин, Соч., т. XXX, изд. 30, стр. 284.)
Положение ленинизма о делении войн на справедливые и несправедливые является теоретической основой для правильной постановки коммунистическими партиями вопроса о защите отечества в войне. Ленин и Сталин учат, что защита «отечества» в империалистической войне есть измена делу пролетарского интернационализма и, наоборот, интересы справедливой, освободительной войны требуют самого активного участия масс в деле обороны страны.
«Признавать защиту отечества это значит признавать законность и справедливость воины... Если войну ведет класс эксплуататоров в целях укрепления своего господства, как класса, это — преступная война и «оборончество» в такой войне есть гнусность и предательство социализма». (В.И.Ленин, Соч., т. 27, изд. 4, стр. 299.). Ленинское указание о необходимости защиты отечества в справедливой войне является прямым руководством для коммунистических партий капиталистических стран в их борьбе против реакционной идеологии космополитизма, объявившей «устаревшими»; понятия отечества, нации и расчищающей путь для утверждения американского господства над миром.
Несостоятельность и реакционность антимарксистских теорий о происхождении и сущности войн
Буржуазные историки, философы и военные теоретики в силу своей классовой ограниченности оказались неспособными вскрыть и объяснить подлинную сущность и причины войн. Буржуазные теоретики в угоду захватническим стремлениям своих господ безуспешно пытаются доказать, что война представляет собой естественное и вечное явление в жизни человечества, что в обществе не может быть вечного мира.
Одной из распространенных теорий является этическая теория войны. Авторы этой антинаучной теории объявляют войну высоким «нравственным началом» в жизни народов и государств, утверждая, что вечный мир возможен только на кладбище, что мир ведет к застою, к нравственному заболеванию, а затем и к прекращению жизни народов. Сторонники этой точки зрения (Лейбниц, Гегель, Штейнметц, Леер) рассматривают войну как целебное средство сохранения нравственного здоровья народов, орудие «нравственного совершенствования» людей. Нетрудно увидеть реакционнейшее, человеконенавистническое существо этой изуверской теорий. Злейшие враги человечества, гитлеровские разбойники, совершившие величайшие злодеяния против народов, черпали аргументы для оправдания своей войны не только из расистской, но и из «этической» теории.
Широкое распространение в буржуазной литературе получила и другая антинаучная теория войны — биологическая. Сторонники этой теории пытаются представить войну как естественный, биологический закон в жизни народов. Причины войн они видят в биологической природе человека. Представители биологической теории войны жульнически пытаются использовать дарвинизм, вульгаризируя его и стремясь доказать, что война есть необходимое проявление жизни, что борьба за существование, наблюдаемая в животном мире, есть закон и общественной жизни. Исходя из этой фальсификации науки, они делают вывод, что война является вечным, неотвратимым и полезным явлением в жизни народов.
Пытаясь опровергнуть марксистское положение о том, что источником современных войн является капитализм, господство частной собственности, сторонник биологической теории войны профессор Гарвардского университета Клайд Клакхон в своей книге «Зеркало человека» (1948 г.) цинично заявляет, что причины современных империалистических войн надо искать в «агрессивном инстинкте», заложенном в «природе» человека.
Политический смысл биологической теории войны совершенно очевиден. Эта реакционная теория также рассчитана на то, чтобы оправдать и увековечить разбойничьи войны буржуазии, скрыть от масс действительные источники и причины этих войн и тем самым отвлечь массы от революционной классовой борьбы против капитализма, против поджигателей империалистических войн.
Человеческое общество развивается по особым, только ему присущим законам. Поэтому аналогия между войнами и «борьбой за существование» насквозь фальшива. Причины войн, как и всякого общественного явления, надо искать не в биологической природе человека, а в исторически определенных способах производства, основанных на господстве частной собственности на средства производства и эксплуатации человека человеком.
Разновидностью биологической теории войны является гнусная расовая теория, исходящая из человеконенавистнической идеи о «высших» и «низших» расах. Представители этой человеконенавистнической теории призывают народы так называемой «высшей» расы к жестокой и безжалостной расправе с «низшими» расами. На позициях расизма стоит подавляющее большинство идеологов империалистической буржуазии как в Германии и Японии, так и в США и Англии. Расовая теория войны является наиболее распространенным идеологическим оружием империалистической агрессии и служит реакционной цели — порабощению и истреблению народов. Под флагом расовой теории готовилась и проводилась фашистской Германией вторая мировая война. Гитлеровцы объявили немцев «высшей» расой, которая якобы призвана властвовать над остальными народами. Бредовые планы установления своего мирового господства гитлеровцы пытались осуществить средствами необузданного вооруженного насилия, не останавливаясь перед истреблением миллионов людей, прежде всего славян. Идеология и политика расовой ненависти, проводившаяся гитлеровской кликой, не могла не восстановить против фашистской Германии все народы мира. Товарищ Сталин говорил, что «политика расовой ненависти, проводимая гитлеровцами, стала на деле источником внутренней слабости и внешнеполитической изоляции немецко-фашистского государства». (И.В.Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, изд. 5, Госполитиздат, 1949, стр. 161.).
После второй мировой войны расовую человеконенавистническую теорию гитлеровцев приняли на свое вооружение англо-саксонские империалисты. По стопам немецких расистов пошел старый реакционер и поджигатель войны Черчилль со своими друзьями в Англии и США. Англо-американские империалисты, претендующие ныне на мировую гегемонию, начали дело подготовки и развязывания новой войны тоже с пропаганды расовой теории, утверждая, что нации, говорящие на английском языке, якобы призваны владычествовать над всем земным шаром.
Биологические, расовые теории войны, в частности англо-саксонская расовая теория, являющаяся перепевом немецко-фашистской идеологии, исходит из реакционного, антинаучного, идеалистического понятия «человека вообще», будто бы всегда наделенного одной и той же природой, одними и теми же особенностями, свойствами, к числу которых авторы этой гнусной выдумки относят «драчливость», «тщеславие», «жажду крови», «животную страсть к войне» и др. В действительности никаких неизменных особенностей человека не существует. Люди живут в определенных общественно-исторических условиях, от которых и зависят взгляды, характер, нравы, стремления и потребности людей. Следовательно, источники войны надо искать в общественном бытии людей, классов, в условиях их материальной жизни, а не в вымышленных буржуазны-ми идеологами расовых особенностях народов.
Для оправдания империалистического разбоя ученые лакеи буржуазии пытаются ныне оживить также и вздорные взгляды мальтузианцев, рассматривающих войну как «благодетельный» фактор, благодаря которому сокращается «избыточное население» и тем самым якобы восстанавливается равновесие между численностью населения и средствами существования.
Значительную роль в идеологическом арсенале империалистической буржуазии играет также реакционная, антинаучная, так называемая геополитическая теория, пытающаяся оправдать захватнические войны географическими соображениями.
Воинствующие идеологи американского монополистического капитализма для оправдания плана мирового господства и подготовки новой войны распространяют идеологию космополитизма, являющуюся по своей сущности буржуазным национализмом. Под этим, обновленным на англо-американский манер, гитлеровским флагом проводится лихорадочная подготовка третьей мировой войны, сколачивание агрессивных военных блоков. Не может быть сомнения в том, что американскому и английскому империализму с их оголтелыми теориями войн не избежать той же самой участи, какая постигла гитлеровцев.
Итак, в основе всех буржуазных теорий войны лежит стремление обосновать неизбежность и вечность войны, оправдать захватнические войны и реакционную политику буржуазных государств, скрасить разбойничий характер империалистических войн, обмануть трудящихся, превратить их в пушечное мясо, отвлечь народные массы от борьбы с прогнившим капиталистическим строем, порождающим войны.
Только марксизм-ленинизм дает единственно правильный, научный ответ на вопрос об истоках и сущности войны; только он указывает единственно верный путь к полному прекращению войн — путь уничтожения капитализма и победы социализма во всех странах.
Армия – главное орудие ведения войны
Главным средством ведения войны является армия, которая возникает одновременно с государством как его важнейшее орудие.
Чтобы скрыть и замаскировать классовую эксплуататорскую сущность армий капиталистических государств, предназначенных для подавления трудящихся своей страны, для грабежа и порабощения народов других стран, буржуазные социологи и военные теоретики лживо утверждают, будто армия стоит вне политики, призвана выполнять «общенациональные» задачи и якобы представляет собой вооруженную силу всего народа, а не орудие утверждения власти эксплуататоров.
Марксизм-ленинизм разоблачает эту буржуазную ложь. История развития классового общества свидетельствует, что господствующие эксплуататорские классы всегда использовали армию как средство насильственного осуществления своей внутренней и внешней политики. Ленин указывал, что армия капиталистического общества «есть самый закостенелый инструмент поддержки старого строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддержки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинений ему трудящихся». (В.И.Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 261.). Армия используется эксплуататорскими классами также и для захвата чужих территорий. Армии империалистических государств (ныне прежде всего армии США и Англии) служат вооруженной опорой власти монополистического капитала и орудием осуществления агрессивной политики. Они предназначены для борьбы против растущих сил демократии и социализма, для проведения захватнических, реакционных войн в целях сохранения господства империализма. Помимо огромных по своей численности армий, находящихся в метрополиях, правительства США и Англии содержат специальные войска, разбросанные по многочисленным колониям и зависимым странам в различных частях света. Колониальные войска создаются империалистами для того, чтобы держать в узде народы колоний и зависимых стран, чтобы подавлять национально-освободительное движение.
Каким образом империалистической буржуазии удается использовать армию, состоящую в массе своей из трудящихся, в качестве орудия осуществления грабительских, антинародных целей? Это достигается при помощи различных методов и средств идеологической обработки солдатских масс и прежде всего при помощи проповеди человеконенавистнической идеологии расизма, шовинизма, национальной вражды между народами. Самая организация буржуазной армии приспособлена к тому, чтобы превратить ее в послушное орудие классового угнетения трудящихся масс: ее офицерский состав, особенно высший, вербуется из представителей имущих классов. Однако такая организация буржуазных армий; воспроизводящих классовую структуру общества, становится в периоды обострения классовых противоречий источником их разложения; достаточно вспомнить многочисленные случаи восстаний солдат и матросов империалистических армий.
Прямой противоположностью армиям империалистических государств является Советская Армия, порожденная Великой Октябрьской социалистической революцией. Марксизм - ленинизм учит, что пролетариат в ходе социалистической революции должен разбить, сломить буржуазно-государственную машину, в том числе ее главную силу — армию, и создать свою армию, армию диктатуры пролетариата. Свергнутые эксплуататорские классы при прямой поддержке мирового империализма в стремлении вернуть свое господство не останавливаются перед применением оружия. Поэтому подавить сопротивление свергнутых эксплуататорских классов можно только силой военной организации. Ленин учит, что «господствующий класс, пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организацией». (В.И.Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 133.). Партия большевиков оказалась на высоте этой выдвинутой Лениным труднейшей задачи. В ходе Великой Октябрьской социалистической революции была распущена старая буржуазно-помещичья армия и создана невиданная еще в истории армия нового типа, армия социалистического государства, призванная защищать интересы социалистического отечества, охранять свободу и независимость народов СССР, обеспечивать государственные интересы Советского Союза.
Советская Армия как армия нового типа принципиально отличается от армий капиталистических государств как по своей классовой природе, так и по своим целям и задачам. В ней нет и не может быть классового противоречия между офицерским и рядовым составом, ибо и тот и другой состоят из трудящихся. Товарищ Сталин указал три важнейшие особенности, которые отличают Советскую Армию от армий капиталистических государств.
Первая особенность Советской Армии состоит в том, что она есть армия освобождённых рабочих и крестьян, она есть армия Октябрьской революции, армия диктатуры пролетариата». (И.В.Сталин, Соч., т. 11, стр. 22.). Советская Армия является подлинно народной армией. В СССР народ и армия составляют одно целое, одну семью, спаянную общностью интересов. Сила и непобедимость Советской Армии состоит в том, что она пользуется полной поддержкой советского народа и трудящихся всего мира.
Вторая особенность Советской Армии состоит в том, что она является армией дружбы народов СССР, «армией братства между нациями нашей страны, армией освобождения угнетённых наций нашей страны, армией защиты свободы и независимости наций нашей страны». (Там же, стр.23.). Советская Армия воспитана в духе равноправия, взаимного уважения и дружбы всех народов Советского Союза. Сила и непобедимость Советской Армии состоит в том, что она пользуется величайшей поддержкой миллионных масс всех национальностей, населяющих наш великий Советский Союз. Вместе с тем она пользуется сочувствием и поддержкой всех народов колоний, полуколоний и зависимых стран, на что не может рассчитывать ни одна из буржуазных армий.
Третья особенность Советской Армии состоит в том, что она воспитана в духе интернационализма. (См. И.В.Сталин, Соч., т. 11, стр. 24.). Советской Армии чужды захватнические устремления к порабощению народов. Именно потому, что Советская Армия воспитана в духе интернационализма, в духе уважения к правам и свободе всех народов мира, она снискала к себе любовь и признательность всего прогрессивного человечества.
На советские вооруженные силы возложена великая историческая задача — зорко охранять завоеванный мир и созидательный труд советского народа, бдительно оберегать священные рубежи социалистического отечества от империалистических агрессоров, быть в полной боевой готовности для защиты и обеспечения государственных интересов СССР. Во второй мировой войне Советская Армия с честью выполнила свой долг перед социалистической родиной и оказала неоценимую услугу народам, порабощенным фашистскими захватчиками. Разгромив агрессоров на Западе и на Востоке, она отстояла свободу и независимость народов Советского Союза и спасла народы Европы и Азии от порабощения немецкими и японскими империалистами.
По образу и подобию Советской Армии строятся ныне армии в странах народной демократии. Эти армии стоят на страже интересов народных масс, охраняют государственную самостоятельность и национальную независимость своих стран. Ярким образцом национально-освободительной армии является китайская революционная армия, освободившая под руководством коммунистической партии китайский народ от гнета продажной реакционной клики Чан Кай-ши и американского империализма.
2. Характер войн до эпохи империализма
Причины и характер войн различны в разных общественно-экономических формациях.
Войны рабовладельческих государств являлись прежде всего основным средством добывания рабов, а также орудием грабежа и покорения народов, средством укрепления классового господства рабовладельцев. Они обусловливались рабовладельческим способом производства, который нуждался в постоянном притоке рабов как основной рабочей силы.
Примерами таких захватнических, несправедливых войн рабовладельческих государств были: Пелопонесская война между Афинским и Спартанским государствами в 431—404 гг. до н. э. из-за политической гегемоний в Греций и колониального господства в Средиземном море; войны Александра Македонского за установление мирового господства Македонии в 334—323 гг. до н. э.; Пунические войны между Римом и Карфагеном в период с 264 по 146 г. до н. э. за монопольное право грабить народы и страны, расположенные на побережье Средиземного моря.
Эпоха феодализма также полна несправедливых, захватнических войн, целью которых было не только утверждение и закрепление власти крупных землевладельцев-крепостников, но и расширение территории одних феодальных государств за счет других, порабощение народов. Завоевательные войны в большинстве случаев заканчивались тем, что побежденные феодальные государства либо превращались в вассалов победивших государств и платили дань за счет ограбления населения, либо присоединялись к владениям победителей.
Примерами грабительских войн эпохи феодализма, сыгравших пагубную, реакционную роль в истории, являются завоевательные нашествия арабов в VIII в., татаро-монгол в XIII—XIV вв., турок в XV—XVI вв., разбойничьи военные походы немецких «псов-рыцарей» против прибалтийских народов в XIII—XIV вв., крестовые походы феодального Запада на Восток в XI—XIII вв. В период феодальной раздробленности происходили также нескончаемые междоусобные, династические войны между отдельными феодальными княжествами внутри одного государства. Все эти войны эпохи феодализма, продиктованные классово-эгоистическими грабительскими интересами феодальных групп, носили реакционный характер. Они сопровождались грабежами и разорением крепостного крестьянства, приносили огромный экономический ущерб народам.
С образованием централизованных абсолютистских государств междоусобные войны феодалов прекратились. Но внешние завоевательные войны между централизованными феодальными государствами заполнили собой целую историческую полосу, омраченную страшными бедствиями народных масс тех стран, на территории которых происходили войны (Тридцатилетняя война 1618—1648 гг., война за испанское наследство 1701—1714гг., война за австрийское наследство 1740—1748 гг.).
Буржуазия ознаменовала свое господство бесчисленными завоевательными войнами за захват внешних рынков и чужих территорий, за приобретение колоний и порабощение отсталых народов и стран и залила кровью народов весь земной шар. Капитализм не может обойтись без войн. «Война для капиталистических стран, — говорит товарищ Сталин,— является таким же естественным и законным состоянием, как эксплуатация рабочего класса». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 154.). В эпоху домонополистического капитализма, на протяжении XVII—XIX вв., буржуазия крупнейших капиталистических стран, особенно английская буржуазия, провела целый ряд колониальных, захватнических войн.
Наряду с захватническими, несправедливыми войнами в рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществах имели место и освободительные, справедливые войны, целью которых были либо защита от внешнего нападения, либо освобождение от чужеземного гнета, либо освобождение от классового гнета. В числе справедливых войн особое место занимают войны русского народа, вписавшего самые яркие страницы в историю борьбы народов против иноземных захватчиков. Выдающимися событиями не только русской, но и всемирной истории являются: разгром войсками Александра Невского в знаменитом «Ледовом побоище» на Чудском озере в 1242 г. вторгшихся в русские земли немецких рыцарей; освободительная война русского народа против монголо-татарских завоевателей, переломным моментом которой явилась Куликовская битва (1380), в которой русская армия под предводительством Дмитрия Донского наголову разбила татарские орды Мамая; война под руководством Минина и Пожарского в начале XVII в. за освобождение земель русского государства от польских оккупантов; Отечественная война русского народа в 1812 г. под руководством гениального полководца Кутузова, закончившаяся освобождением России и всей Западной Европы от гнета Наполеона. Освободительные войны русского народа оказали огромное влияние на борьбу свободолюбивых народов мира за свою независимость и государственную самостоятельность.
К справедливым войнам относятся национально-освободительная война американского народа за свою независимость против английских поработителей в 1775—1782 гг., война революционной Франции конца XVIII в., войны Италии за ликвидацию феодальной раздробленности, за объединение страны в единое национальное государство.
История классовых обществ знает не только освободительные войны народов против чужеземного гнета и порабощения, но и классовые, гражданские войны угнетенных классов против своих угнетателей. Гражданские войны рабов против рабовладельцев, крепостных крестьян против помещиков и феодалов, пролетариата против буржуазии играют великую прогрессивную роль в развитии общества и являются решающими поворотами в истории.
3. Войны эпохи империализма и пролетарских революций
Неравномерность развития капиталистических стран и империалистические войны
К концу XIX и началу XX столетия капитализм перерос в высшую и последнюю стадию своего развития, в стадию империализма, когда все противоречия, присущие капиталистическому обществу, доходят до крайней степени их обострения. Наступила эпоха войн и революций.
«Капитализм, - писал Ленин, - из прогрессивного стал реакционным, он развил производительные силы настолько, что человечеству предстоит либо перейти к социализму, либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу «великих» держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний, монополий, привилегий и национальных угнетений всяческого рода». (В.И.Ленин, соч., т. 21, изд. 4, стр. 273.).
Объяснение закономерностей и характера войн в эпоху империализма следует искать в особенностях развития капитализма на его монополистической стадии. Ленинизм учит, что неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. В период империализма этот закон находит свое выражение в скачкообразном развитии одних стран в отношении других, в быстром оттеснении с мирового рынка одних стран другими, в углублении и обострении конфликтов в лагере империализма, в периодических переделах уже поделенного мира посредством вооруженного насилия.
Анализируя истоки современных мировых войн между империалистическими странами, товарищ Сталин говорил: «Марксисты не раз заявляли, что капиталистическая система мирового хозяйства таит в себе элементы общего кризиса и военных столкновений, что ввиду этого развитие мирового капитализма в наше время происходит не в виде плавного и равномерного продвижения вперёд, а через кризисы и военные катастрофы. Дело в том, что неравномерность развития капиталистических стран обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма, причём та группа капиталистических стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьём и рынками сбыта, обычно делает попытки изменить положение и переделить «сферы влияния» в свою пользу — путём применения вооружённой силы. В результате этого возникают раскол капиталистического мира на два враждебных лагеря и война между ними» (И.В.Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., Госполитиздат, 1949, стр. 14.).
Первой попыткой переделить мир была мировая империалистическая война (1914—1918). Выясняя причины первой мировой, воины, товарищ Сталин писал: «Империалистическая война возникла в силу неравномерности развития капиталистических стран, в силу нарушения равновесия между главными державами, в силу необходимости для империалистов нового передела мира путем войны и создания нового равновесия сил». («История ВКП(б).Краткий курс», стр. 173.).
Виновниками первой мировой войны являются империалисты всех стран. По своей сущности она была войной между двумя группами империалистических хищников: между странами Антанты во главе с Англией, с одной стороны, и странами германского блока, с другой, - из-за мирового господства.
Первая мировая война положила начало общему кризису капиталистической системы, который в результате победы Октябрьской социалистической революции в России навсегда покончил с «устойчивостью» мирового капитализма. Как указывает товарищ Сталин, капитализм «никогда не вернёт себе того «спокойствия» и той «уверенности», того «равновесия» и той «устойчивости», которыми он щеголял раньше, ибо кризис мирового капитализма дошёл до такой степени развития, когда огни революции неизбежно должны прорываться то в центрах империализма, то в периферии, сводя к нулю капиталистические заплаты и приближая день за днём падение капитализма». (И.В.Сталин, Соч., т. 10, стр. 246.).
Победа Великой Октябрьской социалистической революции означала конец существования капитализма как единственной и всеохватывающей системы мирового хозяйства. Она открыла эру крушения капитализма, эру пролетарских революций. Раскол мира на две системы — социализм и капитализм — является решающим фактором общего кризиса капиталистической системы: самый факт существования социалистической системы, ее роста и процветания расшатывает основы капитализма. Вместе с тем победа Октябрьской социалистической революции нанесла удар по тылам империализма, расшатала устои его господства в колониальных и зависимых странах и открыла эпоху колониальных революций в угнетенных странах мира; таков второй фактор общего кризиса капитализма.
Вторая мировая война порождена также империализмом, как и первая мировая война. Она возникла в результате второго кризиса капиталистической системы мирового хозяйства. Но кризис капиталистической системы мирового хозяйства, вызвавший вторую мировую войну, произошел в условиях дальнейшего обострения общего кризиса капитализма, когда в результате борьбы двух систем устои капитализма оказались еще более расшатанными, а позиции социализма значительно усилились.
В период между первой и второй мировыми войнами неравномерность экономического и политического развития капитализма приняла особенно острый характер. Соотношение экономических и политических сил внутри мировой системы капитализма резко изменилось. Империалистическая Германия, ослабленная в результате поражения в первой мировой войне, вновь встала в ряд сильнейших держав, обогнав и перегнав в своем экономическом развитии Англию и Францию. Германский империализм стал вытеснять с внешних рынков Англию, Францию, Бельгию, Голландию, начал успешно конкурировать с США. Все это обостряло противоречия между крупными империалистическими хищниками, способствовало нарастанию второго кризиса капиталистической системы мирового хозяйства и неизбежно вызывало военные конфликты. Противоречия в лагере империализма были углублены тяжелыми последствиями мирового экономического кризиса 1929—1933 гг., развеявшего в прах буржуазные и реформистские иллюзии о благополучии и процветании капитализма. Экономический кризис и обострение противоречий капитализма привели к усилению политической реакции в буржуазных странах. Империалисты искали выход из кризиса на путях фашизации своих государств и организации новой империалистической войны и интервенций против Советского Союза. Образовались два наиболее опасных очага империалистической агрессии: Германия — на Западе и Япония — на Востоке.
Подготовленная империалистами всех стран, вторая мировая война была развязана наиболее реакционными, фашистскими государствами — Германией, Японией и Италией. Правящие империалистические круги США, Англии и Франции всячески поощряли фашизм и его агрессию. Вооружив с помощью миллиардов американских долларов германский империализм, они стремились изолировать СССР и сделать его жертвой фашистского нашествия, рассчитывая таким путем разделаться со страной победившего социализма. Об этом красноречиво свидетельствует реакционная «мюнхенская» политика правителей Англии, Франции и США, политика «умиротворения» фашистской Германии, политика сговора с гитлеровцами за счет CСCP и других свободолюбивых народов.
В докладе на XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин разоблачил сущность империалистической политики «невмешательства» по отношению к агрессии и показал, что она означает на деле попустительство агрессии, развязывание войны. Товарищ Сталин предупредил, что «...большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом». (И.В.Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 572.). Последующее развитие событий полностью подтвердило эти пророческие слова товарища Сталина.
Благодаря мудрой и прозорливой сталинской внешней политике антисоветские планы империалистов потерпели крах. «Товарищ Сталин вовремя разгадал коварный смысл тогдашних англо-французских интриг против Советского Союза, что позволило не только вывести из-под удара нашу Родину, отсрочив нападение гитлеровской Германии на СССР, но и привести развитие событий к такому положению, при котором правительства Англии и США были поставлены перед необходимостью создания англо-советско-американской антифашистской коалиции, что отвечало интересам всех свободолюбивых народов». (В.М.Молотов, Сталин и сталинское руководство, Госполитиздат, 1949, стр. 14.).
Вопреки расчетам англо-американских империалистических кругов вторая мировая война началась в 1939 г. как война между блоком фашистских государств во главе с гитлеровской Германией и блоком буржуазно-демократических стран во главе с Англией и Францией. Лишь через промежуток около двух лет, после начала войны в Западной Европе, после того как германский империализм подчинил себе большую часть Европы, он решился совершить злодейское нападение на Советский Союз. Правительствам Англии и США, оказавшимся перед лицом серьёзнейшей опасности, пришлось создать вместе с Советским Союзом антигитлеровскую коалицию.
Несмотря на то что вторая мировая война имела те же источники, что и первая, она по своему характеру существенно отличалась от мировой войны 1914—1918 гг. Вторая мировая война, говорил товарищ Сталин, была с самого начала антифашистской, освободительной войной со стороны народов и государств антигитлеровской коалиции.
Следует, однако, видеть принципиальную разницу между целями войны, которые ставил Советский Союз, и целями империалистических правящих кругов Англии и США. Советский Союз вел освободительную, справедливую войну против наиболее опасного и агрессивного врага всего человечества. Советский Союз считал основными целями войны ликвидацию фашизма и предотвращение новой агрессии Германии, восстановление и укрепление демократических порядков в Европе, создание прочного и длительного демократического мира во всем мире и сотрудничества между народами.
Реакционные правящие круги Англии и США в войне с Германией не ставили себе освободительных задач борьбы против фашизма. Они были заинтересованы лишь в подрыве мощи Германии и Японии, в устранении их с мирового рынка как своих опасных соперников. Наряду с этим они рассчитывали на ослабление Советского Союза, на то, что Советский Союз в результате войны потеряет свою мощь как великая держава и попадет в зависимость от Англии и США. Другими словами, англо-американские правящие круги продолжали вести во время войны ту же самую реакционную империалистическую политику, которую они проводили и до войны. В период второй мировой войны англо-американские империалисты стремились объединить вокруг себя реакционные силы для создания антисоветского блока. Однако эта политика встречала противодействие со стороны народов их собственных стран. Поняв, что фашизм несет с собой смерть и порабощение всем свободолюбивым народам, миллионы простых людей всех стран мира выступили на защиту национальной независимости своих стран, на защиту демократических свобод; объединились в единый антифашистский фронт борьбы во главе с Советским Союзом. Поэтому, несмотря на империалистические цели правящих кругов Англии и США, вторая мировая война и со стороны буржуазно-демократических стран антигитлеровской коалиции была по своему объективному, содержанию исторически прогрессивной, освободительной, справедливой.
Вторая мировая война, в которой Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме немецкого и японского империализма, привела к дальнейшему обострению общего кризиса капитализма и к изменению соотношения сил между социалистической и капиталистической системами в пользу социализма. Силы социализма и демократии многократно возросли, а позиции капитализма значительно ослабли. Еще более окреп Советский Союз. От империалистической системы отпал ряд стран, в которых образовались государства народной демократии.
В итоге второй мировой войны окончательно сформировались два противоположных лагеря — лагерь империалистический, антидемократический во главе с США и лагерь антиимпериалистический, демократический во главе с СССР. Империалистический лагерь представляет собой оплот реакции и агрессии, угрожающий человечеству новой мировой войной. Лагерь антиимпериалистический, основной силой которого является Советский Союз со странами народной демократии, является оплотом мира и прогресса, социализма и демократии.
Гражданские войны пролетариата против буржуазии
Наряду с несправедливыми, захватническими войнами, являющимися продолжением политики отживших свой век эксплуататорских классов, эпоха империализма неминуемо порождает войны справедливые, освободительные. «Марксисты никогда не забывали, что насилие неизбежно будет спутником краха капитализма во всем его масштабе и рождения социалистического общества. И это насилие будет всемирно-историческим периодом, целой эрой самых разнообразных войн — войн империалистских, войн гражданских внутри страны, сплетения тех и других, войн национальных, освобождения национальностей, раздавленных империалистами». (В.И.Ленин, Соч., т. 27, изд. 4, стр.106).
В эпоху империализма пролетарская революция стала практической неизбежностью. В порядок дня стал вопрос о свержении власти капитала. Это сделало неизбежными гражданские войны пролетариата против буржуазии, имеющие целью освобождение народа от капиталистического рабства. Гражданские войны и восстания пролетариата против буржуазии являются высшей, наиболее острой формой классовой борьбы пролетариата.
Гражданские войны пролетариата, идущего во главе всех трудящихся масс против буржуазии, являются самыми справедливыми, прогрессивными, революционными войнами, ибо они служат освобождению народа от классового и национального гнета, уничтожению капитализма, ставшего тормозом прогресса человечества, и установлению самого передового общественного строя—социализма. Вот почему Ленин определяет гражданскую войну пролетариата как «единственно законную, единственно справедливую, единственно священную,— не в поповском, а в человеческом смысле слова священную войну угнетенных против угнетателей за их свержение, за освобождение трудящихся от всякого гнета». (В.И.Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 362).
Марксизм-ленинизм учит, а гигантский опыт классовой борьбы пролетариата подтверждает, что победа социалистической революции невозможна без применения революционного насилия пролетариата над буржуазией. Пролетариат и беднейшее крестьянство России свергли капитализм в результате победоносного Октябрьского вооруженного восстания, организованного и руководимого большевистской партией. После завоевания власти пролетариату и трудящемуся крестьянству пришлось в течение трех лет вести ожесточенную гражданскую войну против объединенных сил внутренней и внешней контрреволюции.
Вслед за победой Великой Октябрьской социалистической революции последовала мощная волна вооруженных восстаний и гражданских войн пролетариата против буржуазии в ряде капиталистических стран Европы: в Венгрии в 1918—1919 гг., в Баварии в 1919 г., в Италии в сентябре 1920 г., в Средней Германии в марте 1921 г., в Германии (Гамбург), Болгарии и Польше (Краков) в 1923 г. Первый тур революций и гражданских войн закончился всемирно-исторической победой пролетариата в России и временным поражением пролетариата в других странах Европы.
Победа Советского Союза во второй мировой войне над германским и японским империализмом придала пролетариату капиталистических стран уверенность в победе над буржуазией. Рост политических конфликтов и столкновений между пролетариатом и буржуазией, переход пролетариата в наступление против буржуазии, рост влияния коммунистических партий как основной руководящей силы народных масс в борьбе за освобождение от капиталистического рабства — таковы проявления революционной борьбы трудящихся масс в настоящее время.
После второй мировой войны в ряде зависимых и колониальных стран гражданские войны развернулись в тесной связи с национально-освободительной борьбой против империалистических угнетателей. Такой характер приняла, например, борьба трудящегося народа в Китае, а также в Корее.
Национально-освободительные войны народов колоний и зависимых стран за освобождение от гнёта империализма
Одним из видов справедливых войн в эпоху империализма являются национально-освободительные войны. Империализм принес с собой усиление национального гнета. «Из освободителя наций, каким капитализм был в борьбе с феодализмом,— писал Ленин,— империалистский капитализм стал величайшим угнетателем наций». (В.И.Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 273). Но неизбежным следствием усиления национального гнета в эпоху империализма является пробуждение национального самосознания и подъем национально-освободительной борьбы в колониальных и зависимых странах. Борьба народов колоний и зависимых стран за свою национальную независимость и государственную самостоятельность подрывает позиции империализма и превращает колонии из резерва империализма в резерв пролетарской революции.
Ленин и Сталин учат, что национальные восстания и национально-освободительные войны против империалистических государств «не только возможны и вероятны, они неизбежны и прогрессивны, революционны...». (В.И.Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 298). Следует иметь в виду, что ленинизм применяет понятие национально-освободительных войн не только к войнам народов колоний и зависимых стран, но и к войнам каждого народа, против которого направлена империалистическая агрессия. Ленин писал: «...даже в Европе нельзя считать национальные войны в эпоху империализма невозможными». (Там же, стр. 297). Для народов колоний и зависимых стран нет иного пути избавления от империалистического гнета, кроме национальных восстаний, национально-освободительных войн. Народы колоний и зависимых стран все больше и больше сознают, что только в вооруженной борьбе с империализмом они могут получить свободу и национальную независимость, что только социализм дает действительное равноправие наций и возможность свободного развития.
Основными силами современных национально-освободительных войн являются пролетариат и крестьянство, руководимые коммунистическими партиями. В большинстве случаев буржуазия колоний, полуколоний и зависимых стран в страхе перед революцией идет на сговор с империализмом, предает национальные интересы своей страны.
Национально-освободительная борьба народов колоний и полуколоний против империализма переплетается ныне в ряде стран с войной угнетенных классов против своих угнетателей, против феодалов и реакционной буржуазии, продавшей национальные интересы своей страны и перешедшей на службу к иностранному капиталу. Интересы пролетарского движения в метрополиях и национально-освободительного движения в колониях требуют соединения этих двух видов революционного движения в общий единый мировой фронт против общего врага — мирового фронта империализма. Товарищ Сталин учит, что победа рабочего класса в странах развитого капитализма и освобождение угнетенных народов от ига империализма невозможны без образования и укрепления единого революционного фронта, пролетариата капиталистических стран и угнетенных народов мира.
Ярким воплощением этих теоретических сталинских положений, составляющих незыблемую основу стратегии и тактики коммунистических партий в классовой борьбе пролетариата, является антиимпериалистический, демократический фронт во главе с СССР. В борьбе против поджигателей войны, за прочный мир, демократию и социализм национально-освободительная борьба народов колоний и зависимых стран занимает важное место.
Вторая мировая война придала невиданный размах национально-освободительной борьбе колониальных народов. Многие народы колониального мира ведут ныне национально-освободительные войны против империализма и уже успели нанести ему тяжелые удары. Развивается и ширится освободительная война угнетенных народов Вьетнама и Индонезии, Бирмы и Малайи; нарастает революционный кризис в Индии и на Цейлоне; зреет национально-освободительное движение в африканских колониях.
Великое значение для народов колоний и зависимых стран, борющихся против империализма, имеет победа национально-освободительной войны китайского народа. Четверть века китайский народ под руководством коммунистической партии и ее выдающегося вождя Мао Цзе-дуна ведет непрерывную вооруженную борьбу с иностранными империалистами и внутренней контрреволюцией за свою национальную независимость, за право вступить на путь строительства социализма. Национально-освободительная война китайского народа против иностранного империализма закономерно слилась с гражданской войной против внутренней, гоминдановской контрреволюции, находящейся на службе у американских империалистов. В 1945 г., после разгрома Советской Армией гитлеровского фашизма и японского империализма, национально-освободительная война великого китайского народа вошла в решающую фазу своего развития и в 1949 г. завершилась величественной победой, провозглашением народной республики. Народная революция в Китае одержала победу благодаря руководству рабочего класса и коммунистической партии.
Победа народно-освободительной армии китайского народа нанесла новый потрясающий удар по империализму, умножила и укрепила мощь антиимпериалистического и демократического лагеря, возглавляемого великим Советским Союзом, открыла новую полосу в борьбе колониальных пародов за свое освобождение.
4. Вооруженная борьба народов Советского Союза в защиту социалистического отечества от нападения империалистов
Ленинско-сталинская теория социалистической революции учит, а весь ход исторического развития подтверждает, что одновременная победа социализма во всех странах невозможна. В этих условиях, указывал Ленин, победивший в одной стране пролетариат неизбежно вступает в столкновение со всем остальным капиталистическим миром, который будет предпринимать попытки разгромить и уничтожить силой оружия ненавистный ему новый, социалистический строй. История целиком и полностью подтвердила правильность выводов ленинско-сталинской теории социалистической революции.
Война победившего рабочего класса за защиту социалистического отечества против империалистической интервенции является войной законной, благородной, глубоко справедливой и прогрессивной для судеб всего человечества, войной за социализм. Поддержать такую войну — священный долг всего международного пролетариата.
Грабительские, захватнические войны принципиально чужды социалистическому государству. Социалистические страны могут вести только справедливые, революционные войны для своей собственной защиты от нападений империалистов или для оказания помощи угнетенным классам и народам других стран, борющимся за освобождение от капиталистического рабства, от империалистического ига.
Гражданская война 1918-1920 гг. – война двух систем: социализма и капитализма
Установление советской власти в России нанесло серьезнейший удар всей системе мирового капитализма и лишило империалистов такого объекта эксплуатации, как Россия. «Мог ли западный империализм,— говорил товарищ Сталин,— помириться с потерей такой мощной опоры на Востоке и такого богатого резервуара сил и средств, как старая, царская, буржуазная Россия, не испытав всех своих сил для того, чтобы повести смертельную борьбу с революцией в России, на предмет отстаивания и сохранения царизма? Конечно, не мог!» (И.В.Сталин, Соч., т. 6, стр. 76). Еще не закончилась первая мировая война, а международная империалистическая буржуазия бросила свои вооруженные силы против первой в мире социалистической республики и объединила их с силами российской контрреволюции для свержения Советской власти и восстановления капитализма. Так началась иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР. Советский народ вынужден был взяться за оружие и в течение трех с лишним лет вести вооруженную борьбу с объединенными силами иностранной интервенции и внутренней контрреволюции во имя защиты и спасения своего, только что обретенного, социалистического отечества.
Гражданская война 1918-1920 гг. была войной между двумя социально-экономическими системами — между только что родившимся социализмом и отжившим, обреченным, но еще сильным капитализмом. Советский народ вел священную, отечественную, справедливую войну за первое в мире социалистическое государство, за освобождение от классового и национального гнета, за социализм.
«Наша война,— говорил Ленин, - является продолжением политики революции, политики свержения эксплуататоров, капиталистов и помещиков». (В.И.Ленин, Соч., т.XXIV, изд. 3, стр. 605). Со стороны международного империализма война против Советского государства была империалистической, контрреволюционной, несправедливой.
Первая попытка международного империализма разбить молодую Советскую республику с позором для него провалилась. Несмотря на превосходство врага в экономической мощи, в вооружении и военных кадрах, молодая Советская республика и ее Красная Армия оказались непобедимой силой, разгромившей полчища интервентов и внутренней контрреволюций. Советский народ, руководимый партией большевиков, Лениным и Сталиным, сумел отбить нашествие иностранных интервентов и с честью отстоять свою социалистическую отчизну. Источником непобедимости Красной Армии явилась правильная политика большевистской партии, обеспечившая сочувствие и поддержку миллионов трудящихся, успешную мобилизацию всех материальных и духовных сил советского народа на отпор врагу.
После гражданской войны империалисты неоднократно пытались штыком прощупать обороноспособность и степень прочности Советского государства, но каждый раз получали вооруженный отпор со стороны Советского Союза. Империалистические государства никогда не прекращали подготовки новой войны против СССР. Объясняя причины нападения империалистов на СССР, товарищ Сталин указывал, что противоречие между социалистической и капиталистической системами «вскрывает до корней все противоречия капитализма и собирает их в один узел, превращая их в вопрос жизни и смерти самих капиталистических порядков. Поэтому каждый раз, когда капиталистические противоречия начинают обостряться, буржуазия обращает свои взоры в сторону СССР: нельзя ли разрешить то или иное противоречие капитализма, или все противоречия, вместе взятые, за счёт СССР, этой Страны Советов, цитадели революции, революционизирующей одним своим существованием рабочий класс и колонии, мешающей наладить новую войну, мешающей переделить мир по-новому, мешающей хозяйничать на своём обширном внутреннем рынке, так необходимом капиталистам...». (И.В.Сталин, Соч., т. 12, стр. 255). Таковы причины стремления империалистов к интервенции против СССР.
Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. и её особенности
В 1941 г. международный империализм предпринял вторую попытку вооруженным путем уничтожить Советское социалистическое государство. Для этой цели международная империалистическая буржуазия специально подготовила ударный кулак в лице немецкого фашизма.
Поработив почти все страны Западной Европы, гитлеровская Германия вероломно и внезапно, без объявления войны, 22 июня 1941 г. напала на Советское государство. Началась Великая Отечественная война советского народа против гитлеровских захватчиков. Вступление Советского Союза в войну против фашистских государств усилило антифашистский, освободительный характер второй мировой войны. Трудящиеся стран Европы увидели в лице Советского Союза силу, призванную решить исход вооруженной борьбы в пользу свободолюбивых народов. Со времени вступления Советского Союза во вторую мировую войну основным содержанием ее стала освободительная борьба социалистического государства против наиболее агрессивного и реакционного империалистического государства — гитлеровской Германии.
Благодаря мудрой сталинской внешней политике Советского государства вторая битва между страной социализма и капитализмом происходила в условиях раскола капиталистического мира на две враждующие группировки, одна из которых оказалась вынужденной воевать на стороне Советского Союза, несмотря на различие социально-экономических систем и вытекавших отсюда различных целей войны.
В своей книге «О Великой Отечественной войне Советского Союза И. В. Сталин с исключительной глубиной вскрыл причины, характер и цели войны. Если со стороны гитлеровской Германии и всего блока фашистских государств война против Советского Союза была несправедливой, разбойничьей, реакционной, подобно всем войнам капитализма против социализма, то со стороны Советского Союза война против фашизма была самой справедливой, освободительной, отечественной войной.
Справедливый характер Отечественной войны Советского Союза определялся тем, что это была воина всего советского народа за свою свободу и независимость, за сохранение первого в мире социалистического государства, за завоевания социализма, против фашистского порабощения. Целью этой великой войны являлось не только освобождение советских территорий и советских народов от немецко-фашистского ига, но и оказание помощи всем народам Европы в их борьбе за освобождение от гнета фашизма. Великая Отечественная война Советского Союза против гитлеровской Германии носила классовый характер: она велась в защиту социалистического общественного и государственного строя с целью уничтожить германский и японский империализм и помочь угнетенным народам Европы и Азии в их борьбе за демократию и социализм. Великая Отечественная война Советского Союза против фашистских захватчиков носила и национальный характер, ибо она велась за честь, свободу и независимость нашей социалистической родины, за самостоятельное и свободное развитие народов, объединенных в единое Советское социалистическое государство — Советский Союз, которым фашизм угрожал не только классовым, но и национальным порабощением. Великая Отечественная война Советского Союза велась в интересах всего прогрессивного человечества, во имя благородных и возвышенных целей, вытекающих из интернациональной природы социалистического государства. Участие всех народов великого Советского Союза в войне против фашистских агрессоров явилось таким могучим фактором, который предрешил победу свободолюбивых народов. Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме фашизма. Он добился сокрушительного разгрома ударных сил международного империализма и тем самым разрушил также злодейский умысел англо-американской реакции, настойчиво пытавшейся предохранить фашизм от полного поражения. «Ныне все признают,— говорил товарищ Сталин,— что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества». (И.В.Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, изд. 5, стр. 162). В Великой Отечественной войне Советского Союза победил наш советский общественный и государственный строй, победили советские вооруженные силы. Советский Союз вышел из войны еще более окрепшим и могучим.
Борьба социалистического государства за мир
Разгром ударных сил международной реакции в Великой Отечественной войне не означает, что империалистическая буржуазия отказалась от попыток военного нападения на нашу родину. Именно поэтому товарищ Сталин говорил: «Необходимо помнить указания великого Ленина о том, что, перейдя к мирному труду, нужно постоянно быть на-чеку, беречь., как зеницу ока, вооружённые силы и обороноспособность нашей страны». (И.В.Сталин, приказ Министра Вооружённых сил Союза ССР 1 мая 1946 года, №7, г. Москва, Госполитиздат, 1946, стр. 8-9). До тех пор, пока существует капитализм, остается и опасность войн. Поэтому советский народ должен вести неустанную борьбу за мир.
Встревоженные новыми успехами социализма в СССР, успешным движением стран народной демократии по пути социализма, победой народной революции в Китае, образованием демократической республики в Германии, ростом коммунистического движения в капиталистических странах, англо-американские империалисты, возглавляющие ныне силы международной реакции, лихорадочно сколачивают военные блоки, развивают бешеную гонку вооружений, чтобы развязать новую мировую войну, направленную против СССР и стран народной демократии. С этой целью американо-английские империалисты возрождают империализм в Западной Германии. Такую же политику проводят США и в Японии. Жажда сверхприбылей, стремление к мировому господству, страх перед растущими силами демократии и социализма, перед надвигающимся экономическим кризисом — таковы причины, лежащие в основе реакционной политики США и Англии. Американские империалисты задумали насильственным путем создать мировую империю, которая превзошла бы по своим масштабам все когда-либо существовавшие мировые империи завоевателей.
Но народы не хотят войны, они активно и бдительно охраняют завоёванный мир. Интересы социализма в СССР и интересы всего трудящегося человечества требуют прочного и длительного демократического мира во всём мире. Силы, стоящие за мир, настолько значительны, что они могут развеять в прах преступные планы агрессоров и защитить мир. Могучим и несокрушимым оплотом мира и безопасности народов является Советский Союз, великая страна социализма. Мир и социализм неотделимы друг от друга. Только социализм избавит народы от войны.
Народы Советского Союза уверены в своей несокрушимой силе. Они не боятся агрессоров. Но они выступают против войны и делают всё возможное, чтобы защитить мир и предотвратить войну. Мирная политика Советского Союза вытекает из самых основ социалистического общественного строя и интересов советского народа. Она исходит из возможности длительного сосуществования социалистической и капиталистической систем и мирных взаимоотношений между ними.
Мирная политика Советского Союза снискала себе горячую поддержку всех народов. Почти во всех странах мира созданы национальные объединения сторонников мира, которые развернули активную борьбу против англо-американских агрессоров и поджигателей войны, за национальную независимость и мирное сотрудничество народов. Силы сторонников мира объединяются теперь в международном масштабе. Впервые в истории создан организованный международный фронт сторонников мира. Во всех странах мира развернулось могучее движение за запрещение атомного оружия. Лагерь мира, демократии и социализма является величайшим фактором всей современной международной жизни.
«Мощное движение сторонников мира свидетельствует, что народы представляют собой силу, способную обуздать агрессоров». (Г.М.Маленков, 32-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, Госполитиздат, 1949, стр. 19)
Не следует забывать, что Советский Союз и страны народной демократии в Европе и Азии насчитывают около 800 млн. человек. К тому же в самих капиталистических странах и их колониях многие и многие миллионы трудящихся, возглавляемые коммунистическими партиями, ведут борьбу за мир, демократию и социализм. Все это свидетельствует о том, что силы демократического лагеря намного превышают силы империализма. «Могут ли быть какие-либо сомнения в том,— говорит т. Маленков,— что если империалисты развяжут третью мировую войну, то эта война явится могилой уже не для отдельных капиталистических государств, а для всего мирового капитализма». (Там же, стр. 21-22).
Ленин и Сталин учат, что нельзя уничтожить войн, не уничтожив порождающие их причины. Войны прекратятся только тогда, когда перестанет существовать капитализм. Только окончательная победа социализма над капитализмом во всех странах мира навсегда избавит человечество от войн. Но это не означает, что, пока не наступила победа социализма во всех странах, нет возможности предотвратить новую мировую войну. В нынешней исторической обстановке, когда на страже мира стоит могучий лагерь противников войны во главе с Советским Союзом, спасение мира от новой войны — не утопия, а реальная возможность. От энергии и инициативы коммунистических партий, от бдительности, организованности и активности миролюбивых народов зависит превращение возможности срыва планов поджигателей войны в действительность. Об этом необходимо помнить всегда и вести неустанную организованную борьбу против поджигателей войны и против источника войн — капитализма.
Для советского народа надежной гарантией от всяких покушений со стороны империалистических поджигателей войны является дальнейшее укрепление могущества нашего социалистического государства, дальнейшее повышение боеспособности и боеготовности вооруженных сил.
5. Способ производства и способ ведения войны
Изменение способов ведения войны в зависимости от развития производства
В противоположность идеалистическим и метафизическим взглядам буржуазной военной «науки», считающей, что в основе ведения войны лежат вечные и неизменные принципы, якобы годные для всех времен и всех армий, марксизм-ленинизм учит, что в основе развития военного искусства лежит прежде всего степень развития производства, характер и экономическая мощь общественного строя.
«Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот,— указывал Энгельс.— Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от средств сообщения». (Ф.Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1950, стр. 156).
Вся история развития военного искусства, вся история войн с древнейших времен и до наших дней убедительно подтверждает правильность этого марксистского положения. Изобретение и освоение производства пороха и введение огнестрельного оружия (кремневые ружья, пушки) вызвали изменение в организации и тактике войск феодального общества XIV— XVI вв. Технический прогресс привел к тому, что перед армиями, вооруженными артиллерией и ручным огнестрельным оружием, не могли устоять закованная в броню дворянская кавалерия и рыцарские замки.
Капиталистический способ производства, вызвавший мощное развитие производительных сил, привел к коренным изменениям в организации армии, к новым способам ведения войны. Эпоха буржуазных революций потребовала создания крупных по своей численности и подвижных армий, и эти армии были созданы. Появление в XIX в. таких новых видов оружия, как винтовки и усовершенствованные пушки, увеличившие в несколько раз огневую мощь пехоты, заставили армии всех крупнейших стран отказаться от старой тактики и перейти к новому способу ведения войн — рассыпному строю, стрелковой цепи. Дальнейшее развитие производства, сопровождавшееся техническим прогрессом, вызвало появление и новых видов оружия: станковых и ручных пулеметов, бронемашин, самоходной артиллерии, танков, самолетов. Вся эта боевая техника вставила военную мысль искать новые стратегические и тактические средства достижения победы в войне. Способы ведения военных действий были существенно изменены. Товарищ Сталин говорит:
«Способы ведения войны, формы войны не всегда одинаковы. Они меняются в зависимости от условий развития, прежде всего в зависимости от развития производства. При Чингис-хане война велась иначе, чем при Наполеоне III, в XX веке ведется иначе, чем в XIX веке». (И.В.Сталин, Соч., т. 5, стр. 168).
Великая Октябрьская социалистическая революция и порожденный ею советский общественный строй вызвали коренное изменение в способе ведения войны. Победивший пролетариат создал совершенно новый способ ведения войны и новую военную организацию в соответствии с характером созданного им государства.
Советская военная наука, вооруженная знанием законов общественного развития, руководствующаяся теорией диалектического и исторического материализма, исходит из учета опыта всех прошлых войн и того нового, что дает развитие современного общества, она развивает дальше военную теорию и военное искусство. Вторая мировая война показала полное превосходство советского сталинского военного искусства над военным искусством империализма. Недаром народы мира, обязанные Советскому Союзу своим спасением от фашистского ига, любовно назвали советское военное искусство именем величайшего военного теоретика и полководца армий социализма Генералиссимуса И. В. Сталина — сталинской наукой побеждать.
Военная техника и человек в современной войне
Как уже сказано, способ производства в конечном счете определяет изменение и развитие способов ведения войны. Но развитие производства определяет изменение и развитие военного искусства не непосредственно, а через военную технику и людской состав, из которого образуются армии. Военная техника и человек — основные факторы, непосредственно выступающие на войне. Эти факторы прежде всего и учитывает военное искусство при разработке способов ведения военных действий. Подобно тому как орудия производства и люди вместе, в единстве составляют производительные силы, так на войне техника и человек также выступают в единстве, в определенном конкретном сочетании.
Товарищ Сталин учит, что теперь машинный период войны, что «современная война есть война моторов. Войну выиграет тот, у кого будет подавляющее преобладание в производстве моторов». (И.В.Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 33). Идея товарища Сталина о машинном периоде войны была положена в основу развития военной мощи Советского государства, развития советского военного искусства. Эта идея воплотилась в создании мощной военно-технической базы СССР. Сталинская политика социалистической индустриализации обеспечила развитие всех видов вооружения, необходимых для достижения победы в современной войне: авиации, танков, самоходной артиллерии.
Способы и формы ведения войны только тогда оказывались жизненными, когда они строились на учете состояния техники и качества солдат. Подлинная военная наука должна исходить из того, что победа или поражение в современной войне обусловливается не отдельными сражениями и не только действиями армии. Победа в современной войне обусловливается превосходством всех материальных и духовных сил страны, ее общественного и государственного строя. В современной войне моторов и резервов ни одна страна с отсталым общественно-политическим строем и низким уровнем развития производства не, может рассчитывать на победу.
Применение в огромных масштабах танков, авиации, самоходной артиллерии, мотопехоты, инженерно-технических средств и новых средств связи придало войскам небывалую подвижность и маневренность. Это повысило роль полководцев в ведении современной войны и заставило военно-теоретическую мысль искать новые способы организации войск и их применения для достижения победы.
В период между первой и второй мировыми войнами военные идеологи империализма, движимые классовыми интересами и страхом перед ростом политической сознательности солдатских масс, стали фетишизировать военную технику. Появились псевдонаучные теории, согласно которым судьбу современной войны будто бы решают танки и авиация. Артиллерии и пехоте эти авантюристические доктрины отводили ничтожную роль. Так, например, Фуллер и Лиддель-Гарт в Англии, де Голль во Франции, Гудериан и Эймансбергер в Германии считали, что судьбу войны призваны решить танки. Военные теоретики Дуэ в Италии, Митчелль в США утверждали, что решающей силой войны явятся самостоятельные воздушные армии. Главари гитлеровской Германии делали ставку на танки и авиацию. Односторонность структуры военной машины Германии предопределялась авантюризмом гитлеровской стратегии, которая рассчитывала на легкую молниеносную победу прежде всего при помощи танков и авиации. Просчёты немецких стратегов сказались в недооценке экономических и моральных сил Советского Союза, в недооценке таких родов войск, как артиллерия и пехота. Несмотря на то, что на стороне гитлеровской армии были преимущества внезапности и численный перевес в танках и авиации, Советская Армия уже в первый период войны не только устояла перед натиском огромной военной машины Гитлера, но и одержала историческую победу под Москвой.
Экономическая мощь страны социализма, морально-политическое единство советского народа, справедливый характер Великой Отечественной войны, умелое использование современного вооружения, особенно артиллерии, обусловили превосходство Советской Армии над фашистской военной машиной. Вторая мировая война полностью опрокинула утверждения военных идеологов империализма о том, что современную войну можно выиграть только танками или авиацией или тем и другим, вместе взятым. Советская сталинская военная наука доказала, что ни танки, ни авиация, ни атомная бомба, ни какой-нибудь другой вид оружия или вся военная техника вместе взятая, не в состоянии без массовых армий обеспечить победу в современной войне.
Вторая мировая война, в которой участвовали многомиллионные армии с многочисленной и самой разнообразной техникой, полностью подтвердила то положение советской военной науки, что в наше время нельзя ориентироваться на один какой-нибудь род войск. Сложность задач, которые приходится решать на войне, требует развития всех родов войск.
Гениальная сталинская стратегия дала образец сочетания материального и морального факторов в войне, решила сложнейшие проблемы успешного ведения современной войны. Товарищ Сталин дал всестороннюю и правильную оценку роли каждого рода войск в современной войне, предсказав в частности исключительную роль артиллерии. Он решил задачу правильного взаимодействия всех родов войск. Под его руководством в советских вооруженных силах было достигнуто гармоническое единство, правильное взаимодействие всех родов войск. Об этом свидетельствуют классические образцы военных операций Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Положение товарища Сталина: «Техника без людей, овладевших техникой,— мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса» (И.В.Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 490) — целиком относится и к области военного дела. Советская военная наука исходит из того, что решающая роль на войне принадлежит людям, массовым армиям, в совершенстве владеющим современной боевой техникой.
Изменение общественных отношений, изменение социального состава армии оказывает существенное влияние на развитие военного искусства, на развитие способов военных действий и войны в целом. Это и понятно. Тот или иной состав армии, количество и морально-политическое качество войск могут расширять и суживать возможности военного искусства. При разработке плана войны, отдельной операции или даже боя ни один полководец или военачальник не может не учитывать морально-политического уровня своих войск. А качества войск, их морально-политический уровень определяются общественным и государственным строем данной страны, классовой структурой общества, наличием или отсутствием антагонистических отношений в обществе, политикой государства, характером и целями войны. Только социалистический строй смог дать армии идейных, всесторонне развитых людей, способных владеть самой разнообразной военной техникой, знающих, что их грозное оружие служит великим прогрессивным целям.
Социалистическая революция создала армию, обладающую такими высокими моральными качествами, каких не имела и не имеет ни одна армия в мире, армию величайшего мужества, стойкости, сознательной дисциплины и беспримерного массового героизма. Естественно, что это обстоятельство не могло не вызвать изменения способов ведения войны, стратегии и тактики.
Таким образом, стратегия и тактика, способы ведения войны, и вместе с ними победа или поражение определяются не только экономическими условиями, не только развитием техники и количеством населения в стране, но и моральным духом этого населения, моральным духом армии. Современная война предъявляет к качествам «солдатского материала» исключительно высокие требования. Еще в 1905 г. Ленин говорил, что современная война также «необходимо требует высококачественного человеческого материала, как и современная техника. Без инициативного, сознательного солдата и матроса невозможен успех в современной войне» (В.И.Ленин, Соч., т. 8, изд. 4, стр. 35).
Советский солдат любого рода войск не только технически подготовлен, но является и политически сознательным, морально стойким, инициативным, смелым, физически натренированным и выносливым бойцом. В результате победы социализма и ликвидации эксплуататорских классов неизмеримо вырос идейно-политический и моральный уровень советских людей. Советский Союз является страной сплошной грамотности и социалистической культуры. Морально-политическое единство советского общества, советский патриотизм и дружба народов СССР являются неиссякаемым источником стойкости и беспримерного мужества советских людей. Такими качествами не обладают и не могут обладать армии империалистических государств.
Современная война — качественно новое явление, имеющее свои особые закономерности. В отличие от войн мануфактурного периода, которые велись между сравнительно небольшими по своей численности армиями, когда военные действия разыгрывались на узком пространстве, а победа в войне достигалась главным образом генеральным сражением, современные войны носят затяжной, длительный характер, ведутся многомиллионными армиями, оснащенными огромным количеством машинной боевой техники, развертываются на громадных территориях с десятками и сотнями миллионов жителей, в них участвуют целые народы. Победа в современных войнах достигается всей совокупностью материальных и духовных сил воюющих народов и государств.
Современная война требует колоссальных армий. Это вызвало необходимость обучения военному делу широких масс, а на время войны и вооружения их. Но именно это больше всего беспокоит империалистическую буржуазию. Она боится роста политического сознания армии, испытывает страх перед своим народом, перед массовыми армиями, понимая, что opyжие, которое получил или получит народ, может быть повернуто против нее. На выручку империалистической буржуазии пришли «реформаторы» буржуазного военного искусства (Фуллер, Зольдан, Сект и др.), которые предложили создать немногочисленные отборные, хорошо выдрессированные армии, снабжённые самыми лучшими техническими средствами ведения войны. Такие армии должны были состоять из отпетых головорезов, преданных буржуазии. Реакционные военные идеологи империализма хотели почти полностью выключить из войны человека, отвести ему вспомогательную роль. Но все эти прожекты и «новаторства» оказались несостоятельными. Империалистическая буржуазия не может отказаться от массовых армий, как бы это ей ни хотелось. Характер современных войн вынуждает империалистов иметь дело с массовыми армиями. Как бы ни старались военные идеологи англо-американского империализма возродить похороненную второй мировой войной сумасбродную теорию «малых профессиональных армий», как бы они ни пропагандировали авантюристические идеи так называемой атомной войны, империалистическим государствам не обойтись без массовых, многомиллионных армий. И не случайно, что правительства США и Англии содержат ныне огромные армии и продолжают их увеличивать.
Политический смысл бредовой доктрины о том, что победа в войне может быть одержана авиацией, снабженной атомной бомбой, состоит в том, чтобы обмануть народные массы капиталистических стран, внушить им, что современная война — якобы легкая военная прогулка. Воинствующие американские атомщики хотят запугать свободолюбивые народы.
Но народы Советского Союза и стран народной демократии нельзя запугать атомной войной, тем более что СССР уже располагает атомным оружием. Исторический опыт второй мировой войны свидетельствует о том, что в современную войну вовлекаются широкие народные массы. Исход войны решают эти массы, а не атомная бомба или какой-нибудь другой вид современного оружия.
Советское военное искусство и его превосходство над буржуазным военным искусством
Ведение войны есть искусство и является сложной областью военной деятельности. Предметом военного искусства является изучение способов ведения военных действий и войны в целом. Военное искусство включает в себя стратегию, оперативное искусство и тактику. Научное определение понятия стратегии, оперативного искусства, тактики и их взаимоотношения и взаимозависимости дал товарищ Сталин.
Стратегия — важнейшая составная часть военного искусства. Военная стратегия имеет целью выиграть войну в целом. Главная задача стратегии состоит в том, чтобы определить направление основного удара, а это значит «предрешить характер операций на весь период войны, предрешить, стало быть, на 9/10 судьбу всей войны». (И.В.Сталин, Соч., т. 5, стр. 164). Оперативное искусство и тактика занимают подчиненное положение пo отношению к стратегии и имеют дело не с войной в целом, а с ее отдельными операциями, сражениями, боями.
Оперативное искусство есть составная часть стратегии и призвано обеспечивать выполнение стратегических планов и задач путем организации и проведения военных операций на определенных направлениях.
Оперативное искусство есть теория и практика вождения крупных войсковых масс, состоящих из различных родов войск,— современных оперативных объединений — на театре военных действий. Современная операция представляет собой совокупность боевых действий, маневра и сражений оперативных соединений на определенном операционном направлении, действий, объединенных единым замыслом для достижения общей оперативной или стратегической задачи. Оперативное искусство является новым видом военного искусства. Оно возникло в результате возросшего размаха войны и характерно для машинного периода войны. В условиях современных войн оперативное искусство является средством превращения тактических успехов в общий стратегический успех.
Тактика есть низшее звено военного искусства и имеет дело с отдельными боями и сражениями, с формами и способами борьбы. Оперативное искусство использует тактику как средство решения задач операции боем.
Оперативное искусство и тактика должны исходить и исходят из задач и возможностей стратегии. В свою очередь и стратегия обязана считаться с возможностями оперативного искусства и тактики и ставить им посильные задачи. Стратегия, оперативное искусство и тактика дополняют друг друга, взаимодействуют между собой, но руководящая роль всегда остается за стратегией. И. В. Сталин пишет: «Искусство ведения войны в современных условиях состоит в том, чтобы, овладев всеми формами войны и всеми достижениями науки в этой области, разумно их использовать, умело сочетать их или своевременно применять ту или иную из этих форм в зависимости от обстановки» (там же, стр. 168-169).
Советское военное искусство выдержало испытания второй мировой войны и показало свое полное превосходство над военным искусством империализма. Советская Армия показала такие классические образцы военного искусства, как Сталинградская, Корсунь-Шевченковская, Кишинёвско-Ясская, Белорусская и Берлинская операции окружения и полного разгрома немецко-фашистских войск. Эти образцы советского военного искусства навсегда вошли в анналы истории и затмили собой все «канны» и «седаны».
«...Стратегия Советского Главнокомандования в период Великой Отечественной войны,— говорил маршал Советского Союза Н. А. Булганин,— отличалась операциями невиданного размаха, исключительной целеустремлённостью, тщательным и всесторонним обеспечением предпринимаемых операций, умением находить новые формы и способы борьбы с тем, чтобы они наиболее полно отвечали задуманным целям, сложившейся обстановке и были бы неожиданными для противника». (Н.А.Булганин, Тридцать лет Советских Вооружённых Сил, Госполитиздат, 1948, стр. 13).
Напротив, немецкая военная стратегия потерпела полное банкротство в двух мировых войнах. Военная стратегия германского империализма строилась авантюристически, в отрыве от объективной обстановки, без реального учета своих сил и сил противника. Произвол и субъективизм пронизывают немецкую военную идеологию, которая рассматривала стратегию как «систему подпорок» в руках «всемогущей» воли полководца. Авантюризм немецкой стратегии вытекал из авантюристической политики германского разбойничьего империализма, который стремился к сумасбродной цели — мировому господству и ставил перед военной стратегией непосильные для нее задачи. Что касается немецко-фашистской тактики, то она сводилась к выполнению заученных уставных приемов и правил без творческого их применения к конкретным условиям ведения боя. Военное искусство фашистской Германии, пренебрегавшее законами наступления, потерпело полный крах.
Сталинская стратегия ведения войны и гибкая тактика советских войск показали свое полное превосходство над фашистской стратегией и тактикой. Советское военное искусство научно разрешило основные вопросы современной наступательной и оборонительной операций, заново разработало и применило такой замечательный вид боевых действий, как контрнаступление, когда советские войска в активной обороне изматывали и обескровливали наступающего врага, а затем наносили ему контрудары, перерастающие в общее и решительное контрнаступление. Советское военное искусство руководствуется сталинскими законами наступления, которые требуют не огульного продвижения вперед, а наступления, сопровождающегося закреплением завоеванных позиций, перегруппировкой сил сообразно с изменившейся обстановкой, подтягиванием тылов и подводом резервов. Знание этих законов и умелое их осуществление было одним из важнейших преимуществ советского военного искусства в войне против фашистской Германии.
Вторая мировая война подвергла испытанию и военное искусство англо-американских войск. Война показала, что военное искусство англо-американских войск не вышло за рамки военного искусства периода первой мировой войны и продолжает находиться в тупике. Для англо-американской военной стратегии характерно крохоборство, узость кругозора, медлительность действий, ограниченность размаха замыслов. Классовые реакционные политические соображения правящей империалистической клики определили характер и направление англо-американской военной стратегии. В проводимых операциях и тактических действиях англо-американских войск не было ни творческого порыва, ни решительного наступательного духа, ни инициативы. Однообразие форм и способов борьбы свидетельствует о немощи и ограниченности военного искусства англо-американских войск.
Советское военное искусство продемонстрировало всю силу и величие сталинской стратегии как стратегии высшего типа. История войн еще не знала примеров, когда полководцу приходилось бы руководить такими огромными вооруженными силами; ни одному полководцу не приходилось объединять такие колоссальные массы войск и направлять их единым стратегическим замыслом к единой цели. Стратегическое руководство товарища Сталина Великой Отечественной войной Советского Союза вошло в историю как образец высшего искусства ведения войны. Сталинская стратегия — это стратегия справедливой всенародной войны, стратегия большевистской партии и социалистического государства.
Советская военная наука и её победа в Великой Отечественной войне
Буржуазная военно-теоретическая мысль не нашла правильного решения вопроса о соотношении между военной наукой и военным искусством. Более того, ни одному из буржуазных военных теоретиков не удалось определить предмета и содержания военной науки и военного искусства, а многие из них вообще отрицают самую возможность военной науки.
Опираясь на преимущества советского общественного строя и мастерски применяя материалистическую диалектику к вопросам войны, товарищ Сталин разработал стройную систему подлинно научного знания всего комплекса вопросов современной войны. Впервые в истории развития военной мысли он определил содержание военной науки и военного искусства, показал их соотношение и взаимозависимость. Товарищ Сталин учит, что военное искусство является составной частью военной науки и включает в себя стратегию, оперативное искусство, тактику, организацию и подготовку войск, т. е. занимается изучением способов ведения военных действий и войны в целом. В отличие от буржуазных военных теоретиков, которые отождествляют понятие военной науки с понятием военного искусства, советская военная наука, творцом которой является товарищ Сталин, охватывает все социальные факторы, связанные с ведением войны и влияющие на ее победоносный исход — политические, экономические, моральные и военные.
Буржуазные военные теоретики, в частности немецкие «завоеватели мира», преувеличивают значение военных планов и составляют их в отрыве от экономических и моральных возможностей. Это свидетельствует о неспособности военных руководителей империализма понять закономерности современной войны. Первая и вторая мировые войны убедительно подтверждают это.
Советская военная наука, основанная на марксистско-ленинской теории и точном знании закономерностей хода и исхода войны, единственно правильно решила проблему ведения современной войны.
Роль и значение экономического, морального и военного потенциалов страны в ведении современной войны определены в положении товарища Сталина о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны. Разоблачая авантюристический характер немецко-фашистской стратегии, товарищ Сталин сформулировал положение о том, что судьба войны решается не привходящими, временными моментами, как, например, внезапность, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии. Каждый из постоянно действующих факторов войны не является чисто военным, а органически связан с экономическим и морально-политическим состоянием страны. Положение товарища Сталина о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны, раскрывает связь хода и исхода войны с характером экономического и политического строя страны, с господствующей в ней идеологией, со степенью подготовленности и зрелости кадров.
Советская военная наука рассматривает постоянно действующие, факторы в единстве, в их тесной связи и взаимодействий друг с другом. Среди всех постоянно действующих факторов войны особое значение имеет прочность тыла. Товарищ Сталин учит, что ни одна армия в мире не может победить без устойчивого тыла, без внутреннего единства (классового или национального) страны. Понятие тыла в широком смысле включает в себя всю страну с ее общественно-экономическим и политическим строем. Именно в прочности тыла и выражается сила экономического и морального потенциала страны.
Советское государство, опираясь на плановую социалистическую экономику, сумело в короткий срок создать слаженное военное хозяйство, которое бесперебойно питало фронт, всем необходимым. Советский социалистический тыл блестяще справился с решением задач Отечественной войны.
Морально-политический фактор играет важнейшую роль в использовании экономических, материальных возможностей страны. Если война преследует грабительские цели и народные массы убеждены в ее реакционности, то она не может благоприятствовать укреплению морального духа народа и армии. Это отрицательно сказывается на работе тыла, на экономическом потенциале страны. И, наоборот, если война справедливая и её благородные цели понимает и поддерживает народ, то такая война поднимает моральный дух народа и армии, воодушевляет тружеников тыла на героические подвиги, увеличивает экономический потенциал страны.
В период войны моральные силы армии и народа находятся в зависимости от характера и целей войны. Отмечая причины победы советского народа в гражданской войне, товарищ Сталин определил, что «судьбы войны решаются, в последнем счёте, не техникой... а правильной политикой, сочувствием и поддержкой миллионных масс населения». (И.В.Сталин, Соч., т. 10, стр. 106). Великая Отечественная война Советского Союза подтвердила, что при наличии материальных предпосылок морально-политический фактор имеет решающее значение для исхода войны. Советский Союз одержал не только военную и экономическую победу над немецко-фашистскими захватчиками, но нанес им и морально-политическое поражение.
Моральный фактор в войне включает в себя моральный дух не только армии, но и всего народа. К моральному фактору в широком смысле слова относятся прежде всего политическое сознание и нравственные устои народа. Организующим началом морально-политического сознания советского народа является марксистско-ленинское мировоззрение, советская идеология. Высокая стойкость советского народа и его армии в Великой Отечественной войне обусловливалась морально-политическим единством советского общества, нерушимой дружбой народов СССР, животворным советским патриотизмом, возвышенными целями войны, научным марксистско-ленинским мировоззрением, непререкаемым авторитетом большевистской партии и ее гениального вождя товарища Сталина.
Всестороннее укрепление и развитие всех постоянно действующих факторов и прежде всего таких факторов, как прочность тыла и моральный дух армии, возможны только в условиях социалистического строя.
Было бы неправильно полагать, что постоянно действующие факторы войны являются раз и навсегда данной, постоянной величиной. Товарищ Сталин учит, что перевес сил в войне достигается не стихийно, а большой организаторской работой коммунистической партии и социалистического государства, самоотверженным и героическим трудом народа. Возможности победы не есть еще действительность. Определив возможности победы Советского Союза, товарищ Сталин указал пути превращения этих возможностей в действительность и организовал всемирно-историческую победу советского народа над фашизмом.
Сталинская военная наука — это совершенно новая наука. По своим принципам и содержанию она означает революционный переворот в истории военной мысли. Она покончила с субъективизмом и произволом, с идеализмом и метафизикой в военном деле, в решении проблем войны. Советская армия вооружена подлинно научной теорией ведения войны. Идейной основой советской военной науки является марксизм-ленинизм. Советская военная наука позволила успешно решить проблемы ведения современной войны, подняла военное искусство на новую, более высокую ступень развития.
Советская военная наука всесторонне разработана товарищем Сталиным. Полководческое искусство товарища Сталина является богатейшим приобретением советской военной науки. В гигантских сражениях Советской Армии, которыми руководил товарищ Сталин, воплощены выдающиеся образцы военного искусства. Не приходится сомневаться в том, что советская военная наука и впредь будет служить победоносным руководством во всей военной деятельности советского народа и его вооруженных сил.
Глава тринадцатая. Роль народных масс и личности в истории
Чтобы понять общественно-исторический процесс во всей его конкретности, чтобы объяснить то или иное крупное историческое событие, нужно знать не только общие, главные определяющие причины общественного развития, но и учитывать своеобразие развития данной страны, а также роль исторических деятелей, участвовавших в этих событиях, роль лиц, стоявших во главе правительств, армий, борющихся классов, революционных движений и т. д.
Все великие события всемирной истории: революции, классовые битвы, народные движения, войны, связаны с деятельностью тех или иных выдающихся людей. Поэтому необходимо выяснить, в какой мере возникновение, развитие и исход этих событий зависят от людей, стоящих во главе движения, каковы вообще взаимоотношения между народами, классами, партиями и выдающимися общественными, политическими деятелями, вождями, идеологами. Этот вопрос представляет значительный не только теоретический, но и практический, политический интерес. Вторая мировая война с новой силой показала и решающую роль народных масс, творящих историю, и великую роль передовых, прогрессивных деятелей, возглавляющих массы в их борьбе за свободу и независимость.
1. Субъективно-идеалистическое понимание роли личности в истории и его несостоятельность
Возникновение субъективно-идеалистического взгляда на роль личности в истории
Как по вопросу об отношении общественного бытия и общественного сознания, так и по вопросу о роли личности и народных масс в истории противостоят друг другу два диаметрально противоположных взгляда: научный, материалистический и антинаучный, идеалистический. Широко распространенный в буржуазной социологии и историографии является воззрение, согласно которому всемирная История представляет лить результат деятельности великих людей — героев, полководцев, завоевателей. Главная активная движущая сила истории, утверждают сторонника такого воззрения, — это великие люди: народ же, — это косная, инертная сила. Возникновение государств, могущественных империй, их расцвет, упадок и гибель, общественные движения, революции — все великие или значительные события мировой истории рассматриваются с точки зрения этой «теории» лишь как результат деяний выдающихся людей.
Такой взгляд на историю имеет большую давность. Вся античная и феодально-дворянская историография, за некоторыми исключениями, сводила историю народов к истории цезарей, императоров, королей, полководцев, выдающихся людей, героев, возникновение таких идеологических явлений, как мировые религии — христианство, магометанство, буддизм,— связывалось историками теологического направления исключительно с деятельностью отдельных людей, реальных или мифических.
В новое время, когда стала создаваться буржуазная философия истории, буржуазная социология, подавляющее большинство ее представителей также встало на идеалистическую точку зрения, считая, что историю творят прежде всего великие люди, герои.
Субъективно-идеалистические представления о роли личности в истории возникли не случайно: они имели свои гносеологические и классовые корни. Когда изучающий всемирную историю пытается воспроизвести картину прошлого, то на первый взгляд перед ним предстает галерея деятелей, полководцев, правителей государств.
Миллионы простых людей — создателей материальных благ, участников массовых народных движений, революций, освободительных войн — ставились идеалистической историографией вне истории. В таком принижении и игнорировании роли народных масс прежней, домарксовской историографией, и современной буржуазной социологией отражалось и отражается приниженное положение трудящихся в антагонистическом классовом обществе, где массы испытывают гнет эксплуататорских классов, насильственно устраняются от политической жизни, задавлены бесправием, нуждой, заботой о, хлебе насущном, а политику вершат представители правящих классов, стоящих над народом. Субъективно-идеалистические теории оправдывают и увековечивают это приниженное положение трудящихся, доказывая, что массы якобы не способны творить историю, что к этому призваны лишь «избранные».
В зависимости от исторических условий субъективно-идеалистические взгляды на роль личности имели различный социальный смысл и значение. Так, например, у французских просветителей XVIII в. эти взгляды отражали буржуазную ограниченность их мировоззрения, которое, однако, в целом играло в то время революционную роль. В противовес средневековому феодальному теологическому объяснению истории французские просветители стремились дать рациональное объяснение событий. Совершенно иное социальное назначение и смысл имеют позднейшие буржуазные взгляды на роль масс и личности в истории: в них выражается идеология реакционной буржуазии, ее ненависть к народу, к трудящимся, ее животная боязнь революционных выступлений масс.
Позднейшие разновидности субъективно-идеалистического взгляда на роль личности в истории
В XIX в. субъективно-идеалистические взгляды на роль личности в истории нашли свое выражение в различных течениях. В Германии эти реакционные субъективно-идеалистические взгляды развивали сначала младогегельянцы (Бруно Бауэр, Макс Штирнер), позднее — неокантианцы (Макс Вебер, Виндельбанд и др.), а затем в особо отвратительной реакционной форме—Ницше.
В Англии в XIX в. субъективно-идеалистический взгляд нашел своего проповедника в лице историка и писателя Томаса Карлейля, находившегося под сильным влиянием немецкого идеализма. Карлейль был представителем так называемого «феодального социализма», воспевал прошлое и в дальнейшем превратился в открытого реакционера. В своей книге «Герои и героическое в истории» он писал: «...всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности история великих людей, потрудившихся здесь, на земле... Все, содеянное в этом мире, представляет в сущности внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в этот мир. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории». Таким образом, всемирная история сводилась Карлейлем к биографиям великих людей.
В России в 80—90-х годах прошлого века яростными защитниками идеалистического взгляда на роль личности в истории являлись народники (Лавров, Михайловский и др.) с их реакционной теорией «героев» и «толпы». С их точки зрения народная масса — это «толпа», нечто вроде бесконечного количества нулей, которые, как остроумно заметил Плеханов, могут превратиться в известную величину лишь при условии, если во главе них становится «критически мыслящая единица» — герой. Герой творит новые идеи, идеалы по вдохновению, по произволу и сообщает их массе.
Взгляды народников были реакционны, антинаучны и приводили их к вреднейшим практическим выводам. Народническая тактика индивидуального террора исходила из теории активных «героев» и пассивной «толпы», ждущей от «героев» подвига. Эта тактика была вредна для революции, она мешала развитию массовой революционной борьбы рабочих и крестьян.
История сурово и беспощадно обошлась с народниками. Их попытки «внести» в общество созданный ими отвлеченный идеал общественного устройства, создать по произволу «новые» общественные формы вопреки исторически сложившимся условиям развития России во второй половине XIX в. потерпели полный крах. «Герои» народничества превратились в смешных Дон-Кихотов или переродились в заурядных буржуазных либералов. Такая же участь постигла и выродившихся последователей реакционных народников — эсеров, превратившихся после Октябрьской революции в контрреволюционную банду террористов.
Современные реакционные «империалистические» теории о роли личности в истории
В эпоху империализма реакционные субъективно-идеалистические «теории» о роли личности в истории используются буржуазией для обоснования империалистического разбоя и фашисткой террористической диктатуры. Ближайшим идеологическим предшественником фашизма был немецкий философ Ницше. В его произведениях нашел наиболее гнусное и отвратительное выражение презрительно-барский, рабовладельческо-капиталистический подход к народной массе. Ницше говорил, что «человечество несомненно скорее средство, чем цель... Человечество — просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося, поле обломков». Ницше с презрением относился к массе трудящихся, к «слишком многим», считая их рабское положение в условиях капитализма вполне естественным, нормальным, оправданным. Безумная фантазия Ницше рисовала ему идеал «сверхчеловека», человека-зверя, стоящего «по ту сторону добра и зла», попирающего мораль большинства и шествующего к своей эгоистической цели среди пожарищ и потоков крови. Главный принцип «сверхчеловека» — это воля к власти; ради этого все оправдано. Эту изуверскую зоологическую «философию» Ницше Гитлер и гитлеровцы возвели в ранг государственной мудрости, сделав ее основой всей своей внутренней и внешней политики.
Ненависть к народам вот характерная черта идеологии буржуазии эпохи империализма. Эта идеология свойственна не только немецкому фашизму, но и империализму США, Великобритании, Франции, Голландии и т. д. Она получает свое практическое выражение в империалистических войнах, колониальном гнете, подавлении народа собственной страны. Она отражается и в фашистских взглядах на роль народных масс, проповедуемых ныне многими буржуазными социологами в США. Так, фашистские взгляды на роль личности и народных масс в истории развивает последователь идеалиста Д. Дьюи — С.Гук.
Другая разновидность идеалистического взгляда на историю, родственная фашизму, представлена в США школой американских историков Робинсона и др. Робинсон формально уступает против наивного взгляда на историю, как на результат деятельности королей, полководцев, завоевателей. Он отмечает огромное значение экономики в развитии общества. Но ссылка на роль экономического фактора в истории служит Робинсону и его последователям лишь для того, чтобы на место королей, героев, завоевателей выдвинуть в качестве главных творцов истории капиталистических некоронованных властителей вроде Рокфеллера, Моргана, Форда и др. Эта концепция, представляющая эклектическую смесь «экономического материализма» и субъективизма, выросла на почве всевластия финансового капитала. Считать магнатов капитала «движущей силой» истории на основании того, что они распоряжаются в условиях буржуазного общества огромными массами накопленного и живого труда, может только реакционер. В действительности современный капитализм — это паразитический, загнивающий капитализм, а владельцы капитала — промышленных предприятий, концернов, банков — это паразиты, живущие на теле общества и высасывающие народную кровь. Сколько бы ни прославляли Робинсон и ему подобные апологеты капитализма «всесилие» властителей финансового капитала, задающих тон в буржуазном обществе, управляющих судьбами своих стран, решающих вопросы внутренней и внешней политики, эти властители сами находятся во власти стихийных общественных сил.
Несостоятельность идеалистических «теорий» о роли народных масс в истории
Идеалистический взгляд на роль личности и народных масс в истории не имеет ничего общего с наукой. История учит, что личность, даже наиболее выдающаяся, не может изменить основного направления исторического развития.
Брут, Кассий и их сообщники, убивая Цезаря, хотели спасти республику рабовладельческого Рима, сохранить власть Сената, представлявшего рабовладельческую аристократическую знать. Но, убив Цезаря, они не могли спасти клонившийся к упадку республиканский строй. На историческую арену выдвинулись другие общественные силы. Вместо Цезаря появился Август.
Римские императоры обладали огромной единоличной властью. Но, несмотря на эту власть, они бессильны были предотвратить падение рабовладельческого Рима, падение, обусловленное глубокими противоречиями всего рабовладельческого строя.
Никакой исторический деятель не может повернуть историю вспять. Об этом наглядно свидетельствует не только древняя, но и новейшая история. Недаром потерпели позорный крах все попытки вожаков империалистической реакции (Черчиллей, Гуверов, Пуанкаре) свергнуть советскую власть и уничтожить большевизм. Потерпели крах разбойничьи империалистические замыслы Гитлеров, Муссолини, Тодзио и их вдохновителей из США и Великобритании.
Невиданное поражение фашистских агрессоров и их вдохновителей — наглядный урок тем, кто ныне пытается остановить ход поступательного развития общества, повернуть вспять колесо истории или разжечь пожар мировой войны. Опыт истории учит, что политика, направленная к мировому господству одного государства и к порабощению и истреблению целых народов, и притом великих народов,— это авантюризм. Эти цели, противоречащие всему ходу прогрессивного развития человечества, всем его интересам, обречены на неминуемый провал.
История учит, однако, не только тому, что неизбежно терпят неудачу намерения, планы реакционеров, тянущих историю назад, идущих против народа. Не могут иметь успеха, терпят поражение и выдающиеся прогрессивные личности, если они действуют в отрыве от народных масс, не опираются на действия масс. Об этом свидетельствует судьба движения декабристов в России в 1825 г. Это подтверждает и судьба социалистов-утопистов вроде Томаса Мора, Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье, Оуэна — этих мечтателей-одиночек, не связанных с движением масс и рассматривавших народ, трудящихся лишь как страдающую массу, а не как решающую, движущую силу истории.
Главный теоретический порок идеалистических взглядов на роль личности и народных масс в истории состоит в том, что они для объяснения истории берут за основу то, что лежит на поверхности событий общественной жизни, то, что бросается в глаза, и совершенно игнорируют (частью бессознательно, а большей частью сознательно фальсифицируя историю) то, что скрыто за поверхностью событий и составляет действительное основание истории, общественной жизни, ее глубочайшие и определяющие движущие силы. Это приводит их к тому, что они объявляют доминирующим случайное, единичное в историческом развитии. Сторонники субъективно-идеалистического взгляда на историю считают, что признание исторической закономерности и признание роли личности в истории взаимно исключают друг друга. Социолог-субъективист подобно щедринскому герою говорит: «Или закон или я». Социологи этого направления не могут установить правильного отношения между исторической необходимостью и свободой.
2. Фаталистические теории и отрицание ими роли личности в истории
Некоторые дворянско-аристократические и буржуазные историки, философы и социологи подвергали критике субъективно-идеалистический взгляд на историю с позиций объективного идеализма. Они пытались понять историю общества в ее закономерности, найти внутреннюю связь исторических событий. Но, выступая против взгляда об определяющей роли личности в истории, сторонники объективного идеализма впадали в другую крайность: они приходили к полному отрицанию влияния личности на ход исторических событий, к фатализму. Личность оказывалась в их представлении игрушкой в руках сверхъестественных сил, в руках «судьбы». Фаталистический взгляд на историческое развитие большей частью связан с религиозным мировоззрением, утверждающим, что «человек предполагает, а бог располагает».
Провиденциализм
Провиденциализмом (от латинского слова providentia — провидение) называют идеалистическое религиозно-философское направление, пытающееся объяснить весь ход исторических событий волей сверхъестественной силы, провидения, бога.
К такой фаталистической концепции исторического процесса пришел Гегель в своей «Философии истории». Он стремился открыть закономерность общественного развития, подверг критике субъективистов, но основу исторического процесса Гегель видел в мировом духе, в саморазвитии абсолютной идеи. Он называл великих деятелей «доверенными лицами всемирного духа». Мировой дух пользуется ими как орудиями, используя их страсти, чтобы осуществить исторически необходимую ступень своего развития.
Историческими личностями, полагал Гегель, являются лишь те, в целях которых содержится не случайное, ничтожное, а всеобщее, необходимое. К числу таких деятелей, по Гегелю, принадлежали Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон. Цезарь боролся со своими врагами — республиканцами в своих личных интересах, но его победа означала завоевание государства. Осуществление личной цели, единоличной власти над Римом оказалось вместе с тем «необходимым определением в римской и всемирной истории», т. е. выражением того, что было своевременно, необходимо. Цезарь устранил республику, которая умирала и стала тенью.
Таким образом, Гегель считал, что великие люди осуществляют волю мирового духа. Концепция Гегеля является идеалистической мистификацией истории, разновидностью теологии. Он прямо заявлял: «Бог правит миром; содержание его правления, осуществление его плана есть всемирная история». (Гегель, Соч., т. VIII, Соцэкгиз, 1935, стр. 35). Элементы рационального в рассуждениях Гегеля (идея исторической необходимости, мысль о том, что в личных целях великих людей содержится необходимое, субстанциальное, что великий человек осуществляет своевременное, назревшее) тонут в потоке мистики, теологических реакционных рассуждений о таинственном смысле всемирной истории. Если великий человек — лишь доверенное лицо, орудие мирового духа, бога, то он бессилен что-либо изменить в «предопределенном» мировым духом ходе вещей. Так Гегель пришел к фатализму, обрекающему людей на бездействие, на пассивность.
Ленин в своем конспекте «Философии истории» Гегеля отмечал его мистику, реакционность и указал, что в области философии истории Гегель наиболее антиквирован, наиболее устарел.
Философия Гегеля, в том числе его философия истории, явилась своеобразной дворянско-аристократической реакцией на французскую революцию 1789 г., на установление нового буржуазно-республиканского строя, реакцией на французский материализм XVIII в., на революционные идеи просветителей, звавших к ниспровержению феодального абсолютизма и деспотизма. Феодальную монархию Гегель ставил выше республики, а прусскую ограниченную монархию считал венцом исторического развития. Революционной инициативе народных масс, выступивших во время французской революции, Гегель противопоставил мистическую волю «мирового духа».
Провиденциализм в объяснении исторических событий имеет и более поздних последователей, чьи идеи сложились в иных исторических условиях и имели иной социальный смысл, чем идеи Гегеля.
Фаталистическая мысль о том, что ход истории предопределен свыше, высказывалась, например, в своеобразной форме великим русским писателем Л. Н. Толстым.
В своем гениальном творении «Война и мир» Толстой, рассматривая вопрос о причинах Отечественной войны 1812 г., изложил свои историко-философские взгляды. Толстой привел сначала различные объяснения причин войны, которые давались ее участниками и современниками. Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он это и говорил на острове св. Елены); членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие: купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу.
«Но для нас, — говорит Толстой, — потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными... Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось — были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору». (Л. Н. Толстой, Война и мир, т. 3, ч. I, стр. 5, 6). Отсюда Толстой делал фаталистический вывод: «В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.
Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории определено предвечно». (Л. Н. Толстой, Война и мир, т. 3, ч. I, стр. 9).
Толстой понимал поверхностность взглядов официальных дворянских историков, приписывавших государственным деятелям сверхъестественную мощь, объяснявших великие события ничтожными причинами. Он дал по-своему остроумную критику взглядов этих историков. Так, он справедливо издевался над льстивыми французскими историками типа Тьера, которые писали, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что если бы у него не было насморка, то Россия погибла бы и облик мира изменился бы. Толстой саркастически замечает, что с этой точки зрения камердинер, который забыл подать Наполеону 29 августа — перед Бородинским сражением — непромокаемые сапоги, и был истинным спасителем России. Но, справедливо критикуя поверхностные взгляды субъективистов, сам Толстой, перечислив множество явлений, вызвавших Отечественную войну, признал все эти явления одинаково важными.
В этом неумении отделить существенные явления от несущественных фатализм смыкается с субъективизмом. Беда субъективистов, ничтожных, поверхностных историков, над которыми издевался Толстой, как раз в том и состоит, что они не умеют отделить существенное от несущественного, случайное от необходимого, коренное, определяющее от частного, второстепенного. Для историка-субъективиста все только случайно и все одинаково важно. Для фаталистов же нет ничего случайного, все «предопределено», и, следовательно, все также одинаково важно.
Толстой как великий художник дал гениальное, непревзойденное изображение Отечественной войны 1812 г., ее участников, героев. Он постиг народный характер Отечественной войны и решающую роль русского народа в разгроме армии Наполеона. Его художественное проникновение в смысл событий гениально. Но историко-философские рассуждения Толстого не выдерживают серьезной критики.
Философия истории Л. Толстого, как указывал Ленин, есть идеологическое отражение той эпохи развития России, когда старый, патриархально-крепостнический уклад жизни уже начал рушиться, а новый, шедший ему на смену, капиталистический уклад был чужд, непонятен массе патриархального крестьянства, идеологию которого выражал Л. Толстой. Вместе с тем крестьянство было бессильно перед натиском капитализма и воспринимало его как что-то данное божественной силой. Отсюда и проистекали такие черты философского мировоззрения Л. Толстого, как вера в судьбу, в предопределение, в сверхъестественные, божественные силы.
Фатализм сводит исторических деятелей, в том числе и великих людей, к простым «ярлыкам» событий, считает их марионетками в руках «всевышнего», «судьбы». Он ведет к безнадежности, пессимизму, пассивности, бездействию. Исторический материализм отвергает фатализм, представление об истории, как о предопределенном «свыше» процессе, как ненаучное и вредное.
Буржуазно-объективистские концепции исторического прогресса
Значительный шаг вперед в развитии взглядов на роль личности и народных масс истории представляли воззрения французских историков эпохи реставрации — Гизо, Тьерри, Минье и их последователей—Моно и др. Эти историки в своих исследованиях стали учитывать роль народных масс в истории, роль классовой борьбы (поскольку речь шла о прошлом, в особенности о борьбе против феодализма). Однако, стремясь в противовес субъективистам подчеркнуть значение исторической необходимости, они впадали в другую крайность — игнорировали роль личности в ускорении или замедлении хода исторического процесса.
Так, Моно, критикуя субъективистов, писал, что историки обращают исключительное внимание на великие события и на великих людей, вместо того чтобы изображать медленные движения экономических условий социальных учреждений, составляющие непреходящую часть человеческого развития. По мнению Моно, великие личности «важны именно как знаки и символы различных моментов указанного развития. Большинство же событий, называемых историческими, так относятся к настоящей истории, как относятся к глубокому и постоянному движению приливов и отливов волны, которые возникают на морской поверхности, на минуту блещут ярким огнем света, а потом разбиваются о песчаный берег, ничего не оставляя после себя». (Цит. по Г. В., Плеханову, Соч., т. VIII, стр. 285).
Но сводить роль личности в истории к простым «знакам и символам», как это делает Моно, значит упрощенно представлять себе действительный ход истории и вместо реальной, живой картины общественного развития давать его схему, абстракцию, скелет без плоти и крови.
Исторический материализм учит, что в действительном ходе истории наряду с общими, главными причинами, определяющими основное направление исторического развития, имеют значение и многообразные конкретные условия, видоизменяющие развитие, обусловливающие те или иные зигзаги истории. Значительное влияние на конкретный ход событий, а также на его ускорение или замедление оказывает деятельность людей, стоящих во главе движения. Люди сами творят свою историю, хотя и не всегда сознательно. По выражению Маркса, люди — одновременно и авторы и актеры собственной драмы.
Сторонники фатализма обычно утверждают, что ход истории люди не могут ускорить. Реакционеры такими утверждениями иногда прикрывают свое противодействие историческому прогрессу. Так, например, вождь прусского юнкерства канцлер Бисмарк говорил в северно-германском рейхстаге в 1869 г.: «Мы не можем, господа, ни игнорировать историю прошлого, ни творить будущее. Мне хотелось бы предохранить вас от того заблуждения, благодаря которому люди переводят вперед свои часы, воображая, что этим они ускоряют течение времени... Мы не можем делать историю; мы должны ожидать, пока она сделается. Мы не ускорим созревания плодов тем, что поставим под них лампу; а если мы будем срывать их незрелыми, то только помешаем их росту и испортим их». (Цит. по Г. В. Плеханову, Соч., т. VIII, стр. 283—284).
Это — чистейший фатализм и мистика. Конечно, передвижением стрелки часов нельзя ускорить течение времени. Но ход развития общества ускорить можно. История человечества делается людьми. Она не всегда движется с одинаковой скоростью. Иногда это движение происходит крайне медленно, как бы со скоростью передвижения черепахи, иногда же, например в эпохи революций, общество движется как бы со скоростью гигантского локомотива.
Мы, советские люди, знаем теперь практически, как можно ускорить ход истории. Об этом свидетельствует досрочное выполнение сталинских пятилеток, превращение нашей страны из аграрной в могучую индустриальную социалистическую державу.
Возможности ускорения истории зависят от достигнутой обществом ступени экономического развития, от численности масс, принимающих активное участие в политической жизни, от степени их организованности и сознательности, от понимания ими своих коренных интересов. Вожди, идеологи своим руководством могут содействовать или мешать росту организованности и сознательности масс, а значит, ускорить или замедлить ход развития событий и в известной мере весь ход общественного развития.
Буржуазные социологи нередко стремятся приписать объективизм и фатализм марксистам. Но марксизм так же далек от объективизма и фатализма, как небо от земли.
Лишь оппортунисты, ревизионисты под видом «марксизма» защищали и защищают взгляд, будто социализм наступит сам собой, без классовой борьбы, без революции, стихийно, в результате простого роста производительных сил. Сторонники этих взглядов принижают роль передового сознания, передовых партий и передовых деятелей в общественном развитии. В Германии такой взгляд защищали катедер-социалисты, в 90-х годах XIX в.— ревизионист Бернштейн, провозгласивший оппортунистический лозунг «движение — все, конечная цель — ничто»; позже на эту же точку зрения стали Каутский и др.
В России фаталистический объективизм проповедовали «легальные марксисты» — Струве, Булгаков, затем «экономисты», меньшевики, бухаринцы с их «теорией» «самотека» и «мирного врастания капитализма в социализм». Так называемая «школа» историка М. Н. Покровского, защищавшая взгляды вульгарного «экономического материализма», также игнорировала роль личности в истории.
Марксисты-ленинцы всегда выступали против фаталистических взглядов, против теории стихийности. Эти взгляды ведут к апологии капитализма и в корне враждебны марксизму, рабочему классу.
Для марксиста признание исторической необходимости тех или иных событий отнюдь не означает отрицания значения борьбы передовых классов, значения активной деятельности людей, в том числе и тех, которые руководят этой борьбой.
Передовой класс, его вожди действительно творят историю, творят будущее, но творят не по произволу, а на основе правильного понимания потребностей общественного развития, не так, как им вздумается, не при обстоятельствах, по произволу избранных, а при обстоятельствах, унаследованных от прежних поколений, созданных предшествующим ходом общественного развития. Поняв исторические задачи, вставшие в порядок дня, поняв условия, пути и средства решения этих задач, великий исторический деятель, представитель передового класса, мобилизует и сплачивает массы, руководит их борьбой.
3. Народ — творец истории
Для того чтобы правильно оценить роль личности в истории, в общественном развитии, нужно было прежде всего понять роль народных масс, творящих историю. Но именно этого и не могли сделать представители идеалистических теорий общественного развития. И субъективным идеалистам и фаталистам, как правило, чуждо понимание творческой исторической роли народных масс. В этом отражалась классовая ограниченность мировоззрения создателей этих теорий; они выступали в своем большинстве в качестве выразителей идеологии эксплуататорских классов, чуждых и враждебных народу.
Из всех домарксистских учений крупнейший шаг вперед в разрешении вопроса о роли народных масс в истории сделали русские революционеры-демократы середины XIX в.
Взгляды русских революционеров-демократов на роль народных масс в истории
Воззрения русских революционных демократов XIX в. на роль народных масс и личности в истории значительно выше и глубже взглядов всех предшествовавших им историков и социологов домарксовского периода. Их точка зрения на историю проникнута духом классовой борьбы. Исторических деятелей они рассматривают в связи с движением масс, в связи с объективными условиями эпохи. Исторические личности, великие деятели, говорили они, появляются вследствие исторических обстоятельств и выражают потребности общества своего времени.
Деятельность великих людей нужно объяснять в связи с исторической жизнью народа, писал Н. А. Добролюбов. Историческая личность имеет успех в своей деятельности тогда, когда ее цели, стремления отвечают назревшим нуждам народа, потребностям времени. Добролюбов критиковал наивное представление об истории как совокупности биографий великих людей. Лишь для невнимательного взора, писал он, исторические деятели представляются единственными и первоначальными виновниками событий. Внимательное изучение показывает всегда, что история в своем ходе совершенно независима от произвола лиц, что путь ее определяется закономерной связью событий. Исторический деятель может по-настоящему повести за собой массу только тогда, когда он является как бы воплощением общей мысли, общих чаяний и стремлений, отвечающих назревшей потребности.
«Великие исторические преобразователи имеют большое влияние на развитие и ход исторических событий в свое время и в своем народе,— пишет Добролюбов; — но не нужно забывать, что прежде, чем начнется их влияние, сами они находятся под влиянием понятий и нравов того времени и того общества, на которое потом начинают они действовать силою своего гения... История занимается людьми, даже и великими, только потому, что Они имели важное значение для народа или для человечества. Следовательно, главная задача истории великого человека состоит в том, чтобы показать, как умел он воспользоваться теми средствами, какие представлялись ему в его время; как выразились в нем те элементы живого развития, какие мог он найти в своем народе». (Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. III, М. 1936, Щ. 120).
Народ, с точки зрения Добролюбова,— главная действующая сила истории. Без народа так называемые великие люди не могут основывать царства, империи, вести войны, творить историю.
Революционные демократы Чернышевский и Добролюбов вплотную подходили к историческому материализму. Но они не могли еще в силу исторических условий, в силу своей классовой позиции, как идеологи крестьянства, провести последовательно точку зрения классовой борьбы. Это сказалось и на односторонней, ошибочной оценке исторической роли Петра Первого, которому Добролюбов приписал роль выразителя народных потребностей и стремлений. В действительности же Петр Первый был передовым представителем прогрессивных слоев помещиков и нарождавшегося купечества, выразителем их интересов. Как указывает И. В. Сталин, Петр Первый сделал много для возвышения и укрепления русского национального государства, которое было государством помещиков и купцов. Возвышение класса помещиков и купцов, укрепление их государства шло за счет крестьянства, с которого драли три шкуры.
Незрелость общественных отношений в России в середине XIX в. помешала Чернышевскому, Добролюбову и др. выработать последовательное материалистическое мировоззрение, охватывающее и область социальной жизни. Но их революционный демократизм, их близость к трудящемуся народу, к крестьянству, чаяния которого они выражали, помогли им увидеть то, чего не видели предшествующие и современные буржуазные историки: роль народных масс как основной силы исторического развития.
Марксизм-ленинизм о роли народных масс в развитии производства
Открытие Марксом и Энгельсом определяющей силы общественного развития—изменения и развития способов производства — дало возможность раскрыть до конца роль народных масс в истории. Основу для научного решения проблемы о взаимоотношении народных масс, классов и вождей, исторических деятелей, их роли в общественном развитии составляет учение исторического материализма об определяющей роли способа производства материальных благ, учение о классовой борьбе как основном содержании истории классового общества. История общества, как уже было установлено выше, есть прежде всего история способов производства, а вместе с тем история производителей материальных благ, история трудящихся масс — основной силы производственного процесса, история народов.
В истории имели место нашествия варваров Аттилы, Чингисхана, Батыя, Тамерлана. Они опустошали целые страны, уничтожали города, села, скот, инвентарь, накопленные веками культурные ценности. Гибли армии стран, подвергавшихся нашествию, вместе со своими полководцами. Но оставался народ опустошенных стран. И народ снова своим трудом оплодотворял землю, отстраивал заново города, села, создавал новые сокровища культуры.
Народ творил историю, даже не сознавая этого, творил благодаря тому, что созидал своим трудом все ценности материальной культуры. Подвергаясь жесточайшему классовому гнету, влача тяжелое ярмо подневольного труда, десятки и сотни миллионов производителей материальных благ, трудящихся все же двигали историю.
Геологи говорят, что незаметные для глаза мелкие дождевые капли, температурные изменения производят в итоге в земной коре геологические изменения более значительные, чем бросающиеся в глаза и потрясающие наше воображение вулканические извержения и землетрясения. Так и малозаметные на первый взгляд изменения в орудиях труда, осуществляемые миллионами людей на протяжении веков, подготовляют великие технические перевороты.
Буржуазные историки техники обычно выдвигают па первое место творческий гений отдельных ученых и изобретателей, приписывая им целиком все достижения технического прогресса. Но выдающиеся технические изобретения не только подготовляются ходом производства, но, как правило, и вызываются им. Возможность использования технических открытий зависит от потребностей и характера производства, а также от наличия рабочей силы, способной производить и применять новые орудия производства.
Техническое изобретение, научное открытие лишь тогда оказывает свое влияние на ход общественного развития, когда оно получает массовое применение в производстве. Поэтому признание выдающегося значения изобретателей и изобретений, научных открытий отнюдь не опровергает главного положения исторического материализма о том, что история общества — это закономерный процесс, определяемый развитием производства, это прежде всего история производителей, трудящихся, история народов. Деятельность великих изобретателей входит в этот общий закономерный процесс как один из его моментов.
Народ, являясь главной силой производства, через развитие производства определяет в конечном счете весь ход, направление развития общества.
Роль народных масс в творчестве духовной культуры
Мы рассмотрели роль народа, творца материальных благ. Но, говорят идеалисты, сфера деятельности, которая безраздельно принадлежит не народу, не простым людям, а великим гениям, в коих заложена «искра божия»: это—сфера духовной деятельности: наука, философия, искусство.
Классическая древность дала Гомера, Аристофана, Софокла, Эврипида, Праксителя, Фидия, Демокрита, Аристотеля, Эпикура, Лукреция и других светил философии и искусства. Им человечество обязано бессмертными творениями античного мира.
Эпоха Возрождения дала Данте, Рафаэля, Микель-Анджело, Леонардо да Винчи, Коперника, Джордано Бруно, Галилея, Сервантеса, Шекспира, Рабле.
Россия в XVIII в. дала исполина научной мысли — Ломоносова, выдающегося мыслителя и революционера — Радищева, а в XIX в.— Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Горького, Сурикова, Репина, Чайковского и других великих представителей литературы, искусства и общественной мысли. Разве не их величию, не их бессмертному гению человечество и народы СССР обязаны гениальными творениями? Да, им.
Но и здесь, даже в этой области, значительная роль принадлежит народу, его творчеству. Не говоря уже о том, что лишь благодаря труду народа в сфере материального производства ученый, писатель, поэт, художник могут располагать необходимым досугом для творчества, сам источник подлинного великого искусства заключен в народе. Народ дает поэту, писателю язык, речь, созданные веками. Народ является, по выражению товарища Сталина, творцом и носителем языка. Народ создал эпос, песни, сказки. И подлинно великие писатели и поэты берут образы из неиссякаемой сокровищницы поэтического, художественного творчества народа.
Жизнь народа и народное творчество являются источником мудрости и вдохновения всех подлинно великих писателей и поэтов. Величие классической русской литературы состоит в богатстве ее идейного содержания, ибо она выражала думы, чаяния, помыслы народа, стремления передовых классов, прогрессивных сил. Великий классик русской, советской и мировой литературы Горький писал:
«Народ не только — сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей Духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры». (М. Горький, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, 1937, стр. 26). Народ, несмотря на величайший гнет и страдания, всегда продолжал жить своей глубокой внутренней жизнью. Он, создавая тысячи сказок, песен, пословиц, иногда восходит до таких образов, как Прометей, Фауст. «Лучшие произведения великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа... Рыцарство было осмеяно в народных сказках раньше Сервантеса, и так же зло, и так же грустно, как у него». (Там же, стр. 32).
Искусство, которое отрывается от этого животворного источника, неизбежно чахнет и вырождается.
Роль народных масс в политических революциях и освободительных войнах
И в области политики народ является той силой, которая в конечном счете определяет — судьбы общества. На авансцене всемирной истории в прошлом выступали только выдающиеся деятели, представители господствующих, эксплуататорских классов. Угнетенные классы были как бы вне политики. Массы, народ, трудящиеся во всех обществах, основанных на антагонизме классов, задавлены зверской эксплуатацией, нуждой, лишениями, политическим и духовным гнетом. Массы спали историческим сном. Ленин писал в 1918 г., что «...сто с лишним лет тому назад, историю творили горстки дворян и кучки буржуазных интеллигентов, при сонных и спящих кассах рабочих и крестьян. Тогда история могла ползти в силу этого только с ужасающей медленностью». (В. И. Ленин, Соч., т. 27, изд. 4, стр. 136).
Но бывали в истории и такие периоды, когда массы поднимались к активной борьбе, и тогда ход истории неизмеримо ускорялся. Такими периодами были эпохи великих революций и освободительных войн.
В эпохи освободительных войн необходимость защищать свой очаг» свою родину от нашествия иноземных поработителей поднимала массы к сознательному участию в борьбе. История нашей родины богата примерами, показывающими решающую роль народных масс в разгроме захватчиков.
Россия в XIII—XV вв. пережила страшное татарское иго. Лавины монгольских орд угрожали тогда европейским народам, всем культурным ценностям, созданным человечеством. Прошло много десятилетий тяжелой, изнурительной борьбы; величайшие жертвы были принесены русским народом. Страна отвоевала себе свободу, право на жизнь, на самостоятельное развитие прежде всего потому, что сами народные массы боролись против иноземного ига. Борьба за национальную свободу возглавлялась такими выдающимися государственными деятелями, представителями господствовавшего тогда класса крупных землевладельцев, как Александр Невский, Дмитрий Донской.
1812 год. Нашествие Наполеона. Почему была завоевана победа над врагом? Только в результате Отечественной народной войны. Только тогда стал возможен разгром врага, когда поднялся весь народ, от мала до велика, на защиту отечества. Кутузов, гениальный русский полководец, своим умом, воинским искусством ускорил и облегчил эту победу.
Искусство полководца при наличии других условий приобретает решающее значение, когда оно поставлено на службу интересам народа, интересам прогрессивного движения, справедливой войны. Наполеон потерпел поражение, несмотря на свой военный гений и богатый военный опыт, связанный с десятками блестящих побед. Он потерпел поражение потому, что исход войны решали в конце концов причины более глубокие и прежде всего национальные интересы народов, которые французская буржуазная империя, возглавляемая Наполеоном, хотела поработить. Жизненные интересы народов оказались силой более могущественной, чем гений Наполеона и предводимая им армия.
Еще более ярко выступает роль народных масс, их сознательное участие в творчестве истории в эпохи революций, представляющих собой настоящие «праздники истории». Переход от одной общественной формации к другой происходит через революции. И хотя плоды победы в революциях прошлого обычно доставались не массам, главную, решающую, ударную силу этих революций составляли массы народа.
От численности участвующих в революциях масс, от степени их сознательности и организованности зависит размах революций, их глубина и результаты. Октябрьская социалистическая революция — это самый глубокий переворот во всемирной истории, потому что здесь на историческую арену вышли во главе с самым революционным классом — пролетариатом и его партией гигантские, многомиллионные массы людей и уничтожили все формы эксплуатации и угнетения, изменили все общественные отношения — в экономике, в политике, в идеологии, в быту.
Реакционные классы боятся масс, народа. Поэтому даже в пору буржуазных революций, даже тогда, когда буржуазия в общем играла революционную роль, как, например, во французской революции 1789—1794 гг., она взирала со страхом и ненавистью на санкюлотов, на простонародье, возглавляемое якобинцами — Робеспьером, Сен-Жюстом, Маратом. Тем более велика эта ненависть к народу со стороны буржуазии в нашу эпоху, когда революция направлена против основ капитализма, против буржуазии, когда широчайшие массы проснулись к политической жизни, к историческому творчеству.
Реакционные идеологи буржуазии и их прислужники — социал-демократы пытаются запугать рабочий класс грандиозностью задач по управлению государством, по созданию нового общества. Они указывают на то, что массы темны, бескультурны, не обладают искусством управлять, что массы способны лишь ломать, разрушать, а не творить.
Но рабочий класс запугать нельзя. Его великие вожди — Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин — глубоко верили в творческие силы масс, в их революционный инстинкт, в их разум. Они знали, что в народе таятся неисчислимые творческие силы, таланты. Они учили, что именно революции поднимают к историческому творчеству миллионы, массы, народ. Ленин писал: «...именно революционные периоды отличаются большей широтой, большим богатством, большей сознательностью, большей планомерностью, большей систематичностью, большей смелостью и яркостью исторического творчества по сравнению с периодами мещанского, кадетского, реформистского прогресса». (В. И. Ленин, Соч., т. 10, изд. 4, стр. 227).
Ход социалистической революции, борьба за социализм подтвердили предвидение Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Великая Октябрьская социалистическая революция, как никакая другая революция в прошлом, пробудила к историческому творчеству гигантские силы народа, создала возможность расцвета бесчисленных талантов во всех областях деятельности: в хозяйственной, государственной, военной, культурной.
Советский народ-творец и строитель коммунизма
Пробудив творческие силы народа, Великая — Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в истории человечества. Характерным для этой новой эры является прежде всего возрастание роли народных масс.
В прежних революциях главная задача трудящихся масс состояла в выполнении отрицательной, разрушительной работы по уничтожению остатков феодализма, монархии, средневековья. В социалистической революции угнетенные массы во главе с пролетариатом и его партией выполняют не только разрушительную, но и созидательную, творческую задачу создания социалистического общества со всеми его надстройками. В советском обществе массы, руководимые коммунистической партией, сознательно творят свою историю, созидают новый мир. В этом — источник невиданной в прошлом творческой энергии народа, которая дает возможность Советской стране преодолевать все трудности. В этом — источник гигантских, невиданных в истории темпов развития во всех областях общественной жизни.
Великий советский народ, возглавляемый партией большевиков, Лениным и Сталиным, отстоял свое отечество, выбросил вон интервентов и белогвардейцев, восстановил фабрики, заводы, транспорт, сельское хозяйство. Меньше чем за два десятилетия мирного восстановительного и созидательного труда освобожденный народ, опираясь на советский строй, создал первоклассную индустрию, крупное механизированное социалистическое сельское хозяйство, создал новое, социалистическое общество, обеспечил величайший расцвет культуры. В этом обнаружилась неиссякаемая творческая сила освобожденных трудящихся масс.
Мощь освобожденного народа особенно ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны (1941—1945), явившейся тяжелейшим испытанием для советской родины. Гитлеровская Германия, опираясь на материальные ресурсы порабощенной Европы, вероломно вторглась в СССР. Положение страны было тяжелое, одно время даже критическое. В 1941—1942 гг. враг подошел к Москве, Ленинграду, к Волге. Огромные промышленные районы юга и запада СССР, плодородные районы Украины, Кубани, Северного Кавказа оказались оккупированными врагом. Союзники — США и Англия, правящие классы этих стран, желая обескровить СССР, преднамеренно не открывали второго фронта. Европейские и американские политики, том числе бывший начальник генерального штаба США генерал Маршалл, уже обсуждали вопрос о том, через сколько недель СССР будет покорен немцами. Но советский народ, возглавляемый партией Ленина - Сталина, нашел в себе достаточно сил, чтобы перейти от обороны к наступлению, навес гитлеровской армии тягчайшие поражения, а потом разгромил врага, одержал величайшую победу. Неимоверные трудности, которые испытал советский народ в этой войне, не сломили, а еще больше закалили его железную, несгибаемую волю, его мужественный дух.
В борьбе за социализм, в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии особо выдающаяся роль принадлежит русскому народу. Подводя итоги Великой Отечественной войны, И. В. Сталин сказал, что русский народ «заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны». (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, изд. 5, 1949, стр. 196).К этой ведущей роли русский народ был подготовлен ходом исторического развития, борьбой против царизма и капитализма. Он по праву завоевал себе перед всем миром славу героического народа. Советский народ — создатель нового общества стал народом - воином. Он отстоял и спас своими подвигами, своей кровью, своим трудом и воинским мастерством не только честь, свободу и независимость своей родины, но и всю европейскую цивилизацию. В этом его бессмертная заслуга перед всем человечеством.
Во время второй мировой войны враг разрушил сотни советских городов, тысячи сел, разрушил фабрики, заводы, шахты, колхозы, МТС, совхозы, железные дороги. Тем, кто видел эти разрушения, могло показаться на первый взгляд, что понадобятся десятилетия, чтобы возродить к жизни разрушенное врагом. Но вот прошли три-четыре года, и промышленность и сельское хозяйство СССР уже восстановлены: промышленность в 1948 г. достигла довоенного уровня, а в 1949 г. на 41 % перешагнула довоенный уровень, валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур в 1948 г. равнялся лучшим предвоенным, а в 1949 г. был еще выше. Из руин и пепла поднялись новые города и села. В этом снова и снова обнаружилась неиссякаемая творческая энергия советского народа, построившего социалистическое общество, опирающегося на мощь социалистического государства,— народа, вдохновляемого и руководимого коммунистической партией.
В предшествующие социализму эпохи действительная роль народа была скрыта. При эксплуататорском строе творческая, созидательная мощь народа подавляется. В эксплуататорских обществах творческим трудом считается только труд умственный, роль физического труда умаляется. Капитализм душит, губит народную инициативу, народные таланты, лишь немногие единицы из народных масс пробивают себе дорогу к вершинам культуры.
Социализм впервые в истории раскрепостил творческие силы, творческую инициативу масс, миллионов простых людей. Только здесь миллионы работают на себя и для себя. В этом секрет гигантских, невиданных в истории темпов развития социалистической индустрии в СССР, темпов развития всего хозяйства и культуры. В условиях социализма народ становится свободным и сознательным творцом истории, оказывающим решающей влияние на обе стороны общественной жизни. И В. Сталин, критикуя неправильное представление о роли народных масс в истории, говорит:
«Прошли те времена, когда вожди считались единственными творцами истории, а рабочие и крестьяне не принимались в расчет. Судьбы народов и государств решаются теперь не только вождями, но прежде всего и главным образом миллионными массами трудящихся. Рабочие и крестьяне, без шума и треска строящие заводы и фабрики, шахты и железные дороги, колхозы и совхозы, создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь мир, — вот кто настоящие герои и творцы новой жизни... «Скромный» и «незаметный» труд является на самом деле трудом великим и творческим, решающим судьбы историй». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 422).
Социалистическая революция и победа социализма в СССР доказали, что народ является подлинной и главной силой исторического процесса, что он не только создает все материальные блага, но успешно может управлять государством, судьбами страны.
В одном из своих выступлений в Дни победы над Германией И. В. Сталин провозгласил здравицу за простых скромных людей, которых считают «винтиками» великого советского государственного механизма и на которых держится деятельность государства во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела: «Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это — скромные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как основание держит вершину». («Выступление товарища И. В. Сталина 25 июня 1945 г. На приёме в Кремле в честь участников парада Победы», «Правда», 27 июня 1945 г.
Советский народ является народом-победителем. Он удивил мир своими подвигами, героизмом, своей исполинской мощью. Где источник этой богатырской силы, так ярко проявленной в дни войны?
Источник силы советского народа кроется в социалистическом строе, в Советской власти, в животворном советском патриотизме, в морально-политическом единстве всего советского народа, в несокрушимой братской дружбе народов СССР, гениальном руководстве партии и ее вождя И. В. Сталина, вооруженных знанием законов общественного развития.
Народ нашей страны — русский народ и другие народы СССР — за время существования советского строя коренным образом изменился. Изменилось экономическое, социальное и политическое положение рабочих, крестьян, интеллигенции, их психология, сознание, моральный облик. Это уже не народ угнетенный, забитый, эксплуатируемый, задавленный капиталистическим рабством, а народ, освобожденный от гнета и эксплуатации, хозяин своей исторической судьбы, сам определяющий судьбы своей родины.
4. Роль личности в истории
Признание народных масс решающей силой исторического развития отнюдь не означает отрицания или принижения роли личности, ее влияния на ход исторических событий. Чем более активно участвуют народные массы в исторических событиях, тем острее встает вопрос о руководстве этими массами, о роли вождей, выдающихся деятелей.
Чем более организованы массы, чем выше степень их сознательности, понимания коренных интересов, целей, тем большую силу они представляют. А это понимание коренных интересов дается идеологами классов, вождями, партией.
Отвергая идеалистический вымысел о том, будто выдающиеся личности могут по своему произволу творить историю, исторический материализм признает не только огромное значение творческой революционной энергии масс, но и инициативы отдельных личностей, выдающихся деятелей, организаций, партий, умеющих связаться с передовым классом, с массами, внести в них сознательность, указать им правильный путь борьбы, помочь им организоваться.
Значение деятельности великих людей
Исторический материализм не игнорирует роли великих людей в истории, но он рассматривает эту роль в связи с деятельностью масс, в связи с ходом борьбы классов. В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом товарищ Сталин говорил: «Марксизм вовсе не отрицает роли выдающихся личностей или того, что люди делают историю... Но, конечно, люди делают историю не так, как им подсказывает какая-нибудь фантазия, не так, как им придет в голову. Каждое новое поколение встречается с определенными условиями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда это поколение народилось. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять, как их изменить. Если они этих условий не понимают и хотят эти условия изменить так, им подсказывает их фантазия, то они, эти люди, попадают в положение Дон-Кихота. Таким образом, как раз по Марксу вовсе не следует противопоставлять людей условиям. Именно люди, но лишь поскольку они правильно понимают условия, которые они застали в готовом виде, и лишь поскольку они понимают, как эти условия изменить, — делают историю». (И. В. Сталин, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, 1938, стр. 4).
Роль передовых партий, выдающихся прогрессивных деятелей на том и основывается, что они правильно понимают задачи передового класса, соотношение классовых сил, обстановку, в которой развивается борьба классов, правильно понимают, как изменить существующие условия. По выражению Плеханова, великий человек является начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других.
Значение деятельности выдающегося борца за победу нового общественного строя, вождя революционных масс, состоит прежде всего в том, что он лучше других понимает историческую обстановку, схватывает смысл событий, закономерность развития, видит дальше других, обозревает шире других поле исторической битвы. Выдвигая правильный лозунг борьбы, он вдохновляет массы, вооружает их идеями, которые сплачивают миллионы, мобилизуют их, создают из них революционную армию, способную свергнуть старое и создать новое. Великий вождь выражает насущную потребность эпохи, интересы передового класса, народа, интересы миллионов. В этом его сила.
История создает героев
Великие, выдающиеся исторические личности, как и великие передовые идеи, появляются, как правило, в переломные эпохи истории народов, когда на очередь встают новые великие общественные задачи. Фридрих Энгельс в письме к Штаркенбургу писал о появлении выдающихся деятелей:
«То обстоятельство, что вот именно этот великий человек появляется в данной стране, в определенное время, конечно, есть чистая случайность. Но если мы этого человека устраним, то появляется спрос на его замену, и такой заместитель находится, — более или менее удачный, но с течением времени находится. Что Наполеон, именно этот корсиканец, был тем военным диктатором, который стал необходим Французской республике, истощенной войной,— это было случайностью. Но если бы Наполеона не было, то роль его выполнил бы другой. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек был нужен, он находился: Цезарь, Август, Кромвель и т. д. Если материалистическое понимание истории открыл Маркс, то Тьерри, Минье, Гизо, все английские историки до 1850 г. служат доказательством того, что к этому стремились многие, а открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого созрело и это открытие должно было быть сделано». (К. Маркс и Ф, Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 470-471).
Некоторые социологи из реакционного идеалистического лагеря оспаривают эту мысль Энгельса. Они утверждают, что были эпохи в истории человечества, которые нуждались в героях, великих людях, провозвестниках новых идеалов, но великих людей не оказалось, и потому эти эпохи остались периодами застоя, запустения, неподвижности. Подобный взгляд исходит из совершенно ложной предпосылки, будто великие люди творят историю, по произволу вызывают события. Но в действительности наоборот: «...не герои делают историю, а история делает героев, следовательно,— не герои создают народ, а народ создает героев и двигает вперед историю». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 16).
В борьбе передовых классов против классов отживающих, в борьбе за решение новых задач с необходимостью выдвигались герои, вожди, идеологи — выразители назревших исторических задач, требовавших своего разрешения. Так было на всех ступенях общественного развития. Движение рабов в древнем Риме выдвинуло величественную и благородную фигуру вождя восставших рабов - Спартака. Революционное крестьянское антикрепостническое движение выдвинуло в России таких выдающихся и отважных борцов, как Иван Болотников, Степан Разин, Емельян Пугачев. Гениальными выразителями крестьянской революции были Белинский, Чернышевский и Добролюбов. В Германии революционное крестьянство выдвинуло Томаса Мюнцера, в Чехии — Яна Гуса.
Эпоха буржуазных революций рождала своих вождей, идеологов, героев. Так, английская буржуазная революция XVII в; дала Оливера Кромвеля. Канун французской буржуазной революции 1789 г. ознаменовался появлением целой плеяды французских просветителей, а в ходе самой революции выдвинулись Марат, Сен-Жюст, Дантон, Робеспьер. В период прогрессивных войн, которые вела революционная Франция против натиска консервативной Европы, выдвинулась группа выдающихся маршалов, полководцев французской революционной армии.
Новая эпоха, когда на историческую арену вышел рабочий класс, ознаменовалась выступлением двух величайших исполинов духа и революционного дела - Маркса и Энгельса
Эпоха империализма и пролетарских революций ознаменовалась на рубеже XI X—XX столетий выступлением на историческую арену гениальных мыслителей и вождей международного пролетариата Ленина и Сталина.
Появление великого человека в определенную эпоху не есть чистая случайность. Здесь имеется определенная необходимость, заключающаяся в том, что историческое развитие ставит новые задачи, вызывает общественную потребность в людях, способных разрешить эти задачи. Эта потребность вызывает появление соответствующих вождей. Следует к тому же учесть, что самими общественными условиями определяется возможность для талантливого, выдающегося человека проявить себя, развить и применить свой талант. В народе всегда есть таланты, но они могут проявить себя лишь при благоприятных общественных условиях.
Если бы Наполеон жил, скажем, в XVI или в XVII столетии, он не мог бы проявить свой военный гений и тем более стать во главе Франции. Наполеон скорее всего остался бы неизвестным миру офицером. Стать великим полководцем Франции он мог лишь в условиях, созданных французской революцией 1789—1794 гг. Для этого нужны были по крайней мере следующие условия: чтобы буржуазная революция сломала отжившие сословные перегородки и открыла доступ к командным должностям людям незнатного рода; чтобы войны, которые пришлось вести революционной Франции, создали потребность и дали возможность выдвинуться новым военным талантам. А чтобы Наполеон стал военным диктатором, императором Франции, для этого нужно было, чтобы французская буржуазия, после падения якобинцев, нуждалась в «хорошей шпаге», в военной диктатуре для подавления революционных масс. Наполеон своими качествами выдающегося военного таланта, человека огромной энергии и железной воли, отвечал назревшим требованиям буржуазии; и он со своей стороны делал все, чтобы пробиться к власти.
Не только в области общественно-политической деятельности, но и в других областях общественной жизни возникновение новых задач способствует выдвижению выдающихся деятелей, призванных разрешить эти задачи. Так, например, когда развитие науки и техники (обусловленное, в последнем счете, потребностями материального производства, потребностями общества в целом) выдвигает на очередь новые проблемы, новые задачи, то всегда, рано или поздно, находятся люди, дающие их решение. Один немецкий историк остроумно заметил по поводу идеалистических учений об исключительной и сверхъестественной роли гения в истории общества и в истории науки:
- Если бы Пифагор не открыл свою известную теорему, неужели человечество до сих пор ее не знало бы?
- Если бы не родился на свет Колумб, неужели Америка до сих пор не была бы открыта европейцами?
- Если бы не было Ньютона, неужели человечество до сих пор не знало бы закона всемирного тяготения?
- Если бы не был изобретен в начале XIX в. паровоз, неужели мы до сих пор передвигались бы в почтовых каретах?
Стоит только поставить перед собой подобные вопросы, чтобы стала очевидной вся абсурдность и беспочвенность идеалистического представления о том, что судьба человечества, история общества, история пауки зависят целиком от случайности рождения того или иного великого человека.
О роли случайности в истории
Возникает, однако, вопрос: если выдающийся человек появляется всегда, когда возникает соответствующая общественная потребность, то не следует ли отсюда, что влияние случайностей совершенно исключается из истории?
Нет, такой вывод был бы неправилен. Великий человек появляется в ответ на соответствующую общественную потребность, но появляется рано или поздно, а это, конечно, отражается на ходе событий. К тому же степень его одаренности, а стало быть, и его способность справиться с возникшими задачами может быть различной. Наконец, индивидуальная судьба великого человека, например его преждевременная гибель, также вносит элемент случайности в ход событий.
Марксизм не отрицает влияния исторических случайностей на ход общественного развития в целом, на развитие тех или иных событий в особенности. Маркс писал о роли случайностей в истории:
«История имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 264).
В то же время случайные причины не являются решающими для всего хода общественного развития. Несмотря на влияние тех или иных случайностей, общий ход истории обусловливается необходимыми причинами.
Случайностью с точки зрения хода развития США была, например, смерть Рузвельта в апреле 1945 г. Кончина этого выдающегося буржуазного деятеля (представляющего исключение среди современных вождей буржуазии), несомненно, помогла реакционерам усилить свое влияние на характер и направление внешней и внутренней политики США. Однако главную причину поворота во внутренней и внешней политике США нужно, конечно, искать не в смерти Рузвельта. Нельзя забывать, что, несмотря на свои выдающиеся личные способности, сам по себе Рузвельт был бессилен без поддержки той части американской буржуазии, которую он представлял и которой принадлежала решающая роль в американской политике. Недаром по мере усиления империалистической реакции в США Рузвельту становилось все труднее проводить намеченную им политику внутри страны. Наиболее реакционная часть конгресса не раз проваливала законопроекты Рузвельта, особенно по вопросам внутренней политики. Английский писатель Г. Уэллс, посетивший Рузвельта в начале его президентской деятельности, пришел к выводу, что Рузвельт осуществлял в США социалистическое плановое хозяйство. Это было величайшим заблуждением. И. В. Сталин в своей беседе с Уэллсом говорил:
«Несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт самая сильная фигура. Я поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мое убеждение в невозможности планового хозяйства в условиях капитализма вовсе не означает сомнения в личных способностях, таланте и мужестве президента Рузвельта... Но как только Рузвельт или какой-либо другой капитан современного буржуазного мира захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он неизбежно потерпит полную неудачу. Ведь банки не у Рузвельта, ведь промышленность не у него, ведь крупные предприятия, крупные экономии — не у него. Ведь все это является частной собственностью. И железные дороги, и торговый флот — все это в руках частных хозяев. И, наконец, армия квалифицированного труда, инженеры, техники, они ведь тоже не у Рузвельта, а у частных хозяев, они работают на них... Если Рузвельт попытается действительно удовлетворить интересы класса пролетариев за счет класса капиталистов, последние заменят его другим президентом. Капиталисты скажут: президенты уходят и приходят, а мы, капиталисты, остаемся; если тот или иной президент не отстаивает наших интересов, найдем другого. Что может противопоставить президент воле класса капиталистов?». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10, стр. 601, 603).
Поэтому предполагать, что Рузвельт мог бы проводить какую-то свою политику вопреки воле американской буржуазии, значило бы впадать в иллюзию. Смерть Рузвельта была случайностью с точки зрения общественного развития США, но резкое изменение внешней и внутренней политики США после войны в сторону реакции — вовсе не случайность. Оно вызвано глубокими причинами, а именно: углубившимися и обострившимися противоречиями между силами империалистической реакции и силами социализма, страхом капиталистических монополий США перед растущим натиском прогрессивных сил, стремлением американских монополий сохранить свои прибыли на высоком уровне, овладеть внешними рынками, использовать ослабление других капиталистических держав, подчинить их контролю американского империализма, подавить выросшие за время войны во всем мире силы демократии и социализма.
Классы и их вожди
Закономерность исторического развития проявляется, между прочим, и в том, что каждый класс формирует сообразно своей социальной природе, «по своему образу и подобию», определенный тип вождей, руководящих его борьбой.
Тип вождей, политических деятелей, идеологов отражает Природу класса, которому они служат, историческую ступень развития этого класса, обстановку, в которой они действуют.
История капитализма вписана в летописи человечества «пламенеющим языком меча, огня и крови». Рыцари капитализма использовали для утверждения буржуазных общественных отношений самые грязные, отвратительные средства: насилия, вандализм, подкуп, убийства. Однако, как ни мало героично буржуазное общество, говорил Маркс, но и для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, гражданские войны и битвы народов. У колыбели капитализма стояла целая плеяда выдающихся мыслителей, философов, политических вождей, чьи имена запечатлены в мировой истории.
Но как только буржуазное общество сложилось, революционных деятелей буржуазии сменили вожди буржуазии иного типа — ничтожные люди, которых нельзя даже сравнивать по силе ума и воли с их предшественниками. Период загнивающего капитализма привел к дальнейшему и еще большему измельчанию буржуазных идеологов и вождей. Ничтожеству буржуазии, реакционности ее целей соответствует ничтожество и реакционность ее идеологических выразителей и политических вождей. В империалистической Германии после поражения ее в первой мировой войне вырождение правящего класса, буржуазии и ее идеологов, нашло свое крайнее и наиболее чудовищно-отвратительное выражение в фашизме и его деятелях. Став наиболее агрессивной, империалистическая Германия породила и крайне реакционную фашистскую партию, во главе которой стояли такие людоеды и изверги, как Гитлер, Геббельс, Геринг и др.
Вырождение и реакционность современной буржуазии нашли свое выражение в том, что во главе государства США стоят такие ничтожества, как Трумэн. В сенате США заседают такие изуверы и людоеды, как Кэннон и ему подобные. Банды Тито, Кьяппа, де Голля, Франко, Цалдариса, Мосли, банды Ку-клукс-клана и других фашистских организаций ничем принципиально не отличаются от гитлеровских злодеев. Всех их роднит между собой зоологическая ненависть к народу, к социализму, смертельный страх за будущее эксплуататорского капиталистического строя.
Олицетворением загнивания современного капитализма, вырождения буржуазии явились и такие политические деятели, как Чемберлен, Лаваль, Даладье и им подобные, вставшие в свое время на путь сговора с Гитлером и национальной измены своим странам. Так называемая «мюнхенская политика» была в корне враждебна интересам народов, она продиктована ненавистью к силам прогресса, к революционному рабочему классу, к социализму, стремлением направить фашистскую агрессию против СССР, таковы были тайные замыслы творцов мюнхенского соглашения 1938 г. Отдавая в пасть гитлеровской Германии Австрию и Чехословакию, эти буржуазные деятели обрекли свои страны на поражение. Реакционная политика буржуазии потерпела банкротстве. Но народам, к сожалению, пришлось расплачиваться за нее своей кровью.
Что дала Франции и Англии близорукая торгашеская политика «Мюнхена», показал печальный опыт поражения Франции, Бельгии, Голландии, урок Дюнкерка для Англии. Жертвы этой политики были бы еще неизмеримо большими, если бы Францию и Англию не спасла Советская Армия.
Действия Черчилля во время второй мировой войны были по существу продолжением той же обанкротившейся «мюнхенской политики». В 1942 и 1943 гг. Черчилль всячески срывал открытие второго фронта против гитлеровской Германии вопреки интересам европейских свободолюбивых народов, стонавших под игом гитлеровских оккупантов, вопреки интересам английского народа, страдавшего от затягивания войны и испытывавшего на себе действия немецкой авиации, самолетов снарядов. Черчилль срывал открытие второго фронта вопреки договору и торжественно принятым на себя священным обязательствам перед союзниками, в частности перед СССР, который вел тягчайшую битву против гитлеровских полчищ. Реакционная политика Черчилля и магнатов английского и американского капитала была направлена на то, чтобы, затягивая войну, обескровить не только Германию, но и СССР и установить затем империалистическую гегемонию Англии и США в Европе.
Вожди, идеологи отживающих классов стремятся задержать ход исторического развития, повернуть его вспять. Они хотят обмануть историю. Но историю обмануть нельзя. Поэтому реакционная политика людей типа Гитлера — Муссолини, Даладье — Чемберлена, Чан Кай-ши — Тодзио, Черчилля - Трумэна неизбежно терпит крах.
Вырождающийся капиталистический строй создал тип политического деятеля, чуждого народу, ненавидящего народ и ненавидимого народом, готового во имя своекорыстных интересов предать родину. Квислинг стал нарицательным именем для продажных вождей буржуазии.
Воле народа буржуазия противопоставляет идею «сильной единоличной власти». Народной демократии французская реакционная буржуазия стремится противопоставить новое издание «бонапартизма» с фашистской окраской. Но решающая роль в истории, в решении судеб страны принадлежит в конце концов народным массам. В современных условиях эти массы во главе с пролетариатом в своей революционной борьбе выдвигают новый тип политических деятелей, новый тип вождей, которые, как небо от земли, отличаются от политических деятелей буржуазии.
5. Всемирно-историческая роль вождей рабочего класса — Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина
Значение вождей для революционной борьбы пролетариата
Борьба за коммунизм требует от рабочего класса сознательности и величайшей организованности, беззаветной революционной борьбы, самоотверженности, героизма. Для завоевания победы в этой борьбе рабочему классу необходимо быть вооруженным знанием законов развития общества, пониманием природы классов и законов классовой борьбы, иметь научно разработанную стратегию и тактику, уметь обеспечить для себя союзников, использовать резервы пролетарской революции.
Марксистская партия, будучи сборным пунктом лучших, передовых людей рабочего класса, является лучшей школой выработки лидеров рабочего класса. Успешная деятельность марксистской партии предполагает наличие опытных, дальновидных, прозорливых вождей.
Буржуазия прекрасно понимает значение пролетарских вождей для революционной борьбы рабочего класса. Поэтому она во всех странах, особенно на наиболее острых этапах классовой борьбы, во время революций, старалась обезглавить рабочее движение. Буржуазия убила вождей рабочего класса Германии — Карла Либкнехта и Розу Люксембург, а затем Эрнста Тельмана. Попытка буржуазной контрреволюции в июльские дни 1917 г. убить Ленина, заговор врагов народа — Бухарина, Троцкого, эсеров с целью ареста и убийства Ленина, Сталина, Свердлова, покушение эсеров на Ленина, убийство Кирова — все это звенья преступной реакционной деятельности буржуазной и мелкобуржуазной контрреволюции и агентуры иностранной буржуазии с целью лишить рабочий класс, партию большевиков испытанного руководства, авторитетных, признанных и любимых вождей.
Покушение в 1948 г. на вождя Итальянской компартии Тольятти и вождя Японской компартии Токуда, расстрел греческим монархо-фашистским правительством вождей греческого профсоюзного движения, суд над одиннадцатью руководителями компартии США, убийство председателя Бельгийской компартии Жульена Ляо в 1950 г. — все это выражение тактики империалистической реакции, ее стремления обезглавить рабочий класс и тем самым задержать ход истории.
В 20-х годах нынешнего столетия среди «левых» элементов рабочего движения в Германии и Голландии имели место выступления против «диктатуры вождей». Вместо борьбы против реакционных, продажных социал-демократических вождей, обанкротившихся и показавших себя изменниками рабочего класса, проводниками буржуазного влияния на рабочий класс, германские «левые» выступили вообще против вождей. Ленин квалифицировал эти взгляды как одно из проявлений болезни «левизны» в коммунизме.
«Одна уже постановка вопроса: «диктатура партии или диктатура класса? диктатура (партия) вождей или диктатура (партия) масс?» свидетельствует,— писал Ленин,— о самой невероятной и безысходной путанице мысли. Люди тщатся придумать нечто совсем особенное и в своем усердии мудрствования становятся смешными. Всем известно, что массы делятся на классы; — что противополагать массы и классы можно, лишь противополагая громадное большинство вообще, не расчлененное по положению в общественном строе производства, категориям, занимающим особое положение в общественном строе производства; — что классами руководят обычно и в большинстве случаев, по крайней мере в современных цивилизованных странах, политические партии; — что политические партии в виде общего правила управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные должности лиц, называемых вождями». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 187).
Ленин учил не смешивать подлинных вождей революционного рабочего класса с оппортунистическими вождями партий II Интернационала. Вожди партий II Интернационала изменили рабочему классу, перешли на службу буржуазии. Расхождение вождей партий II Интернационала с рабочими массами ясно и резко сказалось в период империалистической войны 1914—1918 гг. и после нее. Основную причину подобного расхождения разъяснили еще Маркс и Энгельс на примере Англии. На почве монопольного положения Англии, которая была «промышленной мастерской мира» и эксплуатировала сотни миллионов колониальных рабов, создалась «рабочая аристократия», полумещанская, насквозь оппортунистическая верхушка рабочего класса. Вожди рабочей аристократии перешли на сторону буржуазии, состоя прямо или косвенно у нее на содержании. Маркс заклеймил их как предателей.
В эпоху империализма привилегированное положение создалось не только для Англии, но и для других наиболее развитых промышленных стран: США, Германии, Франции, Японии, отчасти Голландии, Бельгии. Так империализм создал экономическую базу для раскола рабочего класса. На почве раскола рабочего класса возник тип оппортунистов, оторванных от масс, oт широких слоев рабочих тип «вождей», отстаивающий интересы рабочей аристократии и интересы буржуазии. Это - бевины, моррисоны, эттли, крипсы в Англии, грины, мерреи в США, блюмы, рамадье во Франции, сарагаты в Инталии, шумахеры в Германии, реннеры в Австрии, таннеры в Финляндии. Ленин писал, что победа революционного пролетариата невозможна без прозрения и изгнания оппортунистических вождей.
Типы пролетарских вождей
История международного рабочего движения знает различные типы пролетарских вождей. Один тип - это вожди-практики, выдвигавшиеся в отдельных странах в периоды нарастания революционного движения. Это — практические деятели, смелые и самоотверженные, но слабые в теории. К числу таких вождей принадлежал, например, Огюст Бланки во Франции. Maccы долго помнят и чтут таких вождей. Но рабочее движение не может жить одними воспоминаниями. Оно нуждается в ясной, научно обоснованной программе борьбы и в твердой линий, в научно разработанной стратегии и тактике.
Другой тип вождей рабочего движения выдвинула эпоха относительно мирного развития капитализма, эпоха II интернационала. Это — руководители, сравнительно сильные в теории, но слабые в делах организации, в практической революционной работе. Они популярны лишь в верхнем слое рабочего класса, и то лишь до известного времени. С наступлением революционной эпохи, когда от Вождей требуется уменье дать правильные революционный лозунги и практически руководить революционными массами, эти вожди сходят со сцены. К числу таких вождей — теоретиков мирного периода — принадлежали, например, Плеханов в России, Каутский в Германии. Теоретические воззрения того и другого даже в лучшую пору содержали отступления от марксизма в коренных вопросах (прежде всего в учении о диктатуре пролетариата). В момент обострения классовой борьбы и Каутский и Плеханов перешли в лагерь буржуазии.
Когда классовая борьба обостряется и революция становится в порядок дня, наступает настоящая проверка и партий и вождей. Партии и вожди должны на деле доказать свою способность руководить борьбой масс. Если тот или иной лидер перестает служить делу своего класса, сворачивает с революционного пути, изменяет народу, массы разоблачают и покидают его. История знает немало политических деятелей, которые обладали в свое время некоторой популярностью, но затем переставали выражать интересы масс, отрывались от них, изменяли трудящимся, и тогда массы отходили от них или сметали их со своей дороги.
«Русская революция ниспровергла немало авторитетов,— говорил товарищ Сталин в 1917 г.— Её мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед «громкими именами», брала их на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у неё. Их, этих «громких имён», отвергнутых потом революцией,— целая вереница. Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые тем только и замечательны, что они старые». (И. В. Сталин, Соч., т. 3, стр. 386).
Какими же качествами должен отличаться вождь пролетариата, чтобы справиться со сложнейшими задачами руководства его классовой борьбой? На этот вопрос товарищ Сталин ответил: «Чтобы удержаться на посту вождя пролетарской революции и пролетарской партии, необходимо сочетать в себе теоретическую мощь с практически-организационным опытом пролетарского движения». (И. В. Сталин, О Ленине, Госполитиздат, 1949, стр. 20-21).
Только величайшие гении пролетариата — Маркс и Энгельс, а в нашу эпоху Ленин и Сталин — в полной мере сочетают в себе эти свойства, необходимые для вождей рабочего класса.
Товарищ Сталин, говоря о деятелях ленинского типа, о руководителях большевистской партии, подчеркивает, что это деятели нового типа. Их свойством, их особенностями являются ясное понимание задач рабочего класса и законов развития общества, прозорливость, дальновидность, трезвый учет обстановки, смелость, великое чувство нового, революционное мужество, бесстрашие, связь с массами, безграничная любовь к рабочему классу, к народу. Большевистский деятель должен не только учить массы, но и учиться у масс. Это коренным образом отличает деятелей рабочего класса, деятелей коммунизма от буржуазных деятелей, от общественных деятелей старого типа, подвизавшихся в прошлом на исторической арене.
Всемирно-историческая роль Маркса и Энгельса
Всемирно-историческая роль Маркса и Энгельса определяется тем, что они являются гениальными вождями и учителями международного рабочего класса, творцами величайшего учения — марксизма. Маркс и Энгельс впервые открыли и научно обосновали историческую роль пролетариата как могильщика капитализма, как творца нового, коммунистического общества. Ленин, определяя историческую роль Маркса и Энгельса, писал: «В немногих словах заслуги Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно выразить так: они научили рабочий класс самопознанию и самосознанию, и на место мечтаний поставили науку». (В. И. Ленин, Фридрих Энгельс, 1949, стр. 6).
Гениальность Маркса состояла в том, что он дал ответы на вопросы, которые поставила передовая мысль человечества. Марксизм возник как продолжение развития предшествующей философии, политической экономии и социализма, он — законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX в. Вместе с тем возникновение марксизма знаменовало собой величайшую революцию в области философии, политической экономии, теории социализма.
Ни одно из самых великих научных открытий прошлого не оказало такого мощного влияния на исторические судьбы человечества, на ускорение хода общественного развития, как гениальнейшее учение Маркса. В отличие от различных философских школ прошлого, в отличие от различных утопических систем социализма, создававшихся разными мыслителями - одиночками, марксизм как мировоззрение, как учение научного социализма явился знаменем борьбы рабочего класса. В этом его неодолимая сила.
На протяжении целого столетия учение Маркса и Энгельса, развитое в нашу эпоху Лениным и Сталиным, является боевым знаменем рабочего класса всех стран. Все прогрессивное движение человечества осуществляется в наше время под влиянием бессмертных идей марксизма-ленинизма.
Маркс был величайшим мыслителем, создателем научного философского мировоззрения, творцом науки о законах общественного развития, научной политической экономии, научного социализма. Одного этого было бы достаточно, чтобы сделать имя его бессмертным в веках. Но Маркс был не только творцом «Капитала» и многих других гениальных теоретических произведений; он был также и организатором, вдохновителем, душой I Интернационала — Международного товарищества рабочих.
Фридрих Энгельс — великий друг Маркса — также был одним из основателей марксизма. Ему также принадлежит честь открытия и разработки общефилософских основ марксизма, исторического материализма. Жизнь, научное творчество, политическая деятельность Маркса и Энгельса тесно переплелись между собой. Фридрих Энгельс, отмечая великую заслугу Маркса и свое участие в разработке теории марксизма, писал: «Я не могу отрицать, что я и до и во время моей сорокалетней совместной работы с Марксом принимал известное самостоятельное участие как в обосновании, так и в особенности в разработке теории, о которой идет речь. Но огромнейшая часть основных руководящих мыслей, особенно в экономической и исторической области, и, еще больше, их окончательная разная формулировка принадлежит Марксу. То, что внес я, Маркс мог легко сделать и без меня, за исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А того, что сделал Маркс, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал больше и скорее всех нас. Маркс был гений, мы, в лучшем случае, — таланты. Без него наша теория далеко не была бы теперь тем, что она есть. Поэтому она справедливо называется его именем». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 366).
Создать марксизм как мировоззрение, придать новому учению ту великую глубину, всеобъемлющий, строгий и стройный характер, блеск, цельность, внутреннюю связь его частей, величайшую силу убедительности, железную логику — все это мог в то время свершить лишь творческий гений, подобный великому гению Маркса. После смерти Маркса Энгельс в письме к Зорге, оценивая историческую роль Маркса, писал: «Человечество стало ниже на одну голову, и притом на самую значительную из всех, которыми оно в наше время обладало». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 367).
Влияние Маркса, его великого учения, его бессмертных идей не уменьшилось со смертью Маркса. Это влияние ныне неизмеримо шире и глубже, чем оно было при жизни его творца. Учение Маркса является великой движущей революционной силой исторического развития. В этом сказывается истинность учения Маркса. Это великое учение явилось выражением потребностей исторического развития. Содержание учения марксизма, круг его великих идей — это не произвольное построение гениального ума, а глубочайшее отражение назревших общественных потребностей. Сила и величие учения и дела Маркса и Энгельса состоят в силе и величии международного революционного движения пролетариата. Конечная судьба этого движения — победа коммунизма — не зависит от жизни и смерти отдельных людей, даже великих. Но великие вожди, подобные Марксу и Энгельсу, светом своего гения озаряют мир, освещают путь развития, путь борьбы рабочего класса, сокращают этот путь, ускоряют движение, уменьшают число жертв борьбы.
Ленин и Сталин - вожди международного пролетариата, великие продолжатели дела и учения Маркса и Энгельса
Непобедимая сила и жизненность рабочего движения, социализма сказались в том, что после смерти Маркса и Энгельса это движение выдвинуло на историческую арену двух могучих гигантов, корифеев научной мысли — Ленина и Сталина. О величии и значении той или иной исторической эпохи судят по величию и значению событий, происшедших в эту эпоху. Об исторических деятелях, их величии, значении и роли судят по величию дел, ими свершенных, по их роли в событиях, в историческом движении, которое они возглавляют, по мощи того влияния которое они оказывают на это движение.
Эпоха Ленина и Сталина — самая значительная, самая богатая во всемирной истории по значимости и богатству событий, по огромности людских масс, участвующих в движении, по темпам поступательного развития, по глубине совершенного и совершаемого переворота.
Всемирно-историческая заслуга Ленина и Сталина состоит прежде всего в том, что они дали гениальный научный анализ новой стадии капитализма — империализма, вскрыли закономерности его развития, указали и научно обосновали задачи рабочего класса, разработали теорию, стратегию и тактику социалистической революции, пути завоевания диктатуры пролетариата и строительства социализма и коммунизма, создали партию нового типа — великую партию большевиков. Ленин и Сталин дали научное обобщение всех событий нашей эпохи и философское обобщение того нового, что добыла наука за период после смерти Энгельса. Ленин и Сталин отстояли чистоту учения Маркса от опошления его оппортунистами всех мастей и, опираясь на основные принципы марксизма, всесторонне, творчески развили его дальше, создав ленинизм как марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Ленин открыл закон неравномерного экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма. Ленин и Сталин создали новую теорию пролетарской революции, учение о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой, стране и привели рабочий класс России к победе социализма.
Враги большевизма — меньшевики, троцкисты и т. п. — хватались за устаревший вывод Маркса и Энгельса о невозможности победы социализма в одной стране, обвиняли Ленина, а затем и Сталина в отступлении от марксизма. Ленин и Сталин трезво учли изменившуюся историческую обстановку и заменили вывод Маркса и Энгельса о невозможности победы социализма в одной стране — вывод, переставший соответствовать изменившимся условиям, — новым выводом, выводом о том, что одновременная победа социализма во всех странах стала невозможной, а победа социализма в одной, отдельно взятой, капиталистической стране стала возможной.
«Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма, если бы у него не хватило теоретического мужества откинуть один из старых выводов марксизма, заменив его новым выводом о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой, стране, соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках, пролетарская революция лишилась бы руководства, марксистская теория начала бы хиреть. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата». («История ВКП(б), Краткий курс», стр. 341.
Революционное творчество масс создало в революции 1905 г. 1917 гг. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ленин открыл в Советах новую, наилучшую форму диктатуры рабочего класса и тем самым творчески обогатил, развил марксизм. «Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма и не решился заменить одно из старых положений марксизма, сформулированное Энгельсом, новым положением о республике Советов, соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках, Советы были бы дезорганизованы, мы не имели бы Советской власти, марксистская теория потерпела бы серьезный урон. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата». («История ВКП(б), Краткий курс», стр. 341).
Для успеха революции, после того как созрели ее объективные предпосылки, нужны не только ясные, понятные массам лозунги, выражающие их думы, чаяния, стремления, но также и правильный выбор момента вооруженного восстания, когда революционная ситуация созрела. Выступив раньше времени, можно обречь пролетарскую армию на поражение; упустив момент, можно было все проиграть. В известном письме к членам ЦК партии накануне Октябрьского восстания Ленин писал:
«Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно... теперь все висит на волоске... Решать дело сегодня непременно вечером или ночью.
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все... Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!
Промедление в выступлении смерти подобно». (В. И. Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 203, 204).
Ленин и Сталин — гении революции, ее величайшие вожди. Благодаря их мудрому и умелому руководству пролетарское восстание 25 октября 1917 г. победило быстро и с минимальными жертвами. Ленинско-Сталинское руководство рабочим классом было необходимым условием победы Великой Октябрьской социалистической революции.
Товарищ Сталин говорит о Ленине, что он был «поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений... никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчётливо, как во время революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони». (И. В. Сталин, О Ленине, 1949, стр. 49). Это же относится в полной мере и к товарищу Сталину, величайшему гению революции, ее стратегу и вождю.
Ленин и Сталин вошли в историю не только в качестве творцов теории ленинизма, но и как основоположники, организаторы коммунистической партии и первого в мире социалистического государства. Советскому народу пришлось преодолевать величайшие трудности в строительстве социалистического общества при относительной отсталости страны и в условиях капиталистического окружения. Роль партии большевиков и ее вождей Ленина и Сталина в строительстве социализма состояла в том, что они, опираясь на научную теорию, на глубочайшее знание законов общественного развития, законов строительства социализма, указали верные, надежные пути и средства преодоления трудностей строительства социализма, мобилизовали и организовали массы.
Советский народ строил социализм впервые. Многочисленные враги стремились сбить народ с правильного пути, посеять у него неверие в свои силы, в способность построить социализм. Не разгромив врагов народа — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, националистов, — не разоблачив, не развенчав их подлых «теорий» и провокаторских политических установок, их стремления подорвать монолитное единство партии, нельзя было построить социалистическое общество. Мудрая ленинско-сталинская политика, беспощадная борьба с врагами партии обеспечили победу социализма в нашей стране. Вдохновителем и организатором этой борьбы с врагами партии, врагами социализма был великий Сталин. После смерти Ленина он сплотил, объединил кадры партии на осуществление заветов Ленина.
Мудрость и прозорливость Сталина и его железная, несгибаемая воля дали возможность советскому народу осуществить индустриализацию страны в кратчайший исторический срок. Опираясь на мощную социалистическую индустрию, советский народ смог отстоять страну социализма в Отечественной войне и победить врага. Нельзя было победить врага, если бы в СССР не было достаточно хлеба, если бы не произошла великая революция в сельском хозяйстве — коллективизация крестьянского хозяйства на основе передовой техники. Коллективизация крестьянского хозяйства была осуществлена на основе ленинско-сталинской теории, под руководством Сталина.
Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием советского социалистического строя, его жизненной силы, испытанием для партии и для советского народа. И это испытание было выдержано с честью. Победил великий советский народ, руководимый партией большевиков и светлым, благородным гением Сталина. Советский народ знал свои силы, он знал и верил, что товарищ Сталин, который провел наш государственный корабль через все трудности гражданской войны и строительства социализма, приведет его к победе и над фашистскими агрессорами.
Подобно тому как гражданская война 1918—1920 гг. родила героев и выдающихся полководцев, Великая Отечественная освободительная война против германского фашизма родила массовый героизм и выдвинула целую плеяду выдающихся, первоклассных полководцев, воспитанников Сталина.
В моменты великих испытаний с особенной ясностью сказывается роль подлинного вождя. Когда враг в 1941 г. вторгся в пределы социалистического отечества, обстановка создалась трудная и сложная. Оценить правильно обстановку, взвесить силы врага и силы собственного народа, показать народу глубину грозящей опасности и указать средства, пути к победе, сплотить миллионы, возглавить их борьбу — это было сделана товарищем Сталиным, и в этом великая заслуга вождя. Каждое выступление товарища Сталина, каждый его приказ имели огромное вдохновляющее, мобилизующее, организующее значение. Сталин будил ненависть к врагу, любовь к родине, к народу. Сталину принадлежит заслуга создания новой военной науки, науки побеждать врага. На основе сталинской военной стратегии и тактики под руководством товарища Сталина наши полководцы — маршалы, генералы, адмиралы — разрабатывали оперативные планы, претворяли их в жизнь, добивались победы. Гений Сталина вдохновлял и напутствовал бойцов на подвиги, поддерживал и умножал силы миллионов тружеников тыла и воинов на фронтах.
Сила подлинного пролетарского вождя состоит в том, что он сочетает величайшую теоретическую мощь с огромным практическим, организаторским опытом. Сталин — корифей марксистско-ленинской науки. Он владеет знанием законов общественного развития, знанием природы классов, партий, их руководителей. Знать — значит предвидеть. Подобно Ленину Сталин обладает даром величайшего научного предвидения и проникновения в суть событий. Он видит глубже, чем кто-либо, и не только то, как события развертываются сегодня, но и то, в каком направлении они будут развертываться в будущем.
Сталин вооружил нашу партию, советский народ программой осуществления постепенного перехода от социализма к коммунизму. Он дал глубокий анализ и указал перспективы международного коммунистического движения.
Сталин — вождь великой партии, великого народа. Его сила в тесной, неразрывной связи с народом, в безграничной Любви к нему сотен миллионов простых людей, трудящихся всего мира. Сталин олицетворяет морально-политическое единство советского народа. Он воплощает и выражает то великое мудрое, что есть в советском народе: его светлый, ясный ум, его стойкость, мужество, благородство, его несгибаемую волю! Народ видит и любит в Сталине воплощение своих лучших качеств.
Характеризуя типы вождей, товарищ Сталин писал:
«Теоретики и вожди партий, знающие историю народов, проштудировавшие историю революций от начала до конца, бывают иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта называется боязнью масс, неверием в творческие способности масс. На этой почве возникает иногда некий аристократизм вождей в отношении к массам, не искушённым в истории революций, но призванным ломать старое и строить новое. Боязнь, что стихия может разбушеваться, что массы могут «поломать много лишнего», желание разыграть роль мамки, старающейся учить массы по книжкам, но не желающей учиться у масс, — такова основа этого рода аристократизма.
Ленин представлял полную противоположность таким вождям. Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин. Я не знаю другого революционера, который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков «хаоса революции» и «вакханалии самочинных действий масс», как Ленин...
Вера в творческие силы масс — это та самая особенность В деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить стихию и направлять её движение в русло пролетарской революции». (И. В. Сталин, О Ленине, 1949, стр. 47-48, 49).
Безграничная вера в творческие силы миллионных народных масс характеризует и товарища Сталина как вождя советского народа, как вождя международного пролетариата.
«Все поражает в этом великом человеке, — пишет А. Н. Поскребышев. — Его глубокая, не знающая компромиссов принципиальность при решении важнейших и сложнейших вопросов, в которых запутывались очень многие умы, удивительная ясность и строгость мышления, непревзойденное умение схватить в вопросе основное, главное, новое, решающее, от чего зависит все остальное. Колоссальный энциклопедический запас знаний, все время пополняемых в процессе творческого, созидательного труда. Безграничная работоспособность, не знающая устали и срывов. Беспредельная отзывчивость на все явления жизни, на такие, мимо которых проходят даже очень вдумчивые люди. Многократно доказанная, ему одному присущая способность исторического предвидения. Стальная воля, ломающая все и всякие препятствия для достижения раз намеченной цели. Большевистская страстность к борьбе. Полнейшее бесстрашие перед личными опасностями и пород крутыми, чреватыми серьезными последствиями, поворотами истории». (А. Поскрёбышев, Учитель и друг человечества. Сб. «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения», изд. «Правда», 1939, стр. 173-174).
«Он, как и Ленин, олицетворяет глубочайшую любовь к человеку и беззаветную борьбу за его полное освобождение, за его счастье, — пишет А. И. Микоян.— Сталину чужды всякая мягкотелость и терпимость к врагам народа. Сталин осторожен и расчетлив, когда надо принимать решение. Сталин смел, мужественен и неумолим, когда вопрос решен и надо действовать. Раз цель поставлена и борьба за нее начата — никакого отклонения в сторону, никакого рассеивания сил и внимания, пока главная цель не достигнута, пока победа не обеспечена. У Сталина железная логика. С непоколебимой последовательностью одно положение вытекает из другого, одно обосновывает другое... Путь ко многим блестящим победам большевизма лежит через временные поражения. В такие моменты все личные качества Сталина, как человека и революционера, поражают окружающих. Он бесстрашен и смел, он непоколебим, он хладнокровен и расчетлив, он не терпит колеблющихся, нытиков и хныкающих. И после победы он также сохраняет спокойствие, увлекающихся сдерживает, не дает почивать на лаврах; он превращает одержанную победу в трамплин для достижения новой победы». (А. Микоян, Сталин – это Ленин сегодня. Сб. «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения», изд. «Правда», 1939, стр. 75-76).
Ясность и определенность, правдивость и честность, бесстрашие в бою и беспощадность к врагам народа, мудрость и неторопливость при решении сложных вопросов, безграничная любовь к своему народу, преданность международному пролетариату как величайшей революционной силе современности — вот основные отличительные черты Ленина и Сталина как исторических деятелей нового типа, как вождей коммунистического движения, как народных героев нашей великой эпохи.
Ленин писал о народных героях и их исторической роли: «А такие народные герои есть. Это — люди, подобные Бабушкину. Это — люди, которые не год и не два, а целые 10 лет перед революцией посвятили себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Это — люди, которые не растратили себя на бесполезные террористические предприятия одиночек, а действовали упорно, неуклонно среди пролетарских масс, помогая развитию их сознания, их организации, их революционной самодеятельности. Это — люди, которые встали во главе вооруженной массовой борьбы против царского самодержавия, когда кризис наступил, когда революция разразилась, когда миллионы и миллионы пришли в движение. Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин. Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации». (В. И. Ленин, Соч., т. 16, изд. 4, стр. 334).
Свержение царизма, власти помещиков и капиталистов, уничтожение эксплуатации человека человеком, создание социалистического общества в СССР — все это достигнуто героической, самоотверженной борьбой народных масс, руководимых коммунистической партией и ее вождями Лениным и Сталиным.
Историческая роль великих вождей рабочего класса состоит в том, что они благодаря своему опыту, знанию законов общественного развития мудро руководят борьбой рабочего класса и ускоряют историческое движение, обеспечивают достижение главной цели — коммунизма.
Итак, исторический материализм учит, что не отдельные личности, герои, вожди, полководцы, оторванные от народа, а народ, трудящиеся массы являются главным творцом истории общества. Вместе с тем исторический материализм признает огромную роль выдающихся личностей, передовых, прогрессивных деятелей в истории, в развитии общества. Передовые общественные деятели, понимающие условия жизни своей эпохи и назревшие исторические задачи, ускоряют своей деятельностью ход истории, облегчают решение назревших исторических задач. Великий Сталин учит коммунистические партии быть бдительными, охранять своих вождей, руководителей.
Глава четырнадцатая. Общественное сознание и его формы
1. Общественное сознание как отражение условий материальной жизни общества
Раскол мира на два противоположных лагеря — лагерь социализма, мира и демократии и лагерь империалистической реакции и поджигателей войны — находит свое выражение и в идеологической борьбе. Во всех капиталистических странах происходит ожесточенная борьба новых, передовых общественных идей против реакционных идей буржуазии, борьба, охватывающая область политики, морали,науки,философии, искусства. Это борьба двух противоположных идеологий, двух взаимоисключающих друг друга мировозрений. Знаменосцем новых, передовых общественных идей, передовой социалистической идеологии, идей прочного мира, социалистической демократии, передового научного мировоззрения является страна социализма — СССР. Центром реакционных империалистических идей, реакционной идеологии, реакционного идеалистического мировоззрения, поповщины, мистики, мракобесия являются ныне правящие круги США и Англии.
Чтобы понять сущность, значение и перспективы происходящей в нашу эпоху борьбы между передовыми, революционными идеями коммунизма и реакционными идеями и теориями, необходимо знать действительный источник происхождения этих идей, взглядов, теорий, мировозрений, надо понять их классовую природу и их роль в развитии общества, в борьбе классов.
Советский Союз вступил в полосу постепенного перехода от социализма к коммунизму. В этих условиях приобрело огромное значение дело коммунистического воспитания трудящихся, борьба за полное преодоление пережитков капитализма в сознании советских людей, борьба за дальнейший расцвет социалистической культуры: советской науки, литературы и искусства. Чтобы понять задачи и значение деятельности коммунистической партии и социалистического государства области коммунистического воспитания трудящихся, необходимо знать закономерности формирования общественного сознания, общественных идей и их роль и развитии общества.
Несостоятельность идеалистических взглядов на развитие общественного сознания
В различные эпохи истории общества господствовали различные общественные взгляды, общественные идеи, политические, эстетические, философские теории. В чем причина общественного изменения идей, взглядов, теорий?
Идеалисты ищут ответа на эти вопросы в самих идеях, в их изменении и развитии. Они рассматривают развитие общественного сознания как самодовлеющий процесс, независимый от условий материальной жизни общества. Одни идеалисты, как, например, Гегель, видят причины развития общественного сознания в развитии «абсолютной идеи», «мирового духа». Но «абсолютная идея», или «мировой дух», это не более как фикция, вымысел идеалистов. Гегель отрывает сознание людей, их духовную деятельность от самих людей., от жизненной основы — от условий материальной жизни общества и тем самым мистифицирует общественные идеи.
Другие идеалисты ищут источник развития общественного сознания в таинственных извечных свойствах «национального духа» или расы. Но реально в общественной жизни не существовало и не существует никаких неизменных свойств «народного духа» или расы. История доказывает, что идеи и взгляды людей изменяются в зависимости от изменения условий их жизни. В одну и ту же эпоху различные общественные классы, принадлежащие к одной и той же расе и нации, являются сторонниками совершенно противоположных общественных идей, политических взглядов и общественных теорий. Никакими свойствами расы, «национального духа» нельзя объяснить этой противоположности идей, взглядов, теорий. История свидетельствует о том, что даже один и тот же общественный класс, например буржуазия в лице ее идеологов, в различные периоды своего развития может придерживаться совершенно различных взглядов на природу, на государственное устройство, на демократию, на свободу и национальный суверенитет народов и т. д. Недаром говорят, что, если бы Линкольн или Джефферсон появились в современной Америке, правительство США обвинило бы их в антиамериканской деятельности, нашло бы их образ мыслей «не американским», и им пришлось бы предстать перед комиссией Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности.
Само собой понятно, что причины такой метаморфозы политических взглядов буржуазии лежат не в сфере «национального духа», не в духовной жизни, а в изменившихся условиях материальной жизни буржуазного общества, в превращении буржуазии из класса прогрессивного в класс реакционный.
Фридрих Энгельс, критикуя идеалистические взгляды буржуазных идеологов, писал, что все они в объяснении идеологического процесса исходят из ложных, призрачных причин. Истинные побудительные силы, обусловливающие развитие общественной мысли, остаются для них неизвестными. Рассуждая об идеологическом процессе, социолог-идеалист «выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления — или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и от мышления независимого источника. Такой подход к делу кажется ему само собой разумеющимся, так как для него всякое человеческое действие кажется основанным в последнем счете на мышлении, потому что совершается при посредстве мышления». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 462). «...Видимость самостоятельной истории форм государственного устройства, правовых систем, идеологических представлений в любой области прежде всего и ослепляет большинство людей».(Там же, стр. 463).
Глубочайшей причиной такого превратного, идеалистического представления о развитии общественного сознания, общественных идей, политических и философских взглядов и теорий является отделение умственного труда от физического, монополизация умственного труда эксплуататорскими классами и их идеологами. Только в этих условиях могло возникнуть и упрочиться представление о развитии идеологии, форм общественного сознания, как самодовлеющем процессе, не зависимом от условий материальной жизни общества.
Классовые интересы побуждают идеологов буржуазии извращать действительную связь явлений общественной жизни,отрывать духовный процесс от условий материальной жизни общества. К чему приводит на практике такой идеалистический взгляд на происхождение идей, можно судить по книге американского историка Мак Говерна «От Лютера до Гитлера» (Бостон). Мак Говерн ищет истоки реакционной идеологии германского фашизма в учениях Макиавелли, Лютера, Гегеля, Гоббса, Дж. Чемберлена. Он сознательно или инстинктивно не затрагивает действительной основы, на которой вырастает фашизм и его идеология. Эта основа — монополистический капитализм, империализм. Понятно,почему буржуазные социологи боятся касаться этого действительного корня, источника фашистской реакционной империалистической идеологии: указание на эту причину показало бы внутреннее родство всей реакционной идеологии империалистической буржуазии с фашистской идеологией.
Идеологическая надстройка, ее зависимость от экономического базиса
Исторический материализм учит, что действительный источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, политических, философских, эстетических взглядов, религиозных верований нужно искать не в самих этих идеях, взглядах, верованиях, не в головах идеологов, а в условиях материальной жизни общества.
«...Если в различные периоды истории общества, —пишет И. В. Сталин,— наблюдаются различные общественные идеи, теории, взгляды, политические учреждения, если при рабовладельческом строе встречаем одни общественные идеи, теории, взгляды, политические учреждения, при феодализме —другие, при капитализме — третьи, то это объясняется не «природой», не «свойством» самих идей, теорий, взглядов, политических учреждений, а различными условиями материальной жизни общества в различные периоды общественного развития». (И.В.Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 545).
Сознание, духовная жизнь людей всегда является отражением условий материальной жизни общества. Общественное сознание, говорил Маркс, никогда не может быть чем-либо иным, как только осознанным бытием. Даже туманные, фантастические религиозные представления людей, и те являются продуктом материального жизненного процесса, отражением условий материальной жизни общества. В буржуазной идеологии, например, люди и их общественные отношения ставятся как бы на голову, словно в камере-обскуре. Это определяется характером исторического процесса материальной жизни буржуазного общества.
В общественном сознании людей всегда отражаются условия их материальной жизни. Но как именно эти условия отражаются, это зависит от ступени исторического развития, от экономического базиса общества.
Все многообразные политические, правовые, религиозные, художественные, философские, моральные взгляды общества представляют идеологическую надстройку над экономическим базисом.
«Всякий базис имеет свою, соответствующую ему надстройку, — учит товарищ Сталин.— Базис феодального строя имеет свою надстройку, свои политические, правовые и иные взгляды и соответствующие им учреждения, капиталистический базис имеет свою надстройку, социалистический — свою. Если изменяется и ликвидируется базис, то вслед за ним изменяется и ликвидируется его надстройка, если рождается новый базис, то вслед за ним рождается соответствующая ему надстройка».(И.В.Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 5-6).
Функция надстройки, как указывает товарищ Сталин, состоит в том, что она обслуживает общество политическими, юридическими, эстетическими и другими идеями и создает для общества соответствующие политические, юридические и другие учреждения. В классовом обществе идеологическая надстройка носит классовый характер и обслуживает определенные классы. Так. как политические и юридические учреждения строятся классами сознательно, то в их создании большое значение имеют определенные политические и правовые взгляды, идеи, которыми руководствуется, которых придерживается данный класс. Политические и правовые взгляды оказывают также влияние на эстетические теории, которыми руководствуются в своем художественном творчестве люди искусства, на этические (моральные) идеи, которые лежат в основе различных систем морали,на философские взгляды и т. д.
Идеологическая надстройка в целом определяется экономическим базисом общества. Поэтому коренное изменение идеологической надстройки есть результат изменения экономического базиса. Как учит товарищ Сталин, надстройка есть «продукт одной эпохи, в течение которой живёт и действует данный экономический базис. Поэтому надстройка живёт недолго, она ликвидируется и исчезает с ликвидацией и исчезновение данного базиса». (И.В.Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 9).
Отделение умственного труда от физического и его влияние на развитие идеологии
На ранних ступенях общественного развития связь, зависимость общественного сознания, общественных взглядов от условий материальной жизни общества и прежде всего от способа производства материальных благ особенно ясна, очевидна. Там умственный труд еще не успел отделиться от физического, процесс воспроизводства общественной жизни представлял собой нечто единое, целостное, духовная деятельность людей была непосредственно как бы вплетена в материальную общественную жизнь. Примитивности, ограниченности материальной жизни людей в эпоху первобытно-общинного строя соответствовала ограниченность их духовной деятельности: религиозные верования отражали их беспомощность перед стихийными силами природы; искусство первобытных народов было художественным воспроизведением их производственной деятельности, общественной жизни.
С течением времени, особенно с возникновением противоположных классов и с отделением умственного труда от физического, усложняется вся общественная, в том числе и духовная жизнь людей. Возникает государство, а вместе с ним и право. Возникают и развиваются новые формы общественного сознания: появляются политические теории, наука, различные виды искусств, Самый процесс отражения в головах людей условий их материальной жизни также усложняется. Эту связь иногда бывает трудно увидеть, прощупать. Плеханов справедливо говорит, что, для того чтобы понять примитивные танцы первобытных людей, достаточно знать их способ производства материальных благ. Женщины-туземки в Африке в своих танцах воспроизводят собирание кореньев, мужчины — охоту и вооруженные столкновения. Но для понимания менуэта — «французского аристократического танца XVII—XVIII вв. — недостаточно знать характер хозяйственной деятельности французов того времени. Чтобы понять такой танец или другое подобное произведение искусства, нужно учитывать прежде всего экономический строй общества и разделение общества на классы, превращение феодального дворянства в паразитический класс праздных прожигателей жизни, учитывать психологию этого класса и т. д.
Критикуя вульгаризаторов, упростителей марксизма, товарищ Сталин пишет: «Надстройка не связана непосредственно с производством, с производственной деятельностью человека. Она связана с производством лишь косвенно, через посредство экономики, через посредство базиса. Поэтому надстройка отражает изменения в уровне развития производительных сил не сразу и не прямо, а после изменений в базисе, через преломление изменений в производстве в изменениях в базисе». (И.В.Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 10-11).
Преемственность и связь в развитии идеологии. Относительная самостоятельность развития идеологических надстроек
Развитие форм общественного сознания определяется изменениями в экономическом базисе общества. При этом некоторые формы общественного сознания испытывают определяющее влияние экономического базиса не только непосредственно, но и через социально политические отношения, через классовую борьбу или частично через другие формы общественного сознания, ближе примыкающие к базису общества. Нередко идеологические формы, существующие в данную эпоху, сохраняют идейное содержание, порожденное условиями прежних эпох. Например, такая идеологическая форма, как религия, наряду с содержанием, порождаемым капиталистическим способом производства, экономическим строем буржуазного общества, заключает в себе идеи, взгляды, унаследованные от далекого исторического прошлого. Так, широко распространенная в Европе и Америке христианская религия включает в себя многочисленные идеологические напластования, уходящие своими корнями в период первобытного общества (мифы о сотворении мира и человека, о первородном грехе и т. п.), рабства, феодализма. Искать основы всех этих религиозных нелепостей и предрассудков в экономической жизни современного буржуазного общества было бы абсурдным. Лишь в силу традиции и крайней консервативности религиозной идеологии, а также в силу заинтересованности буржуазии сохранении религии для обуздания трудящихся эти идеологические элементы далекого прошлого могут сохраняться ныне, при совершенно изменившихся экономических условиях, в век машин, электричества, атомной энергии и научной биологии.
Идеологические формы, раз возникнув, приобретают видимость независимости от экономического развития общества, относительную самостоятельность. В силу общественного разделения труда и прежде всего в силу отделения умственного труда от физического идеологический процесс, духовное производство до некоторой степени обособляется от материальной жизни общества. Отдельные индивиды начинают усваивать определенные чувства и взгляды на основе традиции и воспитания.
Идеологи, творцы идей, взглядов и иллюзий данного класса, разрабатывая определенные теории, научные, философские системы, художественные формы, в каждый данный момент исходят сознательно или бессознательно из интересов данного класса, но опираются они на накопившийся в данной области материал, созданный их предшественниками. Экономика, классовый интерес оказывают воздействие на то, что именно из созданного предшественниками отбрасывается и что наследуется, определяя собой то направление, в котором происходит изменение идей, взглядов. Однако и в тех случаях, когда писатели, художники, ученые, философы продолжают традиции своих предшественников, и в тех случаях, когда они более или менее радикально или даже целиком разрывают с ними, накопленный в предшествующие эпохи материал не остается бесследным и оказывает то или иное влияние на дальнейший ход духовного развития общества.
Поэтому каждая идеологическая область — правовые и политические теории, мораль и философия, искусство, религия — имеет свою специфику развития, будучи особой, своеобразной формой общественного сознания. «Как особая область разделения труда, философия каждой эпохи располагает в качестве предпосылки определенным мыслительным материалом, который передан ей ее предшественниками и из которого она исходит»,— указывал Энгельс. (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 430). Определяющее влияние экономического развития (в конечном счете) на различные области идеологии Энгельс считал неоспоримым, но при этом указывал, что «оно имеет место в рамках условий, которые предписываются самой данной областью: в философии, например, воздействием экономических влияний (которые опять-таки оказывают действие по большей части только в своем политическом и т. п. одеянии) на имеющийся налицо философский материал, доставленный предшественниками». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 430).
В развитии таких форм общественного сознания, как философия, наука, искусство, и каждой стране имеется определенная идейная преемственность, традиция. В России, например, научная материалистическая традиция идет от Ломоносова и Радищева через Герцена и Белинского к Чернышевскому и Добролюбову, к Сеченову, Павлову, Тимирязеву. В области литературы существует преемственная связь между творчеством Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого. Существует преемственность между великой русской классической литературой прошлого и принципиально новой по своей социальной сущности советской литературой.
Учитывая эту преемственность, партия Ленина—Сталина учит кадры, весь народ критически овладевать великим культурным наследством прошлого, в частности и в особенности сокровищами передового русского классического искусства, а также сокровищами передового искусства, созданного другими народами. Нельзя создавать новую, передовую, пролетарскую социалистическую культуру, не опираясь на критическое освоение всех сокровищ передовой культуры, созданной человечеством в прошлом. Критикуя вульгаризаторов, упростителей марксизма — «пролеткультовцев», В. И. Ленин говорил:
«Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества». (В.И.Ленин, Соч., т. ХХХ, изд. 3, стр. 406).Так в борьбе против сторонников махиста А. А. Богданова В. И. Ленин защищал необходимость критического овладения великим культурным наследством прошлого для создания самой передовой, социалистической культуры.
На совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) А.А.Жданов говорил:
«Мы, большевики, но отказываемся от культурного наследства. Наоборот, мы критически осваиваем культурное наследство всех народов, всех эпох, для того, чтобы отобрать из него все то, что может вдохновлять трудящихся советского общества на великие дела в труде, науке и культуре». («Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)», изд. «Правда», 1948, стр. 147).
По своей классовой сущности советская идеологии, советская культура принципиально отличны от всей предшествующей идеологии и культуры. Это — пролетарская, социалистическая культура. Но она возникла не на «чистом» месте, не без связи с культурным наследием прошлого.
Таким образом, нельзя сводить развитие философии, науки, искусства и т. п. к простой «филиации идей», как это делают идеалисты. Надо искать корни идей в общественном бытии людей, в их классовом бытии, в способе производства. Но нельзя также отрицать связь и преемственность в развитии идеологических форм, нельзя упрощать дело и выводить все идеологические явления непосредственно из производства.
При анализе возникновения и развития форм общественного сознания, их связи с экономическим базисом надо учитывать также их взаимодействие с политической и правовой надстройкой, взаимодействие самих идеологических форм между собой: нравственности и религии, нравственности и науки, нравственности и искусства, искусства и философии и т. д. Так, например, на развитие морали оказывали влияние религия, философия; на развитие идеалистической философии оказывала влияние религия и наоборот; философия и религия оказывали влияние на искусство и т. д. Только при всестороннем учете этого взаимодействия можно правильно понять сложный процесс развития общественного сознания, развитие духовной жизни каждого класса и общества в целом.
В противоположность этому вульгаризаторы марксизма типа Бернштейна, Шулятикова, А. А. Богданова, М. Н. Покровского пытались непосредственно выводить идеологические формы из уровня производства, из состояния техники. Они представляли неправильно, упрощенно связь между духовной жизнью общества и производством, между идеологическими формами и производительными силами общества. Стремясь вывести сложные идеологические формы непосредственно из уровня развития производительных сил, они становились в тупик при объяснении таких явлений, как древнегреческое искусство, русская литература первой половины XIX в. и т. п.
Маркс отмечал, что «капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, каковы искусство и поэзия. Не понимая этого, можно прийти к выдумке французов восемнадцатого столетия, осмеянной уже Лессингом: так как мы в механике и т. д. ушли дальше древних, то почему бы нам не создать и эпоса? И вот является Генриада взамен Илиады!». (К.Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. I, 1936, стр. 239).
Отношение между развитием материального производства и искусством или по крайней мере некоторыми видами искусства неодинаково в различные исторические периоды. Древнегреческое рабовладельческое общество по уровню развития производительных сил стояло ниже феодального общества, но уровень развития искусства в древней Греции был выше, чем в период феодального средневековья. Само собой понятно, что указанные факты несоответствия между периодами расцвета некоторых видов искусства и периодами развития материального производства находят свое объяснение в условиях жизни данного общества, в данном способе производства.
Между экономической отсталостью России первой половины и середины XIX в. и расцветом ее художественной литературы существует на первый взгляд необъяснимое противоречие. Россия того времени — страна экономически отсталая, крепостническая. В ней свирепствовали царский деспотизм, произвол и насилие помещиков и чиновников. С беспощадным вандализмом царизм душил и подавлял все живое, прогрессивное, новое, революционное. Население России было почти поголовно неграмотным, за исключением небольшого слоя дворянства и разночинцев. Над Русью висела глухая ночь феодально-крепостнической реакции. И вот в этой стране возникает великая литература, целое блестящее созвездие выдающихся поэтов, писателей, критиков: Рылеев, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Огарев, Гончаров, Тургенев, Островский, Достоевский, Некрасов, Белинский, Добролюбов, Чернышевский. В середине столетия подымается величавая, исполинская фигура Толстого, ознаменовавшего своим творчеством целую эпоху, новый шаг в художественном развитии всего человечества. Ни одна страна в мире не знала подобного расцвета художественной литературы, не знала литературы, обладающей такой идейной мощью и такой силой воздействия на ход общественного развития.
Чем же это объяснить? Не противоречит ли этот факт материалистическому пониманию явлений общественной жизни? Нет, это закономерное явление противоречит лишь взглядам вульгарных, «экономических материалистов», но не марксизму-ленинизму. Известно, что Россия в 1812 г. пережила нашествие наполеоновских полчищ. Весь народ во главе с передовыми людьми поднялся на защиту родины. Разгром наглого врага, перед которым трепетала вся Западная Европа, вызвал волну подъема национального самосознания, чувство национальной гордости русского народа. После изгнания наполеоновских полчищ крестьянство усилило борьбу против крепостничества, являвшегося величайшим препятствием в развитии России. Восстание декабристов было революционной попыткой передовых русских людей, дворянских революционеров, свергнуть царизм и крепостничество. Но эта попытка в силу оторванности декабристов от народа потерпела крах, и реакция еще более усилилась.
В этих условиях художественная литература наряду с материалистической философией оказалась для передовых русских людей единственным средством идейного выражения насущных потребностей прогрессивного развития России, назревших потребностей борьбы против крепостничества и царизма. Величие русской классической литературы состоит в том, что она с потрясающей силой, в непревзойденной художественной форме заявила о думах, чаяниях, надеждах исстрадавшегося, угнетенного народа. Русская классическая литература возникла и расцвела как антикрепостническая сила, проникнутая великими идеями, интересами народа. Ее источник — глубочайшие экономические и классовые противоречия тогдашней России, неугасимая ненависть крестьянства к крепостничеству. Именно в этом и заключается неувядаемая сила русской классической литературы XIX в.
На этом примере мы видим, что, для того чтобы понять те или иные идеологические явления, нужно исходить из назревших потребностей развития материальной жизни общества, из классовых противоречий данного общества, из степени зрелости этих противоречий.
История капитализма знает примеры, когда в области идеологии экономически сравнительно отсталые страны играли ведущую роль по отношению к странам экономически передовым. Так, Франция в XVIII в. сначала в области философии, а затем, начиная с революции 1789 г., и в политической области играла передовую роль по отношению к Англии. Германия середины XIX в. была страной экономически более отсталой, чем Англия и Франция. Но в Германии тогда назревала буржуазно демократическая революция. Эта революция должна была происходить при более зрелых экономических и политических условиях, чем революция в Англии XVII в. или во Франции XVIII в. На историческую арену к этому времени не только в Англии, Франции, но и в Германии вышел рабочий класс. Германия была чревата буржуазно-демократической революцией, которая имела возможность превратиться в революцию социалистическую. Именно поэтому она и явилась родиной передового учения, учения рабочего класса всех стран — марксизма.
Маркс и Энгельс с позиций революционного пролетариата критически переработали все достижения научной и философской мысли своего времени и выковали подлинно научное мировоззрение. Марксизм явился научным обобщением опыта рабочего движения всех стран, величайшей революцией в науке и философии.
Ленинизм, т. е. марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, возник также в стране, которая в экономическом и политическом отношении не была передовой. Ленинизм возник в период крайнего обострения всех противоречий мирового империализма, когда капитализм превратился в монополистический, загнивающий капитализм, когда пролетарская революция стала в порядок дня. Россия конца XIX и начала XX в. представляла собой узел противоречий мирового империализма. Россия начала XX в., как и Германия 1848 г., была беременна революцией, причем были все возможности перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Вот почему именно Россия, а не какая-либо другая страна стала родиной ленинизма, а вожди русского рабочего класса Ленин и Сталин явились его творцами.
Данный И. В. Сталиным в «Вопросах ленинизма» анализ исторических корней ленинизма является классическим образцом того, как надо подходить к изучению условий возникновения и развития передовых идей.
2. Классовая сущность идеологии
В обществе, разделенном на непримиримо враждебные, антагонистические классы, не может быть внеклассовой идеологии: морали, философии, эстетических воззрений и т. д., как нет и не может быть людей, стоящих вне классов. Со времени раскола общества на враждебные классы, на угнетателей и угнетенных, эксплуататоров и эксплуатируемых, идеология всегда была классовой. При этом господствующей идеологией всегда была идеология экономически и политически господствующего класса, выражающая его положение, интересы, освящающая и закрепляющая его экономическое и политическое господство.
«В каждую эпоху, — писал Маркс,— мысли господствующего класса суть господствующие мысли, т. е. тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, в силу этого располагает и средствами духовного производства, так что благодаря этому ему в то же время в общем подчинены мысли тех, у кого нет средств для духовного производства. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. VI, стр. 36-37).
Справедливость этих положений Маркса подтверждена всей историей классового общества.
Идеология рабовладельческого общества
В рабовладельческом обществе господствовала идеология класса рабовладельцев. Эта идеология открыто защищала неравенство людей, считала рабство явлением естественным, соответствующим природе людей. Сам Зевс, по мифологии и преданиям древних греков, повелел рабам быть рабами. Аристотель учил, что рабство не только необходимо, но и естественно. Он писал, «что одни люди, по своей природе, — свободны, другие — рабы, этим последним быть рабами полезно и справедливо». (Аристотель. Политика, М. 1911, стр. 14).
В отличие от современной буржуазной идеологии, прикрывающей наемное рабство фразами о «равенстве» и «братстве», в философии Аристотеля выступает ничем не прикрытая, обнаженная апология античного рабства. Французский историк А.Валлон, автор книги «История рабства в античном мире», критикуя взгляды Аристотеля на рабство, негодует и недоумевает, как этот величайший ум древности не мог понять, что и рабы — люди. Если бы Аристотель, говорит Валлон, применил к этому факту всю силу своего ума, своей логики, он не пришел бы к ложному выводу о естественности рабства. Но дело, конечно, не в силе логики, не в непоследовательности мысли. Рабство во времена Аристотеля было явлением исторически необходимым, единственно возможной прогрессивной формой производства. Аристотель был идеологом господствующего класса рабовладельцев, он смотрел на рабство глазами рабовладельцев и исходил из их интересов.
Однако и в древности отношение к рабству не было одинаковым. В противовес рабовладельцам рабы ненавидели рабство и считали его несправедливым. Об этом прежде всего свидетельствуют многочисленные восстания рабов в Греции и Риме. История античного мира заполнена классовой борьбой. Эта борьба так или иначе получала свое выражение в области идей.
Идеология феодального общества
Переход от рабовладельческого общества к феодальному повлек за собой глубокие изменения не только в содержании общественного сознания, но и в соотношении различных его форм. В античном обществе наряду с религией доминирующую роль играла политическая идеология; значительное место принадлежало также философии и искусству. В период упадка рабовладельческого общества на первое место выдвигается религия. Религия становится всецело и безраздельно господствующей идеологической формой в эпоху феодализма. Все остальные формы общественного сознания: мораль, искусство, наука и философия в эпоху феодализма оказываются подчиненными религии. «...Церковь, — пишет Энгельс, — являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 128). Основные социальные идеи христианства, буддизма и ислама были направлены к оправданию феодального гнета, крепостничества. Христианство оправдывало монархический строй, объявляя кровавых деспотов — царей, королей, императоров помазанниками бога.
История феодального общества есть история борьбы крепостных крестьян против феодалов. Эта борьба крепостных получила свое отражение в области идеологии. В противовес официальной господствующей идеологии феодального общества возникали как выражение протеста крепостных крестьян и ремесленников против феодального гнета религиозные ереси — альбигойцев, анабаптистов (перекрещенцев) на западе Европы, секта стригольников и т. п. на Руси, Крестьяне считали, что земля ничья, «божья» и принадлежит всем. Распространеннейшее изречение крепостных во всех странах было: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, где тогда были дворяне?».
Преследования феодальной светской и церковной властью инакомыслящих — еретиков, сектантов, ученых — одна из самых кровавых страниц истории. «Святейшая» христианская инквизиция на своих кострах, в застенках замучила, истребила, сожгла многие сотни тысяч жертв. Только современный фашизм своими майданеками и освенцимами смог затмить и превзойти злодеяния средневековой католической инквизиции. Не случайно в наше время католическая церковь является одним из вдохновителей империалистической реакции как в области политической, так и идеологической. Католическая церковь наших дней во главе с римским папой оправдывает все зверства империалистов.
Идеология буржуазии
Если для эпохи феодализма были характерны относительная неподвижность, застой в сфере экономики и соответственно в сфере идеологической, то возникновение и первый период капиталистического общества характеризовались бурным развитием производительных сил, торговли, естествознания, разрушением всего окостенелого и застойного.
«Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Манифест Коммунистической партии, Госполитиздат, 1950, стр. 35-36).
В капиталистическом обществе буржуазная идеология выступает преимущественно в открытой политической и юридической форме. Энгельс называет юридическую идеологию специфически буржуазной. Но буржуазия поставила себе на службу и все другие формы идеологии, в том числе и испытанное орудие духовного подавления масс — религию, частью сохранив ее традиционный вид (католичество, православие), а частью реформировав ее (протестантизм, кальвинизм).
Использование буржуазией рабовладельческих и феодальных традиционных идеологических форм вполне понятно: рабство, и феодализм, и капитализм основаны на частной собственности на средства производства, на антагонизме классов, на эксплуатации человека человеком. Поэтому при всем различии между тремя типами идеологии эксплуататорских классов их многое объединяет. Недаром идеологи буржуазии обращаются к древним и средневековым образцам для обоснования и оправдания капиталистического строя.
Маркс писал о роли традиций в прошлых общественных движениях: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, чтобы переделывать себя и окружающее и создавать нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789—1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 г., то революционные традиции 1793—1795 годов... В классически строгих преданиях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 212, 213).
Если в периоды буржуазных революций буржуазия опиралась на прогрессивные, республиканские традиции, то в настоящее время она воскрешает все самое реакционное, рабовладельческое, средневековое, варварское, человеконенавистническое.
В свою революционную пору, в противовес крепостническому сословному неравенству, устами своих передовых идеологов буржуазия возвещала, что люди рождаются свободными и равными. Политическим лозунгом восходящей буржуазии был лозунг буржуазной демократии: «свобода, равенство, братство». Передовые идеологи буржуазии, стоявшие у колыбели капитализма, искренне верили, что они, защищая интересы буржуазии, защищают всеобщие интересы. И это была не только иллюзия. В уничтожении крепостничества, против которого они выступали, было заинтересовано действительно все общество кроме феодального дворянства. Вот как характеризует В.И.Ленин идеологов подымающейся буржуазии в противовес их современным презренным и реакционным потомкам: «... необходимо оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, узко, антиисторично понимают это слово, связывая с ним (без различия исторических эпох) своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного». (В.И.Ленин, Соч., т. 2, изд. 4, стр. 473).
Современный же капитализм означает открытую реакцию и в экономической, и в политической, и в духовной области. Реакционная сущность идеологии империалистической буржуазии нашла свое наиболее крайнее и отвратительное выражение в фашизме, в расовой, человеконенавистнической теории, в теории национальной исключительности, в оправдании империалистических войн, в идеологии космополитизма как разновидности национализма наиболее агрессивных кругов империалистической буржуазии, прежде всего буржуазии США и ее партнера по империалистическому грабежу и разбою — буржуазии Англии. Реакционная сущность империалистической буржуазии и ее идеологии с особой силой проявилась в разбойничьей войне германского фашизма и японского империализма, в их кровавых злодеяниях в Европе и Азии, в их политике порабощения и истребления целых народов.
После разгрома германского фашизма и японского империализма главарем империалистической реакции стала империалистическая буржуазия США и Англии. «Центр борьбы против марксизма переместился ныне в Америку и Англию. Все силы мракобесия и реакции поставлены ныне на службу борьбы против марксизма. Вновь вытащены на свет и приняты на вооружение буржуазной философии, служанки атомно-долларовой демократии, истрёпанные доспехи мракобесия и поповщины: Ватикан и расистская теория; оголтелый национализм и обветшалая идеалистическая философия; продажная жёлтая пресса и растленное буржуазное искусство». (А.А.Жданов, выступление на дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии», 1947, стр. 41-42).
Проповедь сумасбродной идеи мирового господства империализма США, подготовка войны против СССР и стран народной демократии, борьба против национального суверенитета и независимости народов, против национально-освободительных движений, программа империалистических «Соединенных штатов Европы» под эгидой США — вот главное содержание империалистической политики и империалистической идеологии американской и английской буржуазии. В идеологической борьбе против СССР, против сил коммунизма, мира и демократии идеологи империалистической буржуазии пытаются развенчать в глазах народных масс капиталистических стран величайший авторитет страны социализма, изобразить СССР как силу антидемократическую, а США, Англию и весь капиталистический мир — как силу демократическую. «Эта платформа идеологической борьбы — защита буржуазной лжедемократии и обвинение коммунизма в тоталитаризме — объединяет всех без исключения врагов рабочего класса, начиная от капиталистических магнатов и кончая лидерами правых социалистов, которые с величайшей готовностью подхватывают любую клевету на СССР, подсказанную их империалистическими хозяевами». (А.А.Жданов, О международном положении, Госполитиздат, 1947, стр. 29).
Лицемерие и ложь — одна из характерных черт буржуазной идеологии. Отъявленные враги демократии называют себя «демократической партией», враги республики называют себя «республиканской партией», враги свободы — «партией свободы» и т. д. Лицемерная болтовня о демократии, свободе, справедливости, всеобщем благе является для буржуазии прикрытием ее разбойничьей империалистической политики внутри и вне своей страны. Лицемерие буржуазной идеологии проистекает не из индивидуальных черт того или иного буржуазного идеолога, а из противоречивого характера капитализма, из его эксплуататорской, антинародной сущности. Теоретическим выражением лжи и лицемерия современной буржуазии является идеалистическая философия, проникнутая духом ханжества, мистицизма и мракобесия. Когда-то, в период молодости буржуазии, ее идеологи в ряде стран проповедовали материализм и атеизм. Став реакционной, буржуазия объявила материализму беспощадную войну. Ее идеологи проповедуют ныне мистику, мракобесие, самый пошлый идеализм.
Типичной чертой буржуазной идеологии является индивидуализм, выросший на почве частной собственности и конкуренции, которые превращают все буржуазное общество в поле беспощадной битвы. Так называемая капиталистическая предприимчивость, воспеваемая буржуазными экономистами и поэтами, социологами и публицистами, выливается в борьбу «всех против всех», по принципу «человек человеку — волк». В пору восходящего развития капитализма идеологи буржуазии проповедовали гуманизм. В наше время они проповедуют расовое человеконенавистничество, каннибализм. Самые человеконенавистнические взгляды и теории рабовладельцев, приравнивавших человека к скоту, воскрешены современной реакционной буржуазией и являются ее «символом веры».
В связи с особенностями исторического развития отдельных стран буржуазная идеология в этих странах приобретает свои особенности. Так, например, в эпоху империализма идеология немецкой буржуазии раньше/чем в Англии или во Франции, приобрела особо реакционные и агрессивные черты, нашедшие свое выражение в фашизме, гитлеризме. Но в ходе развития империализма буржуазно-демократические традиции, исторически унаследованные буржуазией отдельных стран, все больше и больше утрачиваются. Ныне буржуазия во всех странах стоит на антидемократических, агрессивно-реакционных фашистских или полу фашистских позициях.
В США помещики-плантаторы южных Штатов основывали свое хозяйство на зверской эксплуатации рабов-негров. «Для скрытого рабства наемных рабочих в Европе, — писал Маркс, — нужно было в качестве фундамента неприкрытое рабство в Новом Свете». (К.Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр.763). Официальной идеологией рабовладельцев-плантаторов был расизм, выраженный в самой грубой, циничной форме; расистская идеология всегда имела широкое распространение в США. Ныне она является официальной идеологией американской империалистической буржуазии, идеологической основой американского фашизма. Полный разрыв с буржуазно-демократическими принципами Линкольна и Джефферсона, проповедь идеологии фашизма, расизма, космополитизма — вот что в наше время составляет идеологическую основу внутренней и внешней политики американской буржуазии. Не только в своей собственной стране, но всюду, во всех капиталистических странах американская империалистическая буржуазия выступает вдохновителем реакции, похода против демократии, против профсоюзов, против коммунизма, против прогрессивных национально-освободительных движений в колониях.
Идеология пролетариата
Буржуазной, реакционной идеологии во всех странах капитализма противостоит революционная социалистическая идеология рабочего класса — марксизм-ленинизм, научный социализм.
Социалистическая идеология возникла как идеология самого передового класса — пролетариата, как выражение потребностей развития материальной жизни общества, коренных насущных задач современности. Если идеология буржуазии выражает интересы отживающей, реакционной силы, то марксизм-ленинизм есть выражение интересов самой передовой, революционной силы современности — рабочего класса, силы, которая с каждым днем все более мужает, крепнет, закаляется; этой силе, исторически призванной уничтожить капитализм и построить коммунизм, принадлежит будущее во всем мире. Весь ход общественного развития неизбежно ведет к победе этой великой, неодолимой силы.
Идеология рабочего класса — марксизм-ленинизм исходит из того, что капитализм является исторически преходящим, изживший себя, реакционным строем, что монополистический капитализм — это умирающий, загнивающий капитализм, что буржуазия — это класс, окончательно запутавшийся в неразрешимых для нее и все более обостряющихся антагонистических противоречиях. Социалистическая идеология исходит из того, что освобождение рабочего класса может быть лишь делом самого рабочего класса; что антагонизм пролетариата и буржуазии может быть разрешен только социалистической революцией, только путем установления диктатуры пролетариата и построением социализма и коммунизма; что рабочий класс не может освободить себя, не освободив все общество от эксплуатации человека человеком; марксизм-ленинизм учит, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы.
Таковы главные идеи социалистической идеологии, под знаменем которой рабочий класс борется против буржуазии и капитализма. Эта идеология научно выражает коренные интересы и цели рабочего класса как могильщика капитализма и творца бесклассового коммунистического общества. Весь ход исторического развития подтверждает истинность и жизненную силу марксизма-ленинизма. Величайшим триумфом марксизма-ленинизма является победа социализма в СССР. Социалистическое общество, созданное на одной шестой части мира, есть воплощение великих идей марксизма-ленинизма. В СССР марксизм-ленинизм является безраздельно господствующей, всенародной идеологией.
Установление режима народной демократии в ряде стран Европы, рост коммунистических партий и их влияния во всех странах капитализма, рост национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах — все это является показателем жизненной силы и торжества марксизма-ленинизма. Победа великого китайского народа над гоминдановской реакцией, над американским империализмом одержана под руководством марксистской партии — коммунистической партии Китая. Все прогрессивное, передовое, революционное сплачивается в наш век под знаменем марксизма-ленинизма.
3. Обратное воздействие общественного сознания на общественное бытие
Роль идей в общественном развитии
Буржуазные критики выдвигают против исторического материализма нелепое обвинение в игнорировании роли «идейного фактора» в общественном развитии, обвиняют марксистов в том, что они будто бы сводят все развитие общества к автоматическому действию экономики. Это обвинение является плодом невежества буржуазных социологов.
Исторический материализм всегда признавал и признает огромное значение общественных идей, политических теорий и взглядов в развитии общества. Именно поэтому Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин посвятили всю свою жизнь делу всесторонней разработки теории научного социализма, идеологии рабочего класса, делу высвобождения пролетариата из плена буржуазной идеологии и воспитания его в духе социалистического сознания. Еще в 1843 г. Маркс писал: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т I, 1928, стр. 406).
В борьбе с идеализмом Марксу и Энгельсу пришлось сосредоточить главное свое внимание на доказательстве основного положения своей общественной теории, отрицавшегося противниками, положения об определяющей роли условий материальной жизни общества, являющихся источником происхождения и изменения общественных идей, взглядов, теорий, политических учреждений. Что же касается вопроса об обратном активном воздействии идей на развитие материальной жизни общества, то этот вопрос, будучи принципиально разрешен в работах Маркса и Энгельса, не получил у них еще всесторонней разработки. Энгельс в 1890 г. писал по этому поводу:
«Маркс и я виноваты отчасти в том, что молодежь (марксисты.— Ф. К.) иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Но как только дело доходило до изображения какого-либо исторического периода, т. е. до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть никакой ошибки». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 424).
К концу жизни Энгельса появилась опасность ревизионистского истолкования марксизма в духе вульгарного материализма — отрицания роли сознания, идей, идеологических и политических надстроек в развитии общества. Такое истолкование привело ревизионистов к отказу от борьбы с враждебной рабочему классу буржуазной идеологией, к преклонению перед стихийностью рабочего движения, к отрицанию социалистической революции и диктатуры пролетариата.
В эпоху империализма и пролетарских революций, когда острота противоречий капитализма достигла небывалой степени, когда пролетарская революция стала в порядок дня и пробуждение активной сознательной деятельности миллионов стало в качестве решающей исторической задачи, эта вульгарная, псевдомарксистская «теория», пропагандировавшаяся теоретиками II Интернационала, приобрела особую опасность. Сторонники этой теории рассматривали историческое движение как автоматический процесс, происходящий помимо людей, классов; они утверждали, что-де сами производительные силы своим стихийным ростом не только создают предпосылки, материальные условия социализма, но и ведут с фатальной необходимостью к социализму, без классовой борьбы пролетариата.
Свое наиболее резкое выражение эта «теория» получила в проповеди реформизма, мирного «врастания» капитализма в социализм без классовой борьбы, без активной революционной деятельности пролетариата, без теоретической борьбы марксистских партий против буржуазии и ее идеологии. Эту «теорию» защищали в России «экономисты», меньшевики, а в дальнейшем, уже в советское время, предатели родины — бухаринцы. «Экономисты», а вслед за ними меньшевики утверждали, что если производительные силы определяют путь общественного развития, то рабочее движение стихийно пойдет по социалистическому пути, рабочий класс сам выработает социалистическую идеологию, и партии нечего заботиться о его социалистическом просвещении и воспитании.
Это была проповедь стихийности, хвостизма, обрекавшая пролетариат и его партию на прозябание. Между тем борьба против царизма и капитализма в России требовала от рабочего класса и его партии величайшей активности, революционной энергии, организованности, выдержки, сплоченности, дисциплины, высокой сознательности и героизма. Что могло придать рабочему классу силу организованности, единства, сплоченности? Только передовая революционная теория — научный социализм, социалистическая идеология.
«Без революционной теории не может быть и революционного движения», — писал В. И. Ленин. (В.И.Ленин, Соч., т. 5, изд. 4, стр. 341).
Революционная теория, если она складывается в неразрывной связи с революционной практикой, является величайшей силой рабочего движения, «ибо она, и только она, может дать движению уверенность, силу ориентировки и понимание внутренней связи окружающих событий, ибо она, и только она, может помочь практике понять не только то, как и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда должны двинуться они в ближайшем будущем». (И.В.Сталин, Соч., т. 6, стр. 89).
В книге Ленина «Что делать?» и в работе Сталина «Коротко о партийных разногласиях» показано значение революционной теории, социалистической сознательности, марксистской партии как революционизирующей и руководящей силы рабочего движения. В этих работах было блестяще обосновано положение о том, что марксистская партия есть соединение рабочего движения с социализмом. Дальнейшая после Ленина разработка вопроса о роли передовых идей, передовых общественных теорий в развитии общества, в рабочем движении дана товарищем Сталиным в «Вопросах ленинизма» и в особенности в «Кратком курсе истории ВКП(б).
Товарищ Сталин расчленил проблему об отношении общественного бытия и общественного сознания на два вопроса: на вопрос о происхождении, об источниках возникновения и формирования общественных идей, взглядов, политических теорий и на вопрос о значении, о роли общественных идей, взглядов, политических теорий в развитии общества.
«Что касается значения общественных идей, теорий, взглядов, политических учреждений, что касается их роли в истории,— писал товарищ Сталин,— то исторический материализм не только не отрицает, а, наоборот, подчеркивает их серьезную роль и значение в жизни общества, в истории общества». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 111).
Товарищ Сталин отметил, что общественные идеи, взгляды, теории бывают различные. Существуют старые, реакционные идеи, взгляды и теории, отживающие свой век, которые выражают интересы отживающих сил общества. Они тормозят, задерживают ход общественного развития, играют реакционную роль в истории. Существуют новые, передовые идеи и теории, которые выражают интересы передовых сил общества, служат их интересам. Передовые идеи и теории облегчают и ускоряют ход общественного развития, помогают разрешению назревших исторических задач.
Без распространения передовых идей в широчайших массах нельзя обеспечить победу передовых сил общества над старыми, отживающими силами. В нашу эпоху это означает, что без теории марксизма-ленинизма, без революционных идей коммунизма нельзя свергнуть буржуазию, уничтожить капитализм и создать новое, социалистическое общество.
Ни один эксплуататорский класс добровольно не сходил с исторической сцены. Сила должна быть свергнута силой. Но отживающие классы удерживают свое господство не только открытым физическим подавлением масс. Наряду с насилием они осуществляют духовное подавление масс, отравляют сознание трудящихся ядом своей реакционной идеологии, при помощи которой стремятся поддержать, упрочить свое господство. Реакционная идеология распространяется в массах при помощи разветвленного аппарата идейного подавления трудящихся — через церковь, школу, печать, радио, искусство. Реакционные, отжившие идеи, взгляды, привычки, традиции являются огромной консервативной силой, мешающей двигаться обществу вперед, они сковывают активность масс, передовых классов. Поэтому без борьбы против реакционной идеологии, против старых общественных идей, взглядов, теорий нельзя свергнуть старый, отживший строй. Без новых, передовых идей нельзя сплотить, организовать и мобилизовать силы передового класса для борьбы с отжившими классами.
«Здесь именно и сказывается, — говорит товарищ Сталин, — величайшее организующее, мобилизующее и преобразующее значение новых идей, новых теорий, новых политических взглядов, новых политических учреждений. Новые общественные идеи и теории потому собственно и возникают, что они необходимы для общества, что без их организующей, мобилизующей и преобразующей работы невозможно разрешение назревших задач развития материальной жизни общества. Возникнув на базе новых задач, поставленных развитием материальной жизни общества, новые общественные идеи и теории пробивают себе дорогу, становятся достоянием народных масс, мобилизуют их, организуют их против отживающих сил общества и облегчают, таким образом, свержение отживающих сил общества, тормозящих развитие материальной жизни общества.
Так общественные идеи, теории, политические учреждения, возникнув на базе назревших задач развития материальной жизни общества, развития общественного бытия,— сами воздействуют потом на общественное бытие, на материальную жизнь общества, создавая условия, необходимые для того, чтобы довести до конца разрешение назревших задач материальной жизни общества и сделать возможным дальнейшее ее развитие». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 111).
История классовых обществ характеризуется постоянной борьбой новых, передовых идей против старых, отживающих идеи. Борьба идей отражает борьбу классов. Так, например, нарождавшаяся буржуазия, прежде чем перейти к критике отживших феодальных отношений силой оружия, обратила оружие критики против средневековых отношений в экономике, политике, законодательстве, идеологии. Штурму Бастилии во Франции предшествовал штурм идеологических твердынь феодализма со стороны французских материалистов—Ламеттри, Гольбаха, Гельвеция, Дидро и других просветителей (Вольтер, Руссо, Даламбер).
Вся история общественной мысли в России также заполнена борьбой прогрессивных и реакционных идей, отражающей борьбу передовых и реакционных классов. Выражением классовой борьбы против крепостничества и царизма были идеи Радищева и декабристов, революционно-демократические идеи Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина.
Ныне капитализм переживает период всеобщего кризиса; обостряющиеся внутренние противоречия, неизлечимые недуги ведут его к неотвратимой гибели. Но капитализм сам собой не умрет, не свалится, как сгнившее изнутри дерево; его могут уничтожить лишь революционные силы. Рабочий класс стоит ныне во главе всемирно-исторической борьбы против капитализма, сражается против сил реакции под знаменем научного социализма.
Великие идеи научного социализма, идеи марксизма-ленинизма — это самые насущные, жизненные и революционные идеи современности. Они выражают назревшие потребности исторического развития, интересы и стремления сотен миллионов людей. Они завоевывают на свою сторону все новые и новые миллионы тружеников во всех странах капиталистического мира. Победа социализма в СССР придала великим идеям научного социализма еще более могучую, действенную силу. Трудящиеся всех стран видят, что социализм это уже не мечта, а действительность — и прекрасная действительность.
«Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, что он опирается на передовую теорию, правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества, поднимает теорию на подобающую ей высоту и считает своей обязанностью использовать до дна ее мобилизующую, организующую и преобразующую силу». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 112).
4. Формы общественного сознания
Взаимоотношение различных форм общественного сознания
Мораль, политические и правовые идеи, философия, наука, искусство, религия – всё это различные, исторически развившиеся формы общественного сознания. В ходе развития общества меняется не только содержание всех форм общественного сознания, но и их соотношение. В зависимости от характера базиса общества, от особенностей общественно-экономической формации получают преимущественное развитие те или иные формы общественного сознания. Например, в эпоху феодализма религия получила преимущественное развитие и являлась господствующей формой общественного сознания. В эпоху расцвета капитализма развилась правовая, юридическая идеология. В социалистическом обществе решающее значение имеет научная идеология. Великие идеи марксизма-ленинизма составляют душу коммунистической морали, советской науки, литературы и искусства. Религия в социалистическом обществе является вредным пережитком старого общества; со временем она исчезнет, будет преодолена, вытеснена научным мировоззрением, ибо только научное мировоззрение соответствует природе социализма, коммунизма. При коммунизме еще большего расцвета достигнут такие формы общественного сознания, как наука и искусство.
В рамках каждого общества все многообразные формы общественного сознания представляют собой отражение в различных формах одного и того же общественного бытия. Поэтому, несмотря на их различие, они имеют в каждую историческую эпоху общее содержание, составляют единство. Каждая форма общественного сознания в классовом обществе испытывает определяющее воздействие экономического базиса и непосредственно и через политику правящих классов, их партий и государства.
Идеологи буржуазии, ее философы, моралисты, писатели, художники на словах часто отрицают связь политики и морали, политики и философии, политики и науки, политики и искусства, политики и религии. Но это лишь лицемерие буржуазии и ее идеологов, обусловленное противоречивым положением буржуазии как класса. На деле идеология буржуазии проникнута буржуазными политическими устремлениями. Но буржуазия не может признать это открыто, потому что ее политика антинародна. Ее идеология, ее мораль, искусство, литература, философия также реакционны, антинародны. Отсюда вытекает стремление буржуазии представить свою классовую, корыстную политику, свою растленную культуру, реакционные формы общественного сознания как надклассовые. Буржуазные писатели, художники, ученые, прикрываясь тогой «независимости» от политики, объявляют себя носителями «чистого искусства», «чистой науки». В действительности же их искусство, наука, философия являются проповедью буржуазных идей.
Ленин и Сталин разоблачили попытки идеологов буржуазии прикрыться маской «беспартийности». В классовом обществе все формы идеологии в конечном счете служат определенным политическим целям и интересам. Революционный пролетариат не имеет нужды маскировать свою политику и открыто провозглашает принцип партийности философии, науки и искусства.
Общественная идеология и психология
В моральных нормах, в научных и философских теориях, в произведениях искусства, религиозных верованиях выражается психология того или иного класса. Вместе с тем в этих идеологических формах общественного сознания отражается также и психология данного класса.
В.И. Ленин и И.В. Сталин в своих произведениях говорят не только об идеологии буржуазии, об идеологии рабочего класса, но и о психологии буржуа, о психологии рабочего, о психологии крестьянина, о психическом складе нации. (См. В.И.Ленин, Соч., т.XXVI, изд. 3, стр. 239; И.В.Сталин, Соч., т.11, стр. 67; Соч., т.12, стр. 314).
Что же такое общественная психология, классовая психология и чем она отличается от идеологии? Общественная психология — это совокупность чувств, настроений, переживаний, мыслей, иллюзий, привычек, навыков, черт характера людей данного класса или общества, стихийно возникающих в сознании людей в связи с непосредственными условиями их материальной жизни. В психологию данной нации входят черты психического склада, возникающие из общности исторических условий ее развития. Эти общие черты психического склада данной нации у различных классов преломляются через особые условия их материальной жизни. При этом психология рабочих разных стран имеет больше общего, чем, например, психология французского рабочего и французского капиталиста. У рабочих в. результате их роли в производстве и условий жизни вырабатывается психология дисциплинированных тружеников, проникнутых духом солидарности и коллективизма, в отличие от буржуазной психологии индивидуализма.
Под влиянием условий жизни пролетариата уже на ранних ступенях развития капитализма возникает стихийное рабочее движение, инстинктивное, стихийное стремление к социализму. Полную ясность сознания рабочему классу дает социалистическая идеология, возникающая из науки, на основе теоретического обобщения опыта рабочего движения.
Психология и идеология определенного класса не отделены друг от друга китайской стеной. Если в период стихийного рабочего движения психология рабочих находится под сильным влиянием буржуазной идеологии, в частности тред-юнионизма, то с победой идеологии научного социализма в рабочем движении и психология рабочих приобретает черты ясной пролетарской зрелости, осознанности. Однако и после того, как социалистическая идеология уже победила в рабочем движении, в психологии рабочих долго сохраняются привычки, навыки, взгляды, порожденные и привитые капитализмом, частной собственностью, конкуренцией. Эти черты, привычки сохраняются в сознании по традиции и часто не осознаются их носителями. Лишь после долгой и упорной работы коммунистической партии и пролетарского государства на почве социалистического способа производства, через воспитательное воздействие социалистического труда и социалистического соревнования рабочие преодолевают остатки, пережитки старой психологии, привитой им условиями капитализма.
То же в еще большей степени происходит и с переделкой психологии крестьянина на почве колхозного строя. Частнособственнические навыки, индивидуалистическая психология еще долго дают о себе знать и после победы колхозного строя.
На почве социалистического способа производства получает всестороннее развитие социалистическая психология, проникнутая духом коллективизма, товарищеской солидарности. Социалистическая психология формируется при руководящем воздействии коммунистической партии.
Итак, психология того или иного класса формируется под влиянием повседневных условий жизни данного класса. В ней содержится много стихийного, часто неосознанного, перешедшего в привычку. Что же касается идеологии того или иного класса, то это совокупность идей, выражающих более или менее ясно положение и интересы данного класса, его взгляды на общественную, политическую жизнь, на окружающий мир. Это — мировоззрение класса, проявляющееся в политических и правовых взглядах и теориях, в морали, в философии, искусстве, религии.
5. Нравственность
Что такое нравственность
Нравственность, этика, или мораль, - это совокупность исторически изменяющихся норм, принципов, правил, регулирующих поведение людей по отношению друг к другу, к обществу, а в классовом обществе, - так же к их отношению к своему классу, к своей партии и к враждебным партиям и классам. В отличии от норма права, так же регулирующих отношения между людьми, но имеющих принудительную санкцию государства, нравственные нормы опираются на силу общественного мнения, на внутренние убеждения, на силу привычки. Категориями нравственности служат понятия о добре и зле, о долге и справедливости, о долге и чести и т.д.
Решающим и определяющим в оценке поведения людей в конечном счете являются общественные интересы, в классовом обществе - классовые. Общественное мнение данного класса, народа ободряет и поощряет одни поступки как добродетельные, нравственные и порицает, осуждает другие поступки, как безнравственные, позорные, бесчестные.
Сознание ответственности, чувство долга перед обществом, родиной, своим классом, народом бывает настолько велико, что оказывается силой более могучей, чем инстинкт самосохранения. Сознание высокого нравственного долга перед партией, перед рабочим классом давало силу большевикам в годы мрачного царизма переносить лишения, тюрьмы, ссылку, идти на смерть, на виселицу ради торжества коммунизма. Сознание священного нравственного долга перед социалистической родиной рождало в годы Великой Отечественной войны Советского Союза героические подвиги Александра Матросова, Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого и его героических товарищей и многих, многих других известных и безвестных советских патриотов.
Происхождение морали и изменчивость ее норм
Нравственные нормы, принципы морали не являются вечными и неизменными. Религиозные, идеалистические учения о вечных, неизменных принципах морали являются вздором. Никакой вне человеческой, божественной или надклассовой морали не существовало и не существует. Выведение морали из велений бога или из каких-либо других идеалистических определений — это сознательная или бессознательная попытка скрыть, затушевать земные, общественные, классовые корни морали.
Мораль, нравственность, являясь одной из форм общественного сознания, представляет отражение условий материальной жизни общества. Поэтому вместе с изменением базиса общества изменяются формы и содержание морали. «Представления о добре и зле,— говорит Энгельс,— так менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили одно другому». (Ф.Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр.87).
В первобытном обществе отношения людей друг к другу регулирует исторически и стихийно сложившийся обычаи как совокупность традиционных, освященных тысячелетиями понятий, правил жизни и поведения. Обычаи, передаваясь из поколения в поколение, переходят в привычку. Они рассматриваются как заповеди предков, а с возникновением религии — как заповеди богов. Например, на ранних ступенях развития общества, когда уровень производительных сил был чрезвычайно низок, хронический голод вынуждал первобытных людей убивать и даже поедать стариков, и это считалось вполне нравственным. С развитием производительности труда постепенно отмирала эта жестокая практика, а вместе с ней изменялись обычаи, нравы. Стариков как носителей опыта стали окружать заботой, почетом, уважением. Но старая традиция еще долго сохранялась как религиозный обряд в виде человеческих жертвоприношений. В символической форме это сохранилось и в христианстве: миф о Христе-богочеловеке, принесшем себя в жертву; причащение как вкушение тела и крови Христа и т. д.
На ранних ступенях первобытного общества существовало многоженство и многомужество. Обычай освящал эти семейно-брачные отношения, и тогда никому не могло прийти в голову объявить их безнравственными. Но в ходе общественного развития возникла моногамная семья, а в связи с этим в корне изменились представления людей о нравственном и безнравственном в области семейно-брачных отношений, многоженство и многомужество стали осуждаться как явления безнравственные, антиморальные. Но в эпоху рабства, феодализма и капитализма наряду с официальным, моногамным браком существует санкционируемая законом проституция. Проституция особенно расцвела в капиталистическом обществе, и официальная нравственность буржуазного общества допускает проституцию. В капиталистическом обществе, где все превращается в товар, тело женщины также превращается в предмет купли и продажи. Буржуазный брак — это не что иное, как коммерческая сделка. Брак по расчету освящен буржуазной моралью, ибо деньги, нажива — это решающий мотив и главный критерий моральных оценок в капиталистическом обществе.
В социалистическом обществе возникает новая, прочная моногамная семья и подлинно человечная коммунистическая мораль, регулирующая семейно-брачные отношения. Брак по расчету, не по любви в социалистическом обществе считается безнравственным, бесчестным.
В эпоху рабства и феодализма праздная жизнь, паразитизм, тунеядство господствующих классов рассматривались как явления вполне нравственные. Нарождавшаяся буржуазия в XVI, XVII, XVIII столетиях, охваченная жаждой накопления, деятельности, с презрением относилась к феодальным добродетелям — расточительству, лени, тунеядству, праздности, она проповедовала бережливость, трудолюбие, пуританскую мораль. Но буржуазия стала реакционной, превратилась, так же как в свое время рабовладельцы и феодалы, в паразитический класс. Соответственно этому претерпели изменение и ее нравственные принципы.
Ход исторического развития от первобытно-общинного строя до капитализма был прогрессом в развитии производительных сил, социальных отношений, в развитии науки, искусства, литературы. Но это прогрессивное развитие носило антагонистический характер и сопровождалось моральной деградацией эксплуататорских классов. Энгельс писал, что переход от первобытно-общинного, родового строя к классовому обществу с самого начала оказывается «прямо упадком, грехопадением с простой моральной высоты старого родового строя. Самые низменные интересы — вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная алчность, эгоистический грабеж общего достояния — являются восприемниками нового, цивилизованного, классового общества; самые гнусные средства — воровство, насилие, коварство, измена подтачивают старый бесклассовый родовой строй и приводят его к падению». (Ф.Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат. 1949, стр. 101).
От эпохи античного рабства до капитализма включительно движущей силой цивилизаций была грубая алчность: «...богатство, еще раз богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного дрянного индивида, было ее единственной, определяющей целью». При этом «всякий шаг вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, т. е. огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других, всякое новое освобождение одного класса — новым угнетением для другого». (Там же, стр. 184).
Только в условиях социализма, где уничтожены эксплуататорские классы, где нет антагонизма между классами, а также между личностью и обществом, утверждается высшая форма морали — коммунистическая мораль. Главный принцип этой морали — борьба за коммунизм; благо всего общества, народа, трудящихся — превыше всего. Коммунистическая мораль зарождается в рамках капитализма, ее носителем там является пролетариат. В социалистическом обществе коммунистическая нравственность становится господствующей, всенародной нравственностью. Здесь она выражает и отражает социалистические производственные отношения сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации людей. Коммунистическая мораль знаменует собой вершину нравственного развития человечества.
Влияние различных форм общественного сознания на развитие морали
Итак, изменения экономического базиса являются определяющей причиной изменения нравственности. Но на развитие нрав сознания оказывают влияние и политическое отношения, право, а также религия, наука, философия и искусство. Реакционная фашистская политика, например, еще более усиливает звериную мораль буржуазного общества, возводит аморализм, человеконенавистничество, вероломство в принцип, в норму поведения.
В предшествовавшие социализму эпохи значительное влияние на развитие нравственности оказывали религия и церковь. Уже в первобытном обществе мораль получает религиозные санкции. Чтобы добиться соблюдения эксплуататорской морали угнетенными классами, религия и церковь объявляют ее заповедями бога. Это не мешает церкви как официальному блюстителю нравов в феодальном и капиталистическом обществе превращать «отпущение грехов» в предмет торга, спекуляция, (продажа индульгенций, свечой, пожертвования на церковь).
Религия провозглашает высокими добродетелями смирение, кротость, покорность, всепрощение, любовь к угнетателям, «Рабы, повинуйтесь господам своим», «если вас ударят по правой щеке, подставьте левую», «возлюбите врагов ваших» — вот принципы религиозной морали. Эту мораль церковь навязывает рабочему классу, всем трудящимся, пытаясь подавить в них законную ненависть к эксплуататорам.
На формирование моральных норм значительное влияние оказывает искусство. Так, например, нравственное сознание передовых слоев общества воспитывается под освободительным воздействием великих произведений искусства, отображающих и разоблачающих нравы рабовладельческого, феодального и капиталистического общества. Такие писатели, как Шекспир и Диккенс, Мольер и Бальзак, Крылов и Грибоедов, Пушкин и Гоголь, Толстой и Горький, в бессмертных образах своих произведений навеки заклеймили грязь и подлость эксплуататорского мира. Русская классическая литература, разоблачая гнусную мораль помещиков, чиновников, буржуазии, оказывала огромное воздействие на воспитание в передовых слоях русского народа высоких моральных принципов и идеалов. Советская литература, драматургия, советский театр, кино, живопись, музыка оказали и оказывают огромное влияние на формирование высокого и благородного морального облика советского человека, воспитывая такие черты, как советский патриотизм, идейность, преданность делу коммунизма, честность, политическая ясность и определенность, мужество, бесстрашие и ненависть к врагам социализма.
Влияние философии на мораль выражалось в том, что она, начиная с античного общества, всегда уделяла огромное внимание проблемам этики, теоретическому обоснованию или критике господствовавшей в обществе морали. Марксистская философия с самого своего возникновения подвергла революционной критике дворянскую и буржуазную этику. Марксистское философское мировоззрение составляет общую идейную основу принципов коммунистической морали.
Классовый характер нравственности
Если свои понятия о справедливом и несправедливом, о чести и долге, добре и зле люди всегда, сознательно или бессознательно, черпают из условий материальной жизни данного общества, то эти принципы, понятия, идеи в обществе, разделённом на классы, неизбежно носили и носят классовый характер.
В обществе, разделенном на непримиримые, враждебные классы, не может быть единой для всех морали. Характеризуя мораль капиталистического общества, Энгельс писал: «Какая мораль проповедуется нам теперь? Прежде всего христианско-феодальная, унаследованная от прежних религиозных времен; она, в свою очередь, распадается в основном на католическую и протестантскую, причем опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях от иезуитский-католической и ортодоксально-протестантской до шаткой просветительской морали. Рядом с ними фигурирует современно-буржуазная мораль, а рядом с последнею — пролетарская мораль будущего... Прошедшее, настоящее и будущее выдвинули три большие группы одновременно и параллельно существующих теорий морали. Какая же из них является истинной? Ни одна, если прилагать мерку абсолютной завершенности; но, конечно, та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей долговечное существование, которая в настоящем выступает за низвержение современного строя, защищает будущее, следовательно, — мораль пролетарская». (Ф.Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 88).
Буржуазная мораль
Главный движущий мотив, определяющий действия буржуазии, ее поведение, ее взгляды, ее принципы, — это прибыль, нажива. К. Маркс в «Капитале» приводит следующие слова одного экономиста о побудительных мотивах капитала: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение; при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает ногами все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». (К.Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 764).
«Человек человеку — волк», «в карман норови», «падающего толкни», «каждый за себя, один бог за всех» и т. п. — вот правила буржуазной морали, возникшие на почве антагонизма классов, частной собственности, всеобщей конкуренции.
Буржуазное общество, как говорил Ленин, основано на принципе: «...либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб. И понятно, что воспитанные в этом обществе люди, можно сказать, с молоком матери воспринимают психологию, привычку, понятие — либо рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, мелкий чиновник, интеллигент, словом — человек, который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет». (В.И.Ленин, Соч., т. XXX, изд. 3, стр. 412). Владелец больших запасов хлеба в капиталистическом обществе заинтересован в том, чтобы была засуха, неурожай, голод, — это подымет цены на хлеб; буржуа-врач заинтересован в том, чтобы было больше больных, буржуа-юрист — в том, чтобы в стране совершалось больше преступлений, буржуа-архитектор — чтобы в городах чаще происходили пожары, священник — чтобы больше умирало людей. Несчастья одних становятся источником дохода и даже условием существования других.
Величайшим бедствием народов являются империалистические войны. Но они же служат источником баснословных прибылей для магнатов капитала, для владельцев военных заводов. Вот почему буржуазные идеологи и политики оправдывают грабительские войны, объявляют войну явлением естественным, вечным. Недаром капиталистические монополии боятся мира, как огня.
В капиталистическом обществе все превращено в товар, в меновую стоимость, все продажно, покупается и продается: рабочая сила человека, совесть и честь, достоинство человека и его пороки, любовь и красота, талант художника и вдохновение поэта, гений ученого и проповеди попа. Товарное обращение, пишет Маркс, «становится колоссальной общественной ретортой, в которую все втягивается для того, чтобы выйти оттуда в виде денежного кристалла. Этой алхимии не могут противостоять даже мощи святых, не говоря уже о менее грубых res sacrosanctae, extra commercium huminum [священных предметах, исключенных из торгового оборота людей]. Подобно тому как в деньгах стираются все качественные различия товаров, они, в свою очередь, как радикальный левеллер, стирают всяческие различия. Но деньги — сами товар, внешняя вещь, которая может стать частной собственностью всякого человека. Общественная сила становится таким образом частной силой частного лица». (К.Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 138-139). Капиталистическое общество «приветствует золото как блестящее воплощение своего интимнейшего жизненного принципа». (Там же, стр. 139). Деньги — это божество, идеал буржуазного общества, ему поклоняются, ему приносят в жертву миллионы человеческих жизней. Кто ими обладает, тот обладает всем; кто их не имеет, тот обречен на нужду, лишения, страдания.
В глазах буржуа деньги — главное мерило достоинства человека. Количеством имеющихся у человека денег определяется его общественное положение. Буржуа, обладатель денег, пишет Маркс, может сказать о себе: «Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину; и, значит, я уже не уродлив, ибо действие уродства, его отпугивающая сила, сведена на-нет деньгами. Пусть я — по своей индивидуальности — хромой, но деньги предоставляют мне 24 ноги, и я уже не хромаю; я дурной, нечестный, бессовестный, тупой человек, но деньги в почете — значит, в почете и владелец денег. Деньги — это высшее благо,— значит, благ и их владелец; деньги, кроме того, освобождают меня от труда быть нечестным; предполагается, что я честен». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Об исскустве, сборник, 1937, стр. 68). В Америке существует поговорка: «Если вы украли доллар, вас посадят в тюрьму, а если вы украли железную дорогу, вас сделают сенатором».
Буржуазные моралисты, политики и публицисты много говорят и пишут о свободе личности, о равноправии женщин, о высоких добродетелях, а между тем во всех капиталистических странах законом охраняется существование домов терпимости и неравноправие полов. В США, в штате Алабама, существует закон, согласно которому муж имеет право наказать жену палкой, причем палка «не должна быть толще двух пальцев». Такие же законы существуют и в «демократической» Англии, Вот что пишет английская либеральная газета «Ньюс кроннкл» в заметке: «Бейте вашу жену, если вам угодно»:
«Муж имеет право физически наказывать свою жену, если употребляемая им для этой цели трость не толще его мизинца. Такое решение вынес судья Тэдор Рис на заседании суда Брантфардского графства. Разбиралось дело, возбужденное квартирохозяйкой, которая хочет выселить беспрерывно ссорящуюся супружескую чету».
Только в капиталистическом обществе возможны позорные объявления, подобные тому, которое в 1948 г. было помещено в американской газете «Ньюс дей»: «Продается жена, разведенная, блондинка, привлекательная, ищет мужчину, который женился бы на ней и содержал бы ее и двух ее детей. Желающий должен дать согласие и быть в состоянии немедленно внести 10 тысяч долларов». Это одна из бесчисленных иллюстраций того, что собой представляет буржуазная мораль.
Аморализм современной буржуазии
Для всех эксплуататорских классов в период их упадка характерно моральное разложение, аморализм. Недаром французское дворянство накануне французской буржуазной революции 1789 г. сделало своим девизом выражение: «после нас хоть потоп».
Ф. Ландберг, автор известной книги «60 семейств Америки», рисует паразитизм и расточительство американской плутократии. Разбогатев на эксплуатации собственного народа и грабеже других народов, на войне, на крови миллионов, буржуазия США не знает, как использовать награбленное. Обжорство, разврат, умопомрачительная роскошь, бриллиантовые ошейники для собак стоимостью в 15 тыс. долларов , (банкеты для любимых собак и лошадей, специальные выезды для ручных обезьян с персональными лакеями, ожерелья в 600 тыс. долларов, пиршества, банкеты, на которые расходуются сотни тысяч долларов. Пресытившись столь «скромными» развлечениями, плутократия придумала более сумасбродные затеи: среди гостей рассаживали обезьян, в комнатных бассейнах плавали наряженные золотыми рыбками пловцы, и шансонетки выпрыгивали прямо из пирогов». Так было в 90-е годы XIX и. «Неизмеримо более чудовищные излишества наших дней возрождают и во много раз превосходят самые фантастические из прежних тщательно продуманных форм распыления созданных народом богатств». (Ф.Ландберг, 60 семейств Америки, Государственное издательство иностранной литературы, 1948, стр. 476).
Нравы современной буржуазии напоминают нравы рабовладельцев древнего Рима эпохи его упадка или гибнущей феодальной аристократии. Буржуазия превзошла своих предшественников по преступлениям перед человечеством, по расточительству, по аморализму. Социологи, философы, писатели и идеологи, политические вожаки буржуазии пытаются дать даже «теоретическое» обоснование ее цинизму и аморализму, кровожадности и человеконенавистничеству. Глашатаем аморализма буржуазии в XIX в, выступал Фридрих Ницше. Поэтому германский фашизм подхватил философию Ницше и провозгласил его своим духовным отцом.
В германском и японском фашизме и американском империализме воплотилось все то гнусное и звериное, что свойственно всей империалистической буржуазии. Гитлер говорил: «Я освобождаю человека... от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка». Гитлер рисовал перед немецкой молодежью в качестве идеала образ дикого хищного зверя. В этом зверином духе воспитывался немецкий народ перед второй мировой войной. Облик гитлеровцев — это облик людей, лишенных совести и чести» павших до уровня диких зверей. Злодеяния гитлеровской армии в оккупированных странах, в особенности на территории СССР, превзошли все зверства гуннов, вандалов, орд Чингис-хана и Тамерлана, вместе взятых. У немецких, японских, американских и других империалистов варварская жестокость соединена со всеми достижениями современной истребительной техники: душегубками, газовыми камерами» «майданеками», «освенцинами», бактериологическими средствами войны.
После разгрома гитлеровской Германии и империалистической Японии в роли вдохновителя всей международной реакции и организатора новой войны выступил американо-английский империализм. Американский империализм собирает под своим знаменем все силы мракобесия и реакции. Крупнейшие военные преступники и фашистские заправилы Германии и Японии выпускаются американскими властями на свободу, водворяются на руководящие посты в западных зонах Германии и в Японии. Вместе с тем американские и английские власти жестоко преследуют во всех доступных им странах борцов против германского, итальянского, греческого и японского фашизма, борцов за подлинную свободу и независимость народов.
За короткий срок после второй мировой войны буржуазия США проделала такой путь в сторону фашизма, накопила такой богатый опыт разбойничьей борьбы против негров, против патриотов Греции, Кореи, Филиппин, что она в зверствах и аморальности уже ничем не отличается от германского фашизма. Суды Линча в США — явления, тождественные зверствам гитлеровских эсэсовцев. Да и эсэсовцы в качестве образца брали не только жестокости средневековой католической инквизиции, но и суды Линча, бандитизм ку-клукс-клана.
Циничная, наглая, открытая и безнаказанная проповедь третьей мировой войны на страницах американской печати, пропаганда империалистического похода против СССР и стран народной демократии — это показатель крайней реакционности в крайней моральной деградации современной буржуазии.
Моральный облик современной американской буржуазии выразил в своем выступлении ректор университета в городе Тампа (штат Флорида) д-р Нэнс. Этот людоед, идеолог буржуазии заявил; «Я считаю, что мы должны провести тотальную подготовку, основываясь на законе джунглей. Каждый должен научиться искусству убивать. Я не думаю, что война должна ограничиться армиями, военно-морскими флотами и военно-воздушными силами или что должны быть какие-либо ограничения в отношении методов или оружия уничтожения. Я одобрил бы бактериологическую войну, применение газов, атомных и водородных бомб и межконтинентальных ракет. Я не стал бы просить о милосердном отношении к больницам, церквам, учебным заведениям или каким-либо группам населения... Было бы лицемерием оказывать милосердие какой-либо группе». («Правда», 6 августа 1950 г.) Эта проповедь американских людоедов по своему цинизму, человеконенавистничеству превосходит проповеди даже гитлеровских людоедов. Варварские бомбардировки американскими разбойниками мирных корейских городов и сел, истребление мирного населения Кореи — таково проявление людоедской идеологии американской буржуазии на практике.
В конгрессе США тон задают такие людоеды, как сенатор Кеннон, в буржуазной литературе и искусстве — декаденты вроде Генри Миллера и Фолкнера, которые рассматривают преступление как выражение «свободы воли». Главные герои американской буржуазной литературы — гангстеры, воры. «Писатель» Миллер объявляет человека мерзавцем по природе и существование человечества считает ошибкой. Во время войны он выразил надежду, что в ближайшие столетия человеческая цивилизация будет стерта с лица земли. В США распространяются «философия» и литературные творения французского мракобеса экзистенциалиста Сартра, проповедующего ненависть к коллективу, объявляющего всякие нормы морали «не имеющими значения». С открытой проповедью аморализма, оправдания преступлений, атомной войны выступает также английский философ мракобес Рассель.
Аморализм, крайний индивидуализм и эгоизм, человеконенавистничество — это показатели гниения и морального банкротства буржуазии, капитализма. Вместе с тем нельзя не учитывать того, что проповедь разнузданного индивидуализма, эгоизма и аморализма имеет для буржуазии служебное, политическое значение. Буржуазия и ее идеологические представители хотят растлить сознание средних слоев и натравить их на социалистический рабочий класс. Буржуазия стремится воспитать банды головорезов, лишенных совести и чести, готовых за деньги на все. Проповедь аморализма — это звено в общей цепи идеологической подготовки империалистической буржуазии к третьей мировой войне.
Коммунистическая мораль
Буржуазия и ее идеологи во всех странах обвиняли и обвиняют пролетариев и коммунистов в безнравственности на основании того, что пролетариат отвергает буржуазную мораль. Буржуа не могут себе представить, что кроме их эгоистической и своекорыстной морали возможна другая, более высокая и передовая мораль.
Буржуазная мораль проповедует в качестве главной добродетели уважение к частной собственности, к буржуазному государству и буржуазной законности. А пролетариат отвергает их, борется против них, ибо он есть воплощенное отрицание частной собственности, сила, враждебная капитализму, буржуазному государству и буржуазному праву.
Буржуазная мораль требует от пролетариата смирения, покорности, послушания, кротости, возводя эти качества в высшую добродетель, а пролетариат видит в этих «добродетелях» признаки раба. Положение пролетариата в буржуазном обществе, его историческая миссия требуют от него революционной смелости, отваги, мужества, ненависти к угнетателям.
Буржуазия лицемерно, ханжески проповедует любовь и братство между людьми, объявляет классовую борьбу безнравственной, незаконной и в то же время усиливает эксплуатацию. А рабочий класс, наоборот, видит в смелой, революционной классовой борьбе единственное средство уничтожения наемного рабства. Критикуя буржуазную нравственность, Ленин писал:
«Мы говорим: нравственность — это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов.
Коммунистическая нравственность — это та нравственность, которая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой эксплуатации». (В.И.Ленин, Соч., т. XXX, изд. 3, стр. 411-412).
Положение пролетариата как класса и его историческая миссия как могильщика капитализма и творца коммунистического общества требуют от него классовой солидарности, единства и сплоченности в революционной борьбе, товарищества, дисциплины и выдержки, мужества и беззаветного героизма в выполнении классового долга, беззаветной преданности делу коммунизма. Без этих качеств пролетариат был бы обречен на беспросветное рабство. Эти качества, выработанные пролетариатом в его труде и борьбе, являются в то же время нормами его морали, нравственности. Пролетарская коммунистическая мораль — это несравненно более высокая мораль, чем торгашеская, лицемерная, своекорыстная мораль буржуазии. Пролетарское общественное мнение клеймит предателей рабочего класса, штрейкбрехеров раскольников, соглашателей с буржуазией, реформистов и других холопов буржуазии. Пролетариат чтит героев революционной борьбы, защитников интересов трудящихся, руководителей и передовых борцов освободительной пролетарской классовой борьбы. Его вожди Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин представляют собой образцы морального величия, преданности интересам трудящихся, непреклонности в борьбе с врагами рабочего класса. Любовь и преданность народу, делу освобождения трудящихся, ясность и определенность, ненависть к врагам народа, бесстрашие и мужество в борьбе за коммунизм — отличительные черты их характера. Девизом их жизни является борьба за дело рабочего класса за коммунизм.
«Все знают непреодолимую сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума, стальную волю, преданность партии, Горячую веру в народ и любовь к народу. Всем известна его скромность, простота, чуткость к людям и беспощадность к врагам народа. Всем известна его нетерпимость к шумихе, к фразёрам и болтунам, к нытикам и паникёрам. Сталин мудр, нетороплив в решении сложных политических вопросов, там, где требуется всесторонний учёт всех плюсов и минусов. И вместе с тем Сталин — величайший мастер смелых революционных решений и крутых поворотов». («Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», Госполитиздат, 1949, стр. 239).
Рабочий класс России, партия большевиков в годы борьбы с царизмом и капитализмом выдвинули из своей среды тысячи героев, рыцарей революционной классовой борьбы. К их числу принадлежат Бабушкин, Курнатовский, Кецховели, Свердлов, Дзержинский, Орджоникидзе, Куйбышев, Фрунзе, Киров, Калинин и многие, многие другие.
Феликс Дзержинский, находясь в каторжной царской тюрьме, терзаемый царскими палачами за революционную деятельность, насильственно оторванный от семьи, от народа, писал о себе: «Я вижу огромные массы, уже приведённые в движение, расшатывающие старый строй, - массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы... Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И, тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы её точно так же, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня органическая необходимость». (Ф.Э.Дзержинский, Избранные статьи и речи, 1908-1926, Госполитиздат, 1949, стр. 70).
В благородном облике рыцаря пролетарской революции Ф.Э.Дзержинского, как и в облике многих и многих большевиков, отразились лучшие черты рабочего класса. Высокие моральные качества, выработанные рабочим классом в период его революционной борьбы за власть, ныне, в условиях советского социалистического общества, становятся господствующей моралью, моралью всех советских людей. Само собой разумеется, что это осуществляется не сразу, а в ходе борьбы за социализм, в ходе борьбы со старой буржуазной и мелкобуржуазной моралью, в процессе упорной и длительной воспитательной работы коммунистической партии.
Пролетарская, советская, социалистическая, коммунистическая мораль — это по своей сущности тождественные понятия. Понятие коммунистическая мораль наиболее точно и полно выражает социальное содержание нашей советской морали. Оно охватывает собой все моральные качества, нормы, принципы, которые выработал рабочий класс, его коммунистическая партия в ходе революционной борьбы; оно отражает те общественные производственные отношения, которые сложились в социалистическом обществе; оно вместе с тем выражает наше будущее — победу коммунизма во всем мире. Определяя главное содержание коммунистической морали, Ленин в 1920 г. Говорил:
«Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда... В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и основа коммунистического воспитания, образования и учения». (В.И.Ленин, Соч., т. ХХХ, изд. 3, стр. 413).
Капиталистическое общество калечит, уродует людей физически и нравственно. Лишь революционная борьба за социализм создает условия, облагораживающие людей. На почве социалистических производственных отношений, товарищеского сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации людей находят благоприятную почву для расцвета все лучшие человеческие способности и дарования.
При социализме труд является священной обязанностью гражданина. Здесь нет места буржуазному тунеядству и паразитизму. И. В. Сталин говорит: «Социализм и труд неотделимы друг от друга. Ленин, наш великий учитель, говорил: «Кто не трудится, тот не ест». Что это значит, против кого направлены слова Ленина? Против эксплуататоров, против тех, которые сами не трудятся, а заставляют трудиться других и обогащаются за счет других. А еще против кого? Против тех, которые сами лодырничают и хотят за счет других поживиться. Социализм требует не лодырничанья, а того, чтобы все люди трудились честно, трудились не на других, не на богатеев и эксплуататоров, а на себя, на общество». (И.В.Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 418).
Основные черты морали социалистического общества воплощены в моральном облике советского народа: рабочих, колхозников, интеллигенции, в их делах и подвигах в дни мира и в дни войны, в их коммунистическом отношений к труду, к обществу, к социалистическому государству, к семье. Возвышенный советский патриотизм, преданность социалистической родине, народу, великой партии Ленина — Сталина, доблесть и героизм в труде и в бою, взаимопомощь, дух товарищества и интернационального братства, высокая идейность и большевистская принципиальность — эти благородные качества являются отличительными чертами передового советского человека — бесстрашного преобразователя мира, творца социалистического общества.
Одной из важнейших черт морального облика советских людей является интернационализм, уважение и братское отношение ко всем народам, нациям, расам. Эта черта коммунистической морали вытекает из интернациональной природы рабочего класса и советского социалистического общества. В СССР все нации, люди всех рас равноправны. Они живут в тесном содружестве, всем им обеспечены равные возможности развития.
Единство права и морали в советском обществе
Во всех эксплуататорских обществах господствующие классы стремились подкрепить правовые нормы нормами морали. Так, нарушение права частной собственности в капиталистическом обществе карается не только законом, но и осуждается кодексом буржуазной морали. Но между моралью угнетенных классов и правом, выражающим волю эксплуататорских классов, существует разрыв, антагонизм.
Только в социалистическом обществе правовые нормы одновременно являются и выражением нравственного сознания всего общества. Принципы советского права совпадают с принципами коммунистической морали. Например, утверждение и охрана социалистической собственности как священной и неприкосновенной основы нашего общества осуществляется не только через посредство советских законов, но и через посредство советской морали. Советское право утверждает социалистический принцип распределения: «От каждого по его способности, каждому — по его труду». Оно определяет права и обязанности граждан СССР, провозглашает труд обязанностью и делом чести каждого трудоспособного гражданина, что вполне совпадает с принципами коммунистической нравственности.
Защита социалистической родины провозглашена Сталинской Конституцией священной обязанностью советского гражданина, что является обязанностью, священным долгом также и с точки зрения коммунистической морали. Измена родине карается социалистическим правосудием как тягчайшее преступление, вместе с тем она осуждается и общественным мнением как самое позорное злодеяние. Сталинская Конституция является вместе с тем и кодексом социалистической морали. Правила социалистического общежития, устанавливаемые советскими законами, совпадают с моральными нормами советских людей.
Буржуазные философы и социологи, занимающиеся проблемами этики, впадают в крайнее затруднение при решении вопроса о взаимоотношении политики и морали, потому что аморальность политики буржуазных государств бросается в глаза. «Политика есть политика»,— цинично заявляют буржуазные деятели, подразумевая под этим, что в политике все дозволено. Многие буржуазные социологи прямо заявляют, что мораль и политика несовместимы.
Только между политикой Советского государства и нормами коммунистической морали нет и не может быть противоречия, а существует полное единство, соответствие. Высший принцип советской политики — благо народа — является высшим принципом коммунистической морали.
Коммунистическая мораль - высшая мораль
Если мораль, нравственность, исторически - изменяется в зависимости от изменения условии материальной жизни общества и если каждый общественный класс имеет свою классовую мораль, то можно ли ставить вопрос об истинной морали? Да, можно и должно.
Коммунистическая мораль—это истинная мораль, ибо она и только она выражает наиболее полно и точно историческую правду, интересы самого передового класса современности — рабочего класса и всех трудящихся, в социалистическом обществе она выражает интересы всего народа. Коммунистическая мораль выражает коренные интересы всего прогрессивного человечества. Она в полной мере отвечает объективному ходу и направлению всего исторического развития человечества к коммунизму и служит ускорению этого развития.
Принципы коммунистической морали вдохновляют миллионы людей на борьбу за мир, за братство между народами, за подлинную, социалистическую демократию, за коммунизм. Один из славных и героических борцов за коммунизм, чешский писатель Юлиус Фучик писал:
«Мы, коммунисты, любим жизнь. И потому, желая проложить путь для жизни действительно свободной, полной и радостной, не задумываясь, жертвуем собой, ибо жизнь на коленях, жизнь в оковах, в порабощении, пресмыкательстве — это даже не жизнь, а недостойное человека прозябание. Мы, коммунисты, любим человека и потому не колеблясь поступаемся своими собственными узко личными интересами во имя того, что получит, наконец, достойное место под солнцем свободный, здоровый, радостный человек. Мы, коммунисты, любим свободу. А потому, ни минуты не задумываясь, подчиняемся строжайшей дисциплине своей партии, высокой дисциплине армии товарища Ленина, чтобы достичь свободу для всего человечества. Мы, коммунисты, любим творческий труд, творческое будущее человечества, а потому не колеблясь разрушаем то, — и только то,- что встает поперек дороги великих творческих сил человека. Мы, коммунисты, любим мир, и потому воюем. Мы воюем со всеми причинами войн, воюем за такое устройство мира, при котором не мог бы появиться преступник, способный послать на смерть миллионы. Мы, коммунисты, любим свой народ. Мы знаем: не может быть свободным человечество, пока хотя бы один народ находится под гнетом другого. И мы не щадим ни сил, ни жизни своей в борьбе за полное освобождение своего народа, с тем, чтобы он, как равный среди равных, свободно жил среди свободных народов мира». (Ю.Фучик. Почему мы любим свой народ. Цит. по газете «Правда», 8 сентября 1948 г.).
В этих словах прекрасно выражены главные принципы коммунистической морали, ее роль в борьбе рабочего класса за мир, за свободу, за коммунизм, против буржуазии и капитализма.
Коммунистическая мораль основана на научном мировоззрении, на принципах марксизма-ленинизма. Как и все на свете, она не стоит на месте, развивается. Она обогащается вместе с развитием социалистического общества, вместе с развитием советских людей. Коммунистической морали принадлежит будущее во всем мире.
6. Религия
Что такое религия?
Религия есть идеологическая форма, представляющая собой фантастическое, иллюзорное, превратное отображение действительности в сознании людей. «...Всякая религия, — пишет Энгельс, — является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни,— отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В начале истории объектами этого отражения являются прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эволюции проходят у различных народов через самые разнообразные и пестрые олицетворения... Но вскоре, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку и так же чужды и первоначально так же необъяснимы для него, как и силы природы, и подобно последним господствуют над ним и так же кажущейся естественной необходимостью». (Ф.Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 299).
Религия есть вера в существование сверхъестественных, фантастических, т. е. нереальных, существ (богов, ангелов, чертей и т. п.), созданных воображением людей, беспомощных перед стихийными силами природы или задавленных социальным гнетом. Неотъемлемым элементом всякой религии является также религиозный культ, выражающийся в поклонении этим сверхъестественным силам, в тех или иных обрядах и действиях.
Религия играет реакционную роль. Она возникла еще в первобытном обществе, но ее идеи до сих пор владеют сознанием сотен миллионов людей в капиталистических странах, а также в странах полуфеодальных. Живучесть религии объясняется тем, что она насаждается, поддерживается и используется эксплуататорскими классами как орудие духовного порабощения трудящихся, как одно из средств укрепления политического господства эксплуататоров, Ленин писал: «Религия есть опиум народа,— это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии. Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и одурманиванию рабочего класса. (В.И.Ленин, Соч., т 15, изд. 4, стр. 371-372).
Происхождение религии
Исторические корни религии уходят в глубокую древность, в первобытные времена. Религия возникла из самых темных, невежественных представлений первобытных людей о природе.
Условия материальной жизни первобытного общества, породившие религию, — это крайне низкий уровень развития производства, при котором внешние силы природы господствовали над людьми. Гром, молния, землетрясения, буря и наводнение, холод и зной, засуха и лесной пожар — все грозные стихийные силы природы, окружавшие первобытного человека, были для него непонятны, загадочно-таинственны. По отношению к могущественным силам природы первобытный человек был почти беспомощен. Не имея возможности подчинить эти силы своей власти, он наделял их сверхъестественными свойствами, обожествлял их. При помощи заклинаний, просьб (молитв), жертвоприношений он пытался умилостивить эти силы, т. е. подчинить их своей власти в фантазии, в воображении. Таким образом, беспомощность перед силами природы и страх перед ними породили веру в сверхъестественные силы, веру в духов, богов и поклонение им.
Многие буржуазные ученые, как и теологи, считают религию явлением вечным, присущим всем людям во все времена. Но религия существовала не всегда. История культуры свидетельствует, что на самой ранней стадии первобытного общества никакой религии и религиозных представлений не существовало. Религия возникла на определенной ступени развития первобытного общества.
Многие атеисты и философы-материалисты прежних времен (например, Гольбах, Гельвеций, Дидро, Фейербах и др.) выводили происхождение религии только из невежества, из неумения, неспособности людей объяснить явления природы. Но одним невежеством объяснять возникновение веры в существование сверхъестественных сил нельзя. Первобытного человека нельзя рассматривать в качестве философа, размышляющего над тайнами бытия или над своей собственной природой. Он больше действовал, чем размышлял.
Вольтеру приписывают утверждение, что религия впервые возникла в результате встречи мошенника с дураком. Указания Вольтера и других буржуазных просветителей на обман как причину религиозных верований дают неправильное, идеалистическое объяснение происхождения религии. Обман, несомненно, играл и играет огромную роль в истории религии, особенно в условиях капитализма. Но наличие обмана еще не объясняет ни происхождения, ни столь длительного существования религии. Превратное, иллюзорное, фантастическое мировоззрение первобытных людей было порождено прежде всего их практической беспомощностью перед силами природы, страхом перед ними, ограниченностью их общественных отношений.
С возникновением эксплуатации человека человеком к силам природы, господствующим над человеком, прибавляются еще социальные силы, которые причиняют трудящимся не меньше, а еще больше несчастий и страданий, чем силы природы. «Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.». (В.И.Ленин, Соч., т. 10, изд. 4, стр. 65).
Выдающиеся материалисты еще до Маркса и Энгельса пришли к мысли о том, что не бог создал человека, а человек создал бога. Но, высказывая эту правильную мысль, старые материалисты не могли объяснить, почему же люди удвоили мир, почему наряду с естественным, материальным миром, природой, они создали в своем воображении фантастический, призрачный мир сверхъестественных существ. «Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, — пишет Маркс, — из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только само-разорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, после того как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 384).
Фантастическое отражение условий материальной жизни людей в религиозных представлениях и взглядах
Не общественная жизнь есть отражение религиозных верований, религиозных представлений, как утверждают идеалисты, а, наоборот, религиозные верования и представления являются отражением соответствующих условий материальной жизни общества, но отражением в иллюзорной, фантастической форме. Об этом свидетельствует содержание религиозных представлений, характер религиозных культов, молитв и т. п. Так например, у первобытных людей, занимавшихся по преимуществу охотой и рыболовством, образы богов напоминают зверей и рыб. Эти боги, по представлениям первобытных людей, могли быть добрыми и злыми; они либо содействовали успеху охоты и рыбной ловли, либо препятствовали.
С переходом первобытных племен от охоты и собирания дикорастущих плодов к земледелию облик богов, их атрибуты и «функции» изменяются, и это находит свое отражение в мифологии. У народов, живших на побережьях морей, существовало мнение, будто их родовые боги (боги-тотемы рода, племени) изменили свой образ: раньше они имели вид акулы, чайки, а потом приняли образ собаки, голубя, летучей мыши, дикой свиньи. Это перевоплощение богов отражало в превратной форме изменение хозяйственной деятельности народов. Если раньше боги «помогали» в ловле рыбы, в охоте, то с переходом первобытных родовых общин к земледелию они стали «помогать» роду, племени в обеспечении урожая ячменя, риса, кокосового ореха и т. п. Содержание молитв, с которыми обращаются первобытные народы и их жрецы к своим богам-тотемам, богам-предкам, это просьба о дожде, о солнце, о тепле, об урожае, об удачной рыбной ловле, о приплоде скота.
Южноафриканские кафры, принося жертву духам умерших предков, просят у них здоровья, благорасположения и умножения стад буйволов. У карен (Бирма), стоящих на сравнительно высокой ступени развития, распространено представление, что душу («ла») имеют не только люди и животные, но и растения. Плохой рост риса объясняется тем, что их покинула «ла». Чтобы увядающим стеблям риса вернуть их жизнь, карены обращаются с такой молитвой к душе риса: «О, приди, душа риса! Вернись на поле, вернись к рису!.. Приди с запада, приди с востока! Из горла птицы, из рта обезьяны, из хобота слона!.. Из всех хлебных амбаров! О, душа риса, вернись к рису!».
Отношения между людьми и божествами принимают характер сделки: я тебе, боже, приношу жертву, а ты содействуй моему успеху. Характер и ценность жертвоприношений находятся в прямой зависимости от образа жизни людей, от характера их деятельности. Если боги оказываются «неумолимыми», а приносимые жертвы напрасными, то с богами в первобытном обществе нередко обращались весьма непочтительно: их стаскивали с пьедесталов и подвергали публичной порке.
Боги ведут тот же образ жизни, что и люди: они также сражаются и ссорятся друг с другом, проявляют хитрость и коварство, занимаются чревоугодием, любят и ненавидят и даже соблазняют жен человеческих. С возникновением классового общества и государства изменяется и представление людей о божествах. Когда появляются могучие властители государств, то и богов люди начинают представлять себе всемогущими, стоящими высоко над людьми.
Как развитие религиозных верований следовало за социальным развитием, видно на примере превращения родовых богов в племенных, племенных в национальных и, наконец, в единые, «всемогущие» божества мировых монотеистических религий. Первоначально у каждой родовой общины были свои боги. По мере объединения общин в племена, а племен в народы объединились и боги, между которыми устанавливалась иерархия, отражавшая различный удельный вес объединившихся племен. Так, при возникновении древней вавилонской монархии главное божество города Вавилона — бог Мардук стал главным божеством царства, а остальные боги заняли подчиненное положение.
Возникновению царя на земле соответствовало появление царя на небе. «...Единый бог никогда не был бы осуществлен без единого царя... Единство бога, контролирующего многочисленные явления природы, объединяющего противоположные силы природы, есть только копия единого восточного деспота, который видимо или действительно объединяет сталкивающихся в своих интересах людей». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. XXI, стр. 45).
Возникновение и развитие христианства
Мировыми, т. е. получившими наибольшее распространение среди народов, религиями явились христианская, магометанская (ислам) и буддийская религии. На примере возникновения и развития христианства можно видеть, как изменяется религия в связи с изменением экономического базиса общественного строя.
Христианская религия возникла в недрах рабовладельческой Римской империи. Первоначально на территории Римской империи не было единой религии. Боги каждого народа, указывал Энгельс, распространяли свою власть лишь на область, занимаемую данным народом. По ту сторону данной области правили другие боги. Все эти боги жили в представлении людей лишь до тех пор, пока существовал создавший их народ, и падали вместе с его гибелью. Потребность дополнить всемирную Римскую империю всемирной религией первоначально обнаружилась в том, что рабовладельческий Рим пытался ввести у себя поклонение всем сколько-нибудь почитаемым божествам покоренных народов. Властители Рима поместили в Римском Пантеоне изображения богов покоренных народов и хотели посредством императорских декретов создать новую всемирную религию. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Новая всемирная религия сложилась иным путем. Она «возникла в тиши из смеси обобщенной восточной, в особенности еврейской, теологии и вульгаризированной греческой, в особенности стоической, философии». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные произведения, т.II, стр. 378).
Христианство возникло в эпоху упадка рабовладельческого Рима, в условиях крайнего обострения противоречий между рабами и рабовладельцами, имущими и неимущими. Первоначальное христианство выступило как религия рабов, угнетенных, обездоленных плебеев, в нем были революционные мотивы, ненависть рабов, плебеев, бедноты против богачей, рабовладельцев. Первоначально образ Христа рисовался как образ мессии (спасителя), призванного избавить людей от невыносимого гнета, страданий. Но, как и всякая религия, христианство обещало угнетенным лишь призрачное утешение, утешение на небе. Оно прививало рабам тупую покорность, примирение с рабовладельческим строем.
Суровая, длительная борьба рабов и плебеев против угнетателей терпела поражение за поражением. Отчаявшись достигнуть освобождения от нищеты, невыносимых страданий, мук и лишений, они устремляли свои взоры в неведомое небо, искали помощи сверхъестественных сил, возлагали надежды на бога, на пришествие мессии — спасителя, ждали чуда. Когда христианство получило широкое распространение, римские императоры превратили его в господствующую религию, в религию рабовладельцев.
Тот факт, что примерно через 250 лет после своего возникновения христианство стало государственной религией Римской империи, говорит о том, насколько оно соответствовало обстоятельствам времени. Всеобщий упадок, разложение гибнущего рабовладельческого Рима деморализовало и господствующий класс. Богатые и праздные рабовладельцы, пресытившись оргиями, чревоугодием, развратом, впадали в состояние маразма и мистики. Надвигавшуюся гибель разлагавшейся Римской империи они воспринимали как гибель всего мира, как светопреставление. Восстания рабов и плебеев, нашествия варваров приводили господствующий класс в отчаяние, усиливали мистические настроения, мысль о «потустороннем, загробном мире». Эти настроения гибнущего класса рабовладельцев также нашли свое отражение в раннем христианстве, особенно тогда, когда оно стало государственной, господствующей религией.
Превратившись из религии рабов в религию рабовладельцев, в религию господствующих классов, христианство претерпевало большие изменения в своем содержании. Вытравляя из первоначального христианства бунтарские, антирабовладельческие мотивы, эксплуататорские классы утверждали в нем принципы, выгодные им: смирение, кротость, покорность.
В эпоху феодализма христианство продолжало эволюционировать дальше. Иерархическая система отношений феодального общества получила свое отражение в христианской религии с ее иерархическим сонмом святых, ангелов, архангелов, возглавляемых царем небесным. Христианская религия служила духовной опорой феодализма, а церковь была крупнейшим феодалом, ей принадлежало в Западной Европе около трети всех земель.
Разгоравшаяся классовая борьба крепостных крестьян и городского плебейства против феодалов выливалась в форму религиозных ересей, сект, сторонники которых боролись с господствующей христианской церковью, католической и православной.
Первые буржуазные революции (так называемая реформация и крестьянская война в Германии в XVI в., революция XVI в. в Нидерландах и XVII в. в Англии) проходили под религиозным знаменем. Идеологи подымавшейся буржуазии, крестьянства и городских низов апеллировали к первоначальному христианству, искаженному духовенством, папами и патриархами, или давали свое, новое толкование христианским догматам, противоположное официальной церкви феодального общества.
Французская буржуазия, совершавшая революционный переворот против феодализма при более зрелых условиях, выступила открыто под не религиозным, политическим знаменем. Передовые идеологи французской буржуазии XVIII в. смело нападали на религию вообще, на католическую религию в особенности. Во французских национальных собраниях периода революции (1789—1794 гг.) в значительном числе заседали свободные мыслители: атеисты и деисты.
Но как только буржуазия пришла к власти, «христианство вступило в свою последнюю стадию. Оно уже не способно было впредь поставлять идеологическую одежду для стремлений какого-нибудь прогрессивного класса; оно все более и более становилось исключительным достоянием господствующих классов, пользующихся им просто как средством управления, как уздой для низших классов. При этом каждый из господствующих классов использует свою собственную религию: землевладельцы-дворяне — католический иезуитизм или протестантскую ортодоксию; либеральные и радикальные буржуа — рационализм. Вдобавок на деле оказывается совершенно безразличным, верят или не верят сами эти господа в свои религии». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные произведения, т. II, стр. 380).
Российская буржуазия не была революционной. Поэтому она и ее идеологи всегда защищали религию, видя в ней надежную узду для угнетенных классов. Напуганная революцией 1905—1907 гг. российская буржуазия стала особенно богомольной. По ханжеской набожности она уступала разве только английской и американской буржуазии. Реакционнейшая американская буржуазия особенно усердно приспосабливает религиозную проповедь к нуждам своей коммерческой, деятельности.
Социальные корни религии в условиях капитализма
Религия — это самая консервативная и реакционная идеологическая форма. Передаваясь из поколения в поколение, она цепко держит в своих лапах сознание трудящихся. Но как же возможно существование религии и ее господство над умами миллионов людей в век пара и электричества, в век химии и атомной энергии, в век тепловозов и самолетов, в век современной медицины? Это нельзя объяснить только тем, что здесь играет огромную роль вековая традиция. Главная причина существования религии и религиозности масс в буржуазном обществе кроется в системе капитализма, в анархии производства и стихийном действии его законов, в придавленности трудящихся капиталистическим гнетом. От капиталистического гнета, от порождаемых капитализмом войн, кризисов, безработицы, нищеты человечество страдает, терпит бедствия, неизмеримо большие, чем от всех стихийных сил природы, вместе взятых. В статье «Об отношении рабочей партии к религии» Ленин писал: «Почему держится религия в отсталых слоях городского пролетариата, в широких слоях полупролетариата, а также в массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает буржуазный прогрессист, радикал или буржуазный материалист... Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничество. Такой взгляд недостаточно глубоко, не материалистически, а идеалистически объясняет корни религии. В современных капиталистических странах это — корни, главным образом, социальные. Социальная придавленность трудящихся масс, кажущаяся полная беспомощность их перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войн, землетрясений и т. д., — вот в чем самый глубокий современный корень религии. «Страх создал богов». Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит «внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть,— вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса». (В.И.Ленин, Соч., т. 15, изд. 4, стр. 374-375).
Религия в капиталистических странах является орудием социального гнета, а церковь представляет часть аппарата, служащего закрепощению трудящихся масс. Например, католическая церковь во главе с римским папой, а также протестантская церковь всюду поддерживают самые реакционные режимы, Ватикан открыто поддерживал Муссолини и Гитлера, их разбойничью империалистическую войну и ни разу не протестовал против их чудовищных преступлений и зверств. После второй мировой войны Ватикан требовал милосердия к фашистским военным преступникам и добивался их оправдания. Во многих странах капитализма католические партии или партии, близкие к католической церкви, стоят у власти: в Италии, Франции, Западной Германии, Испании, Португалии, И они проявили себя как самые кровавые палачи, душители свободы и демократии. Палач Шельба, министр внутренних дел Италии, это символ католической реакции.
Ватикан запятнал себя как соучастник страшных злодеяний империалистической буржуазии против народов. Католическая церковь во главе с папой ныне перешла на службу к главной империалистической реакционной силе наших дней — к империализму США. Располагая колоссальным разветвленным аппаратом, Ватикан выполняет функции духовного порабощения трудящихся, а также шпионские функции. Об этом свидетельствуют дело кардинала Миндсенти в Венгрии, судебные процессы шпионов и диверсантов — католических священников в Чехословакии, в Болгарии. Проводя подрывную работу в странах народной демократии, поддерживая поджигателей войны, содействуя сколачиванию военных империалистических блоков против СССР и стран народной демократии, папа Пий XII, благословлявший и благословляющий фашистских палачей, предает анафеме, проклятию сотни миллионов граждан, идущих во всех странах за коммунистами. Ватикан — это поджигатель войны.
Католическая церковь, как и религия в целом, все больше и больше разоблачает себя перед всем миром как орудие империалистической реакции.
Реакционную роль играют и другие религии, в частности ислам и буддизм. Например, ислам, являясь орудием классового угнетения, требует от верующих смирения, покорности своей судьбе, безропотного подчинения эксплуататорам. Недаром Слово ислам означает покорность, а последователи ислама называются мусульманами (муслимы), что значит покорные.
Весь ход исторического развития подрывает силы реакции и способствует торжеству прогрессивных сил, сил коммунизма, борющихся под знаменем научного, материалистического, атеистического мировоззрения.
Коренная противоположность религии и науки
Религия и наука взаимно исключают друг друга. «...Религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке», - указывает И. В. Сталин. (И.В.Сталин, Соч., т. 10, стр. 132-133).
Наука — это совокупность знаний о природе и обществе, знаний, проверяемых практикой и используемых для подчинения сил природы, а также для борьбы с капитализмом и для строительства коммунизма. Наука вооружает человека действительным знанием, увеличивает его власть над природой и над общественными явлениями, расширяет его кругозор, дает силу ориентировки, ясность перспективы развития.
Религия — это фантастическое, превратное воззрение на мир. Она усыпляет разум, ослабляет волю людей в борьбе с силами природы, волю угнетенных в борьбе с угнетателями. Религия — это путы, сковывающие людей. Религия враждебна народу, трудящимся. Она есть орудие реакции.
Наука шаг за шагом вытесняет религию и идеализм. Коперник нанес удар освященному религией представлению о земле как центре вселенной. Открытие Ломоносовым закона сохранения материи, а также закона сохранения энергии выбило почву у религиозного учения о сотворении мира. Дарвин своим учением о происхождении и развитии животных и растительных видов нанес сокрушительный удар религиозному мировоззрению. Великие русские ученые-материалисты Сеченов и Павлов своими работами в области физиологии и психологии, Тимирязев и Мичурин в биологии нанесли смертельный удар религии и идеалистическому мировоззрению. Выдающийся советский ученый Т. Д. Лысенко своими смелыми теоретическими исследованиями и опытами, своей практикой по преобразованию растительного мира способствовал разгрому идеалистического, поповского учения в биологии — вейсманизма-менделизма-морганизма. Марксизм-ленинизм навсегда изгнал религию из ее последнего убежища — из области истории.
Таким образом, по мере развития науки религиозные предрассудки все больше и больше теряют под собой почву. Однако в капиталистическом обществе прогресс науки совершается противоречиво. Буржуазия в целях развития производства вынуждена опираться на науку, но, с другой стороны, она страшится науки и защищает приоритет религии перед наукой, пытается примирить религию с наукой и даже ведет прямой поход против науки. Реакционные идеологи пытаются использовать трудности развития науки для усиления идеализма и религии, истолковывают нерешенные проблемы в пользу религии. В фашистской Германии мракобесие и поход против передовой науки приняли в свое время ужасающие размеры.
Ныне в рассадник мракобесия и реакции превратились США. Во многих штатах (Теннеси, Орегон, Мичиган, Флорида, Калифорния и др.) еще в 1921—1926 гг. законодательством было запрещено преподавание дарвиновской теории. Буржуазные мракобесы США заявили, что «христиане будут сражаться с эволюцией, как с величайшим врагом». В штате Джорджия преподавание астрономии ведется по Птоломею, а учебники, в которых говорится о том, что земля имеет шарообразную форму, запрещены. Проповедь антинаучных теорий, диких суеверий, преследование великих естественно-научных теорий, яростная борьба против прогрессивных общественных сил — это роднит американскую реакцию с средневековой инквизицией.
Марксизм-Ленинизм и борьба с религией
Диалектический материализм непримирим ни с каким суеверием, ни с каким духовным и социальным гнетом. Марксизм-ленинизм всегда вел последовательную, непримиримую борьбу против всех видов мракобесия, идеализма и религии. Именно он указал истинный путь к полному преодолению религии и эксплуататорского строя, ее поддерживающего.
Еще в ранней своей работе «К критике гегелевской философии права» Маркс писал: «Религия — это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух бездушного безвременья. Она — опиум народа». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. I, Госполитиздат, 1938, стр. 385).
Во всех своих философских произведениях Маркс и Энгельс обосновывали последовательный, воинствующий атеизм. Ленин и Сталин двинули дальше и всесторонне развили этот атеизм. Они всегда вели непримиримую борьбу против поповщины во всех ее разновидностях, критиковали малейшие отступления от диалектико-материалистического мировоззрения, от последовательного атеизма.
После поражения революции 1905—1907 гг. в России наступила полоса реакции. Часть интеллигенции ударилась в мистику, проповедуя реакционные идеи «богостроительства», «богоискательства». «Богостроители», связанные с махистами, богдановцами, подкрашивали скомпрометировавшую себя христианскую религию и церковь и проповедовали обновленную религию. Ленин выступил против проповедников идеализма, поповщины, «богостроительства» и «богоискательства» со своей знаменитой книгой «Материализм и эмпириокритицизм» и рядом статей. В письме к М. Горькому, критикуя «богостроителей», Ленин писал:
«Неверно, что Бог есть комплекс идей, будящих и организующих социальные чувства. Это — богдановский идеализм, затушевывающий материальное происхождение идей. Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом, — идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу. Было время в истории, когда, несмотря на такое происхождение и такое действительное значение идеи бога, борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой.
Но и это время давно прошло». (В.И.Ленин, Соч., т. XVII, изд. 3, стр. 85).
В нашу эпоху всякая, даже самая утонченная, благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции и пособничество ей.
«Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки». (Там же, стр. 82).
Вот почему марксисты-ленинцы считали и считают необходимым вести борьбу с религиозными предрассудками и суевериями, в каких бы формах они ни проявлялись.
В реформистских партиях II Интернационала широкое распространение получили оппортунистическая терпимость к религиозной проповеди и даже прямые попытки «соединить» социализм с религией. Оппортунисты из II Интернационала заявляли, что религия должна быть объявлена «частным делом» каждого социал-демократа. Современные правые социалисты во всех странах проповедуют идеализм, мистику, поповщину, «религиозный социализм».
Разоблачая оппортунистов, Ленин указывал, что нельзя отождествлять отношение к религии со стороны государства и со стороны партии пролетариата. «Мы требуем, чтобы религия была частным делом по отношению к государству, но мы никак не можем считать религию частным делом по отношению к нашей собственной партии». (В.И.Ленин, Соч., т. 10, изд. 4, стр. 66).
Признание религии частным делом по отношению к государству означает, что церковь должна быть отделена от государства, государство не должно поддерживать религиозные культы, а всякий гражданин должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии, т. е. быть атеистом. Выдвигая эти требования
как часть демократических преобразований, партия пролетариата стремилась обеспечить гражданам полную свободу совести и покончить с распространенными в капиталистических странах преследованиями людей за их уклонение от господствующей религии.
C победой Великой Октябрьской социалистической революции и установлением советской власти церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. В статье 124 Конституции СССР указано: «Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами».
Религия, являясь с точки зрения марксизма частным делом по отношению к государству, отнюдь не является частным делом по отношению к партии пролетариата. Марксистская партия не может безразлично относиться к тому, какие убеждения, принципы исповедуют ее члены. Она требует от своих членов активной борьбы против всякого социального и духовного гнета, борьбы со всеми отсталыми взглядами, со всеми предрассудками, в том числе и с религиозными. В условиях капитализма, когда религия имеет прочные социальные корни, борьба с нею ведется не только путем воспитания, пропаганды научного мировоззрения, но прежде всего путем вовлечения трудящихся в активную борьбу за революционное преобразование общества. При этом партия всегда подчиняет борьбу с религиозными предрассудками политическим задачам, коренным интересам борьбы за диктатуру рабочего класса, за коммунизм.
Для того что бы преодолеть религию, суеверия, мистику, недостаточно одних просветительных книжек, даже самых хороших. Чтобы преодолеть религию, суеверия, мистику, надо уничтожить почву, которая их порождает и питает. Иначе говоря, надо уничтожить капиталистическое и построить коммунистическое общество.
Социалистическая революция, победа социализма в СССР подтвердили полностью это положение марксизма-ленинизма. С установлением планового социалистического хозяйства, с уничтожением Эксплуатации человека человеком и ликвидацией эксплуататорских классов в СССР навсегда уничтожены социальные корни религии. В борьбе за социализм граждане СССР освобождались от религиозных суеверий, религиозных верований. Ныне подавляющее большинство граждан социалистического общества — это атеисты, неверующие. В своей борьбе за коммунизм они полагаются не на помощь призрачных небесных сил, а лишь на свои собственные силы, на данные науки, на руководство партии большевиков.
Возрастающая механизация сельского хозяйства, широкие мероприятия Советского государства по борьбе с засухой, борьба за высокие, устойчивые урожаи в корне подрывают религиозные суеверия. Десятки миллионов передовых колхозников уже ясно понимают, что нельзя пассивно ждать милостей не только от несуществующего бога, но и от природы. Опираясь на передовую технику и науку, они своим социалистическим трудом создают невиданно высокие урожаи и тем самым опровергают реакционные религиозные басни.
Однако в социалистическом обществе религиозные воззрения еще не преодолены полностью. Религия, религиозные суеверия пока еще продолжают владеть умами значительной части населения, особенно в деревне. Религиозные взгляды в социалистическом обществе являются пережитком, наследием старого строя.
Когда новое только что возникло, элементы старого продолжают еще оставаться наряду с новым по традиции. Так бывает и в экономике и в области идеологической. А религия — наиболее консервативная форма идеологии. Раз возникнув и овладев умами миллионов, она приобретает силу привычки, передается из поколения в поколение по традиции.
Религиозные пережитки, несомненно, являются тормозом нашего развития к коммунизму. Борьба против религиозного мировоззрения, за научное, материалистическое мировоззрение есть часть борьбы за коммунизм. Поэтому в условиях социалистического общества особое значение приобретает пропаганда научного мировоззрения. Именно потому, что социальные, экономические корни религии в СССР уже уничтожены, приобретает решающее значение умелая систематическая антирелигиозная пропаганда, тесно связанная с повседневной практикой
строительства коммунизма.
Коммунистическая партия противопоставляет религии последовательный воинствующий атеизм, диалектический материализм. Диалектический материализм, давая правильную, научную картину мира, возвышает человека, будит его активность, умножает его силы в борьбе за преобразование мира в интересах трудящихся.
7. Искусство
Что такое искусство?
Искусство — это одна из форм общественного сознания. Как и наука, передовое, реалистическое искусство также призвано дать обществу, передовым классам правдивую картину действительности, познание социальной жизни. Но искусство, художественное мышление, в отличие от науки, от теоретического мышления, дает познание, воспроизведение действительности не в понятиях, категориях, а в художественных образах, в живых картинах. «Философ, — пишет Белинский, — говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, показывает в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой — картинами». (В.Г.Белинский, Избранные философские сочинения, т. II, Госполитиздат, 1948, стр. 453).
Подлинное произведение искусства всегда заключает в себе ту или иную общественную идею, воплощенную в художественном образе. Чем более значительна, возвышенна и правдива идея произведения искусства и чем совершеннее и адекватнее в этой идее его художественная форма, тем выше и значительней художественное достоинство произведения. Ложная идея неизбежно приводит к внутренней противоречивости, неубедительности, неправдоподобности произведения искусства и, следовательно, к его антихудожественности. Форма, лишенная высокого идейного содержания, не дает и не может дать подлинно художественного произведения. Отрыв формы от содержания, формализм в искусстве ведет к распаду искусства, к пустоцвету. В подлинно великих творениях искусства идейное содержание и художественная форма адекватны, соответствуют друг другу.
Художественный образ реалистического искусства отражает и выражает наиболее существенное, типичное в изображаемой действительности, в общественной жизни. В отличие от чисто внешнего, натуралистического изображения единичного, случайного, художник-реалист, создавая образ, проникает во внутренний мир изображаемого, дает изображение типичного, существенного. В образе индивидуального героя, изображаемого художником, воплощается социальный тип, характер, имеющий более или менее широкое распространение в определенной общественной среде. Социальными типами старого общества были Отелло, Яго, Скотинины, Фамусов, Чацкий, Евгений Онегин, Хлестаков, Иудушка Головлев и многие другие. Социальными типами советского общества являются комсомолец Павел Корчагин, двадцатипятитысячник Давыдов, полковник Воропаев, кавалер «Золотой Звезды» Тутаринов и т. д. Художник-реалист дает изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах. Галерея художественных образов, создаваемая искусством, раскрывает перед нами целый мир общественных отношений, исторических событий. Ф. Энгельс, характеризуя творчество Бальзака, его «Человеческую комедию», пишет, что он «дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 405).
Искусство играет огромную роль в общественной жизни. Порождаемое общественной жизнью и являясь художественным отображением действительности, оно в свою очередь оказывает воздействие на общественную жизнь, формирует чувства, мысли, волю, нравственные принципы людей. Воздействие искусства на общественную жизнь может быть прогрессивным и реакционным в зависимости от его классового содержания.
Буржуазные социологи, теоретики искусства, обычно объясняют происхождение искусства то какими-то таинственными «свойствами человеческой души» или «прирожденными», «извечными» эстетическими «чувствами прекрасного», то интуицией, или «подсознательным», то «вдохновением избранных» и т. д.и т. п. Нетрудно заметить, что теоретическую основу подобных взглядов на происхождение искусства составляет философский идеализм, мистифицирующий общественную жизнь, отрывающий сознание от бытия.
Некоторые из буржуазных теоретиков ищут истоки искусства в животном мире. При этом они ссылаются на пение птиц, на их красочное оперение, на игры животных и т. п.
Эти идеалистические и метафизические теории дают превратное представление о происхождении искусства. Марксизма учит, что объяснение происхождения искусства нужно искать в самой общественной жизни. Искусство возникает из потребностей общественной жизни. Примитивное искусство народов, стоящих на низших ступенях культуры,— пляски, рисунки на стенах пещер, скульптурные изображения — является воспроизведением их трудовой деятельности. Например, в плясках австралийских женщин-туземок воспроизводится ловля опоссума, ловля раковин, собирание корней питательных растений, кормление ребенка и т. д.
Первобытные народы украшали свои пещеры рисунками, изображениями животных, на которых они охотились. Иногда стены этих пещер представляют собой своеобразные «картинные галереи». Пение первобытных народов также было связано с производственной деятельностью, сопровождало их работу. Здесь связь искусства с общественной производственной жизнью непосредственная, она очевидна, бесспорна. Искусство здесь лишь идеализированная форма общественной практики.
На более высоких ступенях общественного развития связь искусства с производством усложняется, перестает быть непосредственной. В классовом обществе непосредственное влияние на развитие искусства, на его характер оказывают экономический строй общества, политика, классовая борьба, а также различные идеологические формы: религия, мораль, наука, философия.
Понятие о прекрасном
Как свидетельствует история, эстетические идеи, взгляды и вкусы людей, их представления о красивом и некрасивом более или менее значительно изменяются, развиваются в связи с изменением и развитием условий материальной жизни общества.
Великий представитель революционной демократической мысли в России Н. Г. Чернышевский отмечал, что представление о красивом и некрасивом может быть различным не только в различные исторические эпохи, но и в одну и ту же эпоху у разных сословий. Представление о прекрасном у дворянина-бездельника и поселянина-труженика различно. Дворянину худоба, томность, бледность липа девушки кажутся признаком красоты, изящества, а для крестьянина эти качества — признаки болезненности. ««Полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление». (Н.Г.Чернышевский, Эстетические отношения искусства к действительности, Госполитиздат, 1945, стр. 12).Его идеал девушки — румянец во всю щеку, загорелость лица, плотность телосложения как признаки здоровья, силы, необходимых для трудовой жизни. Различие представлений о прекрасном у разных общественных классов Н. Г. Чернышевский справедливо выводил из различных общественных условий жизни этих классов и, соответственно, из различия их психологии.
Эстетические идеи и взгляды людей изменяются от одной эпохи к другой в связи с изменением экономического базиса общества. Однако в подлинно великом реалистическом искусстве всегда содержатся непреходящие эстетические ценности, доставляющие художественное наслаждение людям различных эпох. Поэзия Пушкина и Лермонтова, музыка Глинки и Чайковского, живопись Сурикова, Репина, Рафаэля и Тициана доставляют и будут доставлять эстетическое наслаждение в течение многих веков.
В художественном творчестве, в художественном познании действительности, как и в научном познании, содержится объективная истина, жизненная правда. Искусство в своем поступательном развитии дает нам художественное воспроизведение общественной жизни. И чем глубже, полнее, гениальнее и прекраснее художественное воспроизведение исторического бытия в произведениях искусства, тем большее общественное значение они имеют, тем больше их познавательная роль и вызываемое ими художественное наслаждение и волнение, тем больше их действенность.
Разоблачая субъективно-идеалистический взгляд буржуазных философов на искусство, исторический материализм говорит об объективной основе прекрасного, отражаемого в образах реалистического искусства. Самым верным, объективно-правдивым художественным отражением действительности является советское искусство, искусство социалистического реализма, искусство великих прогрессивных идей и великой жизненной правды.
Особенности развития искусства
Ход развития искусства, смена периодов его подъема, расцвета и упадка, представляет собой не случайное, а закономерное явление, В искусстве отражаются изменения условий материальной жизни общества, отражается борьба классов, вся материальная и духовная жизнь общества. Развитие искусства определяется в конечном счете развитием экономического базиса общества. Воздействие экономического базиса происходит и непосредственно и опосредованно — через политический строй, борьбу классов, через воздействие идеологии, в частности философских, эстетических теорий и взглядов.
Экономический базис общества нельзя отождествлять с уровнем развития производительных сил, как это делают вульгарные материалисты, представители так называемого «экономического материализма» и другие упрощенцы, механически сопоставляющие развитие искусства с уровнем экономического развития общества. Чем выше степень развития производства, говорят они, тем выше должна быть и ступень развития искусства. Исходя из этого, они средневековое феодальное искусство ставят «выше» классического искусства древней Греции, декадентское, разлагающееся искусство эпохи империализма считают «выше» искусства эпохи Возрождения. Это, конечно, вздор. Связь между периодами расцвета искусства и уровнем развития материального производства гораздо сложнее, чем представляют вульгарные социологи. Искусство развивается под воздействием классовой борьбы, всевозможных идеологических влияний — политических идей, философии, морали, религии и т. д.
Маркс пишет, что некоторые периоды расцвета искусства не находятся в соответствии с развитием материальных основ общества. В качестве примера он приводит древнегреческое искусство и Шекспира, сравнивая их с искусством «современных народов». «Относительно некоторых форм искусства, напр., эпоса,— пишет Маркс,— даже признано, что они в своей классической форме, составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство как таковое; что, таким образом, в области самого искусства известные формы, имеющие крупное значение, возможны только на сравнительно низкой ступени художественного развития. Если это имеет место в области искусства в отношениях между различными его видами, то еще менее поразительно, что это обстоятельство имеет место в отношении всей области искусства к общему социальному развитию. Трудность заключается только в общей формулировке этих противоречий. Стоит лишь выделить каждое из них, и они уже объяснены. Возьмем, напр., отношение греческого искусства и затем Шекспира к современности. Известно, что греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву. Разве тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого (искусства), возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа?.. Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч. т. XII, ч. I, стр. 200-203).
Маркс отмечал прямую враждебность капиталистического производства некоторым отраслям духовного развития, искусству и поэзии. Эта враждебность капитализма искусству, поэзии вытекает из капиталистического разделения труда, уродующего и убивающего личность, из того, что при капитализме основным движущим мотивом деятельности людей является прибыль, деньги, страсть к накоплению ради накопления, наконец, из того, что при капитализме становится все продажным: совесть и честь, достоинство человека, любовь и дружба. Великие творения в области искусства, появившиеся в эпоху капитализма, вызваны к жизни отнюдь не преуспеянием буржуазии и даже не успехами техники и промышленности, как изображают дело вульгарные социологи, а более сложными причинами. Время наибольших успехов, достигнутых в некоторых областях искусства и литературы, падает на периоды острой борьбы народных масс против крепостничества, а затем и против капитализма, на периоды народного воодушевления в борьбе против социального гнета. Живопись Рафаэля и Тициана, Леонардо-да-Винчи и Микель-Анджело, великие творения Шекспира и Раблэ, Сервантеса и Гёте, Пушкина, Гоголя, Толстого были выражением протеста и борьбы против крепостничества, а также против власти денежного мешка, против хищнической буржуазии.
Вскрытая Марксом закономерность в развитии некоторых форм искусства ярко подтверждается развитием русского искусства. Тайна расцвета русской классической литературы и русского искусства в XIX в. заключалась в глубоких социально-экономических и политических противоречиях царской России. Русская литература и искусство XIX в. вызваны были потребностями развития страны, были призваны помочь разрешить назревшие социальные противоречия. Это относится не только к творчеству Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева и Некрасова, но и Л. Н. Толстого. В. И. Ленин писал:
«Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, еще при крепостном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятельности, он рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества». (В.И.Ленин, Соч., т. 16, изд. 4, стр. 293).
Таким образом, при анализе развития искусства необходимо исходить, во первых, из природы данного общественного строя и его материальных, экономических основ, во-вторых, из своеобразия развития данного общественного строя у данного народа, из конкретных, исторически сложившихся условий жизни народа, в-третьих, из характера господствующего в данном обществе мировоззрения, идеологии.
Классовое содержание искусства
В классовом обществе эстетические, художественные взгляды, как и другие идеологические формы, имеют классовый характер. В обществе, разделенном на враждующие, антагонистические классы, нет и не может быть искусства, стоящего над классами, вне классовой борьбы, как говорил Ленин: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания». (В.И.Ленин, Соч., т. 10, изд. 4, стр. 30).
Буржуазные теоретики искусства и социологи-идеалисты лгут, утверждая, будто искусство живет самостоятельной жизнью, независимой от общества, от политики. Такого искусства нет и никогда не было. Искусство всегда было и остается явлением общественным, ставящим и решающим определенные общественные задачи; в классовом обществе оно не может стоять вне классов, а служило и служит определенным политическим целям, т. е. классам. Даже в том случае, когда в классовом обществе возникает направление так называемого «чистого искусства», проповедь «искусства для искусства», и тогда искусство выполняет определенный классовый заказ — задачу отвлечения масс от политической борьбы в интересах эксплуататоров. Именно одну из таких задач ставит буржуазия в наше время перед своим искусством.
Против прогрессивного, демократического и социалистического искусства, против передовых писателей, артистов, художников буржуазия вела и ведет борьбу, преследует их. Судебный процесс над прогрессивными деятелями Голливуда, преследование Говарда Фаста, Чарли Чаплина, Поля Робсона и др. в США, преследование Пабло Неруды в Чили, Луи Арагона во Франции, преследование великого турецкого поэта Назым Хикмета — все эти и другие бесчисленные факты свидетельствуют о том, что реакционная буржуазия и ее государство выступают против передового искусства и его представителей и насаждают реакционное искусство.
Искусство служит идейным оружием в классовой борьбе. Ленин учил, что в противовес реакционной буржуазной, предпринимательской, торгашеской печати и литературе, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, барскому анархизму и погоне за наживой для социалистического пролетариата литература должна являться частью обще-пролетарского дела, дела борьбы за социализм.
«Ленинизм исходит из того, что наша литература не может быть аполитичной, не может представлять собой «искусство для искусства», а призвана осуществлять важную передовую роль в общественной жизни. Отсюда исходит ленинский принцип партийности литературы — важнейший вклад В. И. Ленина в науку о литературе». (А.А.Жданов, Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госполитиздат, 1946, стр. 26).
Партийность литературы — это прежде всего ее идейная направленность. Передовая, прогрессивная классическая русская литература проникнута великой, благородной идеей служения народу. Великие русские революционные демократы — В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов видели высшее назначение искусства в том, что оно должно давать правильное познание жизни и ответы на самые острые и волнующие вопросы современности, оно должно выносить моральный приговор, быть проводником передовых идей, служить народу, помогать его движению вперед. Эти передовые традиции великих революционных демократов и русской классической литературы унаследовала советская литература, самая идейная и передовая литература в мире.
Ленинский анализ классового характера искусства
Классическим образцом марксистского анализа искусства, его классового содержания, художественной значимости и общественной роли являются гениальные статьи Ленина о Л. Н. Толстом и его творчестве. О Толстом писали много во всех странах: мира. Но никто не раскрыл с такой глубиной и силой социальную сущность творчества величайшего русского и мирового писателя, как Ленин.
Для Плеханова Толстой был великий писатель, но писатель-помещик, барин. Но если бы Толстой был только выразителем идеологии помещиков, тогда непонятно величие его творчества, могучая сила его произведений.
Ленин в отличие от Плеханова увидел в творчестве Толстого не только то, что он был помещик. Главным, решающим в творчестве Толстого является то, что он дал отражение русской крестьянской революции, ее противоречий, ее сильных и слабых сторон: «Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие,— писал Ленин.— С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом... С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины». (В.И.Ленин, Соч., т. 15, изд. 4, стр. 180).
Противоречия во взглядах Толстого это не только противоречия его личной мысли, это отражение сложных противоречий в условиях материальной жизни общества, результат «социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную
эпоху». (В.И.Ленин, Соч., т. 16, изд. 4, стр. 295). В произведениях Толстого отразились сила и слабость крестьянского массового движения. Толстой дал художественное изображение целой исторической эпохи в жизни России. В этом величие и историческое значение его художественного творчества.
Буржуазное искусство эпохи империализма и его реакционная роль
Эпоха империализма, означающая загнивание капитализма и наступление реакции по всем линиям, ознаменовалась разложением, декадансом, вырождением буржуазной идеологии, в том числе и буржуазного искусства. Современное буржуазное искусство является проводником реакции, оно направлено на то, чтобы убить волю трудящихся к борьбе с капитализмом, деморализовать их и отвлечь от жгучих, насущных задач борьбы за социализм, за мир и демократию.
Пропаганда реакционных, антидемократических, антинаучных идей и суеверий, презрение к человеку, к жизни, объявление бытия случайностью, разжигание зоологических инстинктов, проповедь войны, космополитизма, индивидуализма — таково содержание вырождающегося, разлагающегося современного буржуазного искусства.
Главные герои современного буржуазного искусства — это буржуазные дельцы, гангстеры, громилы, убийцы, диверсанты, шпионы, аморальные, духовно опустошенные элементы, параноики, человеконенавистники, люди, лишенные совести и чести. Буржуазия прославляет авторов порнографических и детективных романов, повестей, кинофильмов и театральных пьес, в которых изображаются и смакуются грабежи, убийства, предательства, национальная и расовая ненависть. Одним из модных буржуазных писателей ныне является Жан Женэ, автор «Дневника вора». Произведения подобных писателей служат воспитанию убийц, головорезов, эсэсовцев, разбойников — людей, которые могли бы стать пушечным мясом для третьей мировой войны.
Уже названия романов, повестей, кинофильмов, пьес характеризуют содержание и направленность буржуазного искусства. Вот некоторые названия: «Плевать мне на ваши могилы» (Сюлливан), «Игра со смертью» (Жан Перец), «Смерть бродит на перекрестках» (Пьер Жан Лоней), «Все люди смертны» (С. Бювар), «Дневник мертвеца», «Смерть без погребения» (Сартр) и т. п. Трупным запахом, тленом, мертвечиной веет от этой буржуазной литературы, свидетельствующей о закате, гниении капитализма. Центр американской кинопромышленности Голливуд — это колоссальная фабрика лжи, обмана и растления сознания народов. Сотни американских кинофильмов наводнили города не только американского континента, но и капиталистической Европы. Вот названия некоторых кинокартин Голливуда: «Компания убийц», «Кровавые деньги», «Сладкая отрава», «Убийцы из Калькутты», «Требуется убийца», «Наемный убийца», «Портрет убийцы», «Право убить», «Убийство в сумасшедшем доме», «Женщина, которую я убил», «Кровь на снегу», «Кровь на земле», «Ферма повещенного», «Продается душа», «Женщина-леопард», «Тигрица», «Грешница», «Дьяволица» и т. д. В декларации, помещенной в сборнике «Писатели XX века», вышедшем в Нью-Йорке, модный американский автор порнографических романов Генри Миллер пишет: «Меня не интересует ни жизнь масс, ни намерения существующих в мире правительств. Я надеюсь и твердо верю в то, что весь цивилизованный мир будет стерт с лица земли в период ближайшего столетия». Один из героев пьесы модного буржуазного американского писателя О’Нейля — Ларри Слейд вещает: «Вся мировая история является доказательством того, что истина не оказывала влияния на ее ход. Ложь... — вот что вдыхает жизнь в нас, злосчастных людей, как пьяных, так и трезвых».
Классическое искусство давало знание жизненной правды и воспитывало читателя, зрителя в духе гуманизма, патриотизма и других высоких моральных принципов. Знаменем современного буржуазного искусства является ложь, моральное разложение, эгоизм и крайний индивидуализм.
Классическое искусство выступало поборником разума, просвещения, науки. Современное буржуазное искусство является апологией иррационализма, «подсознательного», инстинктивного, болезненного — паранойи и шизофрении. Модное направление буржуазного искусства, так называемый сюрреализм, считает, что чем бессмысленней произведение, тем выше его «достоинство».
Подобно тому как в современной буржуазной философии безраздельно господствует самый пошлый идеализм, утонченная поповщина, мистика, соответственно этому в буржуазном искусстве господствует формализм во всех его разновидностях (импрессионизм, сюрреализм, кубизм, символизм и т. п.). Одна из характерных черт формализма в искусстве — это безидейность, отрыв формы от содержания и превращение ее в нечто самодовлеющее.
Другим направлением буржуазного искусства является натурализм, поверхностное фотографирование действительности. Современные буржуазные натуралисты подробно описывают грабежи, убийства, половой разврат, смакуют все гнилостное, омерзительное, что порождается загнивающим капитализмом — империализмом.
Пролетарское искусство
Пролетарское, социалистическое искусство зарождается еще в недрах капитализма. Творцами его являются такие писатели, как гениальный художник слова А. М. Горький, А. С. Серафимович и Демьян Бедный в России, Анри Барбюс, Луи Арагон, Поль Элюар во Франции, Теодор Драйзер, Говард Фаст в США, Вилли Бредель в Германии, Мате Залка в Венгрии, Юлиус Фучик в Чехословакии, Мартин Андерсен Нексе в Дании и др.
Еще в условиях капитализма лучшие представители интеллигенции переходят на сторону рабочего класса, на сторону социализма и отдают свое вдохновенное творчество делу борьбы с буржуазией и капитализмом, с его растленной культурой и искусством. Но широкое развитие великого социалистического искусства стало возможно лишь после социалистической революции, на почве советского социалистического общественного и политического строя. Социалистическое искусство является наследником всего лучшего, прогрессивного, что создано человечеством в области художественного творчества.
Процесс формирования, развития социалистического искусства в СССР был сложным, трудным, противоречивым. Происходившая в стране в переходный период от капитализма к социализму ожесточенная классовая борьба находила свое отражение и в области искусства. В пестром сборище различных буржуазных и мелкобуржуазных групп в искусстве и литературе были и откровенно реакционные течения, которые звали «назад к средневековью» (акмеисты), и «ультрареволюционные» по форме, как футуристы, «желтые кофты», которые всё и вся отрицали и порицали, призывали выбросить за борт классическое наследство — Пушкина и Толстого, Тургенева и Лермонтова, Чайковского и Глинку как «аристократов». В борьбе с этими и подобными им гнилыми, пошлыми, беспринципными и без идейными буржуазными и мелкобуржуазными течениями и группами складывалось и развивалось пролетарское, социалистическое искусство. «Все эти «модные» течения канули в лету и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию которых они отражали. Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки»,— что от них осталось в нашей родной русской, советской литературе? Ровным счетом ничего». (А.А.Жданов, Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», стр. 15).
Огромное значение для развития социалистической культуры», в частности социалистического искусства, имела борьба Ленина и Сталина против вредительских, враждебных народу троцкистских и бухаринских установок в отношении искусства, а также борьба против возглавлявшегося Богдановым и богдановцами «Пролеткульта», отрицавшего значение великого культурного наследия прошлого. Пролеткультовское течение, выступавшее под «пролетарским» флагом, на деле было контрреволюционным, враждебным социализму и его культуре.
В статье «Л. Н. Толстой» Ленин писал, что в условиях царской России художник Лев Толстой известен лишь ничтожному меньшинству населения. «Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот». (В.И.Ленин, Соч., т. 16, изд. 4, стр. 293). Только социалистическая революция и социалистический строй обеспечили десяткам и сотням миллионов трудящихся доступ к великим сокровищам классического искусства, поставили искусство на службу народу.
Под руководством товарища Сталина партия разоблачила антинародное формалистическое течение в советской музыке и в искусстве вообще — течение, отрицавшее лучшие традиции классической русской музыки: ее высокую идейность, содержательность, реализм, мелодичность, органическую связь с народным творчеством. Представители формализма рассматривали усвоение этих традиций как «консерватизм», как умаление интернационального характера социалистического искусства, а себя считали «интернационалистами» и «новаторами» на том основании, что заимствовали «новейшие» веяния загнивающего, без идейного, упадочного, патологического, буржуазного искусства Запада.
Советское социалистическое искусство по своему характеру, по содержанию, художественной форме и социальной роли представляет собой самое передовое, самое идейное и прогрессивное в мире искусство. Важнейшей чертой советского искусства является социалистическая народность, советский патриотизм. Главный герой советской литературы, советского искусства — это народ или лучшие, передовые, героические сыны и дочери народа, патриоты советского социалистического отечества. В художественных образах советское искусство отражает новых, еще не виданных во всей прошлой истории людей, представителей свободного, героического народа. Некоторые художественные образы являются художественными биографиями исторических деятелей, героев советского народа. Таковы Чапаев, Щорс, Павел Корчагин (автопортрет самого писателя Николая Островского), Олег Кошевой и его товарищи из «Молодой гвардии», Мересьев, Зоя Космодемьянская и др. Такие художественные образы, как Воропаев из повести Павленко «Счастье», советский народ справедливо воспринимает как отражение типичных черт героических
советских людей.
Советское искусство является народным потому, что оно проникнуто великими идеями социализма, коммунизма, идеями, выражающими коренные интересы народа. Оно народно и потому, что близко и понятно народу, является его достоянием, служит ему, воспитывает его в духе великих принципов коммунистической морали.
Советское искусство по своей форме национально. Национальная форма советского социалистического искусства делает его широко доступным многочисленным народам Советской страны. Многообразие национальных форм советского искусства делает его богатым бесчисленными красками, образами, характерами, типами, чертами, отражающими все разнообразие многонациональной жизни и быта советских народов, строящих коммунизм. Каждый народ, малый или большой, вносит свое, неповторимое в общую сокровищницу социалистического искусства. Идейное и художественное богатство социалистического искусства связано с гармоническим сочетанием его национальной формы и социалистического, интернационального содержания.
Советское искусство проникнуто оптимизмом, бодростью, уверенностью в светлом будущем народа, в победе коммунизма, оно является искусством жизнеутверждающим, как и вся советская идеология. «Жизнь хороша, и жить хорошо» — эти слова великого советского поэта Вл. Маяковского отразили глубокие чувства свободного советского народа, победившего капитализм и полного творческих сил, дерзаний и уверенного в своем будущем.
Социалистическое искусство является реалистическим, правдивым воспроизведением действительности в художественных образах. Социалистический реализм является методом художественного творчества во всех областях советского искусства, он требует от искусства правдивого изображения действительности, взятой в ее развитии, в движении общества к утверждению социализма и коммунизма. А. А. Жданов говорил на 1-м всесоюзном съезде советских писателей:
«Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание?
Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях, изобразить не схоластически, не мертво, не просто как «объективную реальность», изобразить действительность в ее революционном развитии.
При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма». Такой метод художественной литературы и литературной критики есть то, что мы называем методом социалистического реализма». (А.А.Жданов, Советская литература – самая идейная, самая передовая литература в мире, Гихл, 1934, стр. 13).
Социалистический реализм требует от художника, чтобы он писал правду, а художественная правда предполагает не простое фотографирование действительности, не простое описание фактов в виде натуралистических бытовых зарисовок, а обнаружение и художественное воспроизведение смысла, сути явлений действительности, тенденций их развития.
Уровень культуры советского народа, его художественные вопросы, эстетические вкусы непрерывно растут. Это предъявляет огромные, возрастающие требования к советскому искусству, призванному служить делу строительства коммунизма, делу коммунистического воспитания, делу художественного развития народа. Большевистская, коммунистическая идейность и высокое художественное мастерство — вот требования, предъявляемые советским народом к искусству. Выступая от имени ЦК ВКП(б) на совещании деятелей советской музыки, А. А. Жданов говорил: «...Мы стоим за красивую, изящную музыку, за музыку, способную удовлетворить эстетические потребности и художественные вкусы советских людей, а эти потребности и вкусы выросли неимоверно». (А.А.Жданов, Выступление на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), изд. «Правда», 1948, стр. 143).
Советское искусство развивается не стихийно, не самотеком; его развитие направляет коммунистическая партия, советское государство. Борьба коммунистической партии против безыдейности и аполитизма искусства, против низкопоклонства, пресмыкательства перед растленной буржуазной культурой, против реакционной идеологии космополитизма, против формализма в искусстве расчистила почву для дальнейшего расцвета советского искусства. В. М. Молотов говорил:
«Мы имеем право гордиться успехами советского искусства в последнее время, в особенности, успехами советской литературы, что является не малым достижением направляющего руководства партии. Наша литература, кино и другие виды искусства всё больше обогащаются такими произведениями, которые в своих образах раскрывают идейный смысл событий и работы людей советской эпохи». (В.М.Молотов, 31-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, Госполитиздат, 1948, стр. 19).
Политика коммунистической партии, составляющая жизненную основу всего советского общества, служит также основой расцвета советского искусства. Благодаря направляющей; организующей политике коммунистической партии социалистическое искусство достигло ныне такого развития, что знаменует собой новую, высшую ступень в художественном развитии всего человечества.
Значение искусства в жизни социалистического общества
Ни в одном обществе искусству (литературе, театру, кино, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке) не отводилось государством такое выдающееся место, какое отводится искусству Советским государством. Ни в одной стране мира представители искусства не были окружены такой любовью народа, как в стране Советов. Нигде и никогда государство и правящая партия не окружали такой великой заботой работников искусства, какой окружает их социалистическое государство и коммунистическая партия. В середине XIX в. прогрессивный немецкий поэт Гейне, сочувственно относившийся к коммунизму, выражал, однако, опасение, будут ли в новом обществе нужны его стихи, не станут ли при коммунизме в листы его книг завертывать покупки. Это опасение было отражением враждебных рабочему классу и народу взглядов на коммунизм. Как показала история, именно в условиях капитализма, во времена гитлеровского варварства, на родине Гейне его стихи сжигались на кострах, а его имя и песни вытравлялись из памяти. В стране социализма, наоборот, произведения Гейне и Гете, Шекспира и Мольера, Пушкина и Гоголя, Толстого и Чехова и других классиков мировой литературы издаются огромными тиражами, читаются народными массами. И само собой разумеется, особой любовью советского народа пользуются классики русской литературы и советское искусство с его новыми, родными, близкими народу образами и героями.
Величайший зодчий коммунизма И. В. Сталин, называя советских писателей инженерами человеческих душ, указал тем самым на огромную ответственность писателя, поэта, деятеля искусства перед советским народом. Социалистическое искусство во всех его видах служит трудящимся, воспитывает советский народ в духе советского патриотизма, помогает народу, Советскому государству, коммунистической партии построить коммунистическое общество.
В годы Великой Отечественной войны советское искусство сыграло огромную роль в деле защиты социалистического отечества, вдохновляя советский народ на боевые и трудовые подвиги. Эту же воспитательную роль выполняет советское искусство и в период послевоенного мирного строительства. В условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда задачи коммунистического воспитания выдвигаются на одно из первых мест, общественная роль социалистического искусства, его значение в коммунистическом воспитании еще больше возрастают. И чем полнее, глубже, ярче искусство будет отображать жизнь бурно развивающегося социалистического общества, показывать творчество миллионов людей, тем выше будет роль искусства в жизни общества.
8. Философия
Философия как форма общественного сознания
Философия одна из форм общественного сознания. Ее специфической особенностью является то, что она выражает мировоззрение того или иного класса данного общества. Те или иные господствующие философские взгляды являются отражением исторически определенного базиса. Философия с самого своего возникновения отвечала или, по крайней мере, пыталась дать ответ на такие важнейшие вопросы мировоззрения, как
вопросы о том, что представляет собою окружающий нас мир, в каком отношении к этому миру стоит человек, что является первичным, изначальным: природа, материальный мир, или сознание, дух.
Предмет и содержание философии исторически изменялись. B античном мире, в Греции, она являлась всеобъемлющей наукой, включавшей в себя все отрасли знаний того времени. Постепенно от философии отпочковывались одна наука за другой. Диференциация научного знания — выделение из философии отдельных наук была прогрессивным процессом. Однако творцы философских систем, в особенности идеалистических, не желали мириться с тем, что их область знания как бы сокращалась, и пытались подчинить себе отдельные науки, вогнать их в рамки своей системы. Последней философской системой, претендовавшей на универсальность, была гегелевская идеалистическая философия. Гегель ставил свою философию над другими науками, пытаясь втиснуть их все в прокрустово ложе своей надуманной схемы.
Единственной научной философией является диалектический материализм — мировоззрение марксистско-ленинской партии, наука об общих законах развития природы, общества и мышления. Диалектический материализм есть высшее достижение научной, философской мысли, научное мировоззрение и метод познания. Ленин писал: «Диалектический материализм «не нуждается ни в какой философии, стоящей над прочими науками». От прежней философии остается «учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика». А диалектика, в понимании Маркса и согласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от незнания к познанию». (В.И.Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 37-38).
Два коренных направления в философии. Партийность философии
В обществе, разделенном на антагонистические классы, мировоззрение носит классовый характер. Как философский материализм, так и философский идеализм имеют свою долгую историю. История философии есть отражение борьбы классов в области идеологии. Философский материализм исторически выражал, как правило, интересы передовых, прогрессивных классов. Философский идеализм, как правило, являлся и является орудием реакционных классов.
Идеалистическая философия считает, что природа, материальный мир есть производное от духа, сознания, идеи или бога. Подобно религии идеалистическая философия признает так или иначе сотворение мира богом, идеей, духом. Материалистическая философия, наоборот, объясняет природу из нее самой, отвергает идею сотворения мира и видит основу и единство мира в его материальности.
В своей знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин указывал, что вся история философии представляет собой арену борьбы между двумя партиями в философии — материализмом и идеализмом. «Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями по сути дела, прикрываемой гелертерски-шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, являются материализм и идеализм. Последний есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли». (В.И.Ленин, Соч., т. 14, изд. 4, стр. 343).
Так же как в политике не может быть нейтральности в борьбе между враждебными классами, так и в философии не может быть нейтральных направлений, которые не примыкали бы ни к материализму, ни к идеализму. Ленин подчеркивал, что проповедь беспартийности в философии представляет собой лишь попытку спутать два противоположных направления, примирить непримиримое. Под вывеской беспартийности в философии большей частью скрывается замаскированная проповедь идеализма и поповщины. «Беспартийность в философии есть только презренно-прикрытое лакейство пред идеализмом и фидеизмом». (В.И.Ленин, Соч., т. 14, изд. 4, стр. 340).
Глубокая истинность этих положений Ленина подтверждается всей историей философии. Философия зародилась впервые на Востоке, в Египте и Вавилоне, а затем и в Европе — в древней Греции в VI в. до н. э. Древнегреческие школы материализма являлись идеологией прогрессивных сил, школы идеализма защищали интересы реакционных сил общества.
Борьба материализма и идеализма как отражение борьбы классов пронизывает собой всю историю не только древней, но и новой философии. Нарождение нового общественного строя, его борьба против отжившего строя всегда была связана с борьбой идей, с борьбой мировоззрений. Так, канун французской революции XVIII в. ознаменовался появлением выдающихся философов-материалистов, врагов религии и идеализма: Дидро, Ламеттри, Гольбаха, Гельвеция и др. Французская материалистическая философия XVIII в. служила идеологической подготовкой буржуазной революции. Аристократической реакцией на французскую революцию и на французский материализм явилась немецкая идеалистическая философия Канта — Фихте — Гегеля. Французская революция вызвала животный страх у представителей европейской реакции, в том числе и у трусливой, жалкой немецкой буржуазии, раболепствовавшей перед феодальной аристократией. В противовес смелым нападкам французских материалистов на суеверия, мистику, идеализм, на все средневековое в экономике, быту, политике и идеологии немецкие философы-идеалисты выступили против материализма и атеизма, за реакционные идеи и политические учреждения. Конечно, они не могли остановить историческое развитие. Назревание буржуазной революции в Германии вызвало соответствующие сдвиги и в идеологии. С критикой философского идеализма Гегеля выступил немецкий мыслитель и буржуазный демократ Людвиг Фейербах. Философия Фейербаха явилась одним из идейных выражений антифеодальных сил в канун буржуазно-демократической революции 1843 г. в Германии.
Борьба прогрессивных сил против крепостничества, религии и идеализма в России выдвинула целую плеяду гениальных мыслителей-материалистов: Ломоносова и Радищева в XVIII в. Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и др. в XIX в. Ленин писал о Герцене: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени... Первое из «Писем об изучении природы», — «Эмпирия и идеализм»,— написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей - эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом». (В.И.Ленин, Соч., т. 18, изд. 4, стр. 9-10). Эти слова Ленина целиком относятся и к революционным демократам — Белинскому, Чернышевскому и Добролюбову. Философский материализм Герцена — Белинского — Чернышевского — Добролюбова был более зрелым, чем весь домарксовский материализм, он стоял значительно выше французского материализма XVIII в. и материализма Фейербаха. О Чернышевском Ленин писал: «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 83-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса». (В.И.Ленин, Соч., т. 14, изд. 4, стр. 346).
Возникновение диалектического материализма - революция в философии
Домарксовский философский материализм был односторонним, ограниченным, непоследовательным. Он был по преимуществу механистическим и метафизическим. Он являлся материализмом снизу, в объяснении природы, идеализмом сверху, в объяснении истории.
Недостатки прежнего материализма преодолел диалектический материализм, созданный Марксом и Энгельсом и развитый далее Лениным и Сталиным. Диалектический материализм явился результатом обобщения истории классовой борьбы и великих научных открытий в естествознании. «... Диалектический материализм, — пишет И. В. Сталин,— является продуктом развития наук, в том числе философии, за предыдущий период». (И.В.Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 34). Решающей социальной предпосылкой возникновения диалектического материализма явился выход на историческую арену пролетариата.
Возникновение диалектического и исторического материализма было величайшей революцией в философии. В отличие от прежних философских учений, являвшихся достоянием одиночек или небольших школ и школок, диалектический материализм возник как мировоззрение революционного рабочего класса, как его идейное боевое знамя. Диалектический материализм в корне противоположен буржуазному мировоззрению. Он является единственно научным мировоззрением, монолитным и последовательным, правильно отражающим действительность. Задача его состоит не только в том, чтобы объяснить мир, но и изменить его, т. е. служить орудием революционного преобразования, свержения капитализма и строительства коммунизма. Диалектический и исторический материализм является философской основой научного коммунизма.
«Прежде всего необходимо знать,—пишет товарищ Сталин, - что пролетарский социализм представляет не просто философское учение. Он является учением пролетарских масс, их знаменем, его почитают и перед ним «преклоняются» пролетарии мира. Следовательно, Маркс и Энгельс являются не просто родоначальниками какой-либо философской «школы» — они живые вожди живого пролетарского движения, которое растёт и крепнет с каждым днём. Кто борется против этого учения, кто хочет его «ниспровергнуть», тот должен хорошо учесть всё это, чтобы зря не расшибить себе лоб в неравной борьбе». (И.В.Сталин, Соч., т. 1, стр. 350).
После Маркса и Энгельса диалектический материализм получил свое дальнейшее, высшее развитие в трудах великих вождей рабочего класса нашей эпохи — Ленина и Сталина. Ленин и Сталин дали философское обобщение всемирно-исторической практики и великих открытий в естествознании за период, наступивший после смерти Ф. Энгельса. Ленин и Сталин в своих трудах подвергли всесторонней критике буржуазные философские течения эпохи империализма, в том числе неокантианство и махизм. Ленин и Сталин всесторонне развили диалектический и исторический материализм, подняв его на новую, высшую ступень.
Диалектический материализм возник и развивается в непримиримой борьбе с идеалистическими и метафизическими течениями в философии. Диалектический материализм — это целостное, стройное, до конца последовательное научное мировоззрение, непримиримое ни с какими суевериями и мистикой.
Марксистско-ленинская философия стала безраздельно господствующим мировоззрением в СССР. Она завоевывает себе все новых и новых сторонников среди передовых ученых всех стран.
Сила марксистско-ленинской философии состоит в том, что она указывает трудящимся массам выход из того рабства, в котором они прозябают во всех капиталистических странах. Диалектический материализм является боевым теоретическим оружием не только большевистской партии, но и марксистских партий в капиталистических странах и в странах народной демократии.
Банкротство и маразм буржуазной философии
Кризис и упадок современного капитализма находят свое выражение в кризисе, упадке и разложении всей буржуазной культуры, том числе и буржуазной философии. Никогда еще за всю историю буржуазного общества не наблюдалось такого разгула мистики, идеализма и мракобесия, как в современную стадию развития империалистического капитализма. Гниющему обществу соответствуют в гнилостные продукты в области философии.
В пору своей молодости буржуазия и лучшие ее идеологи превозносили могущество человеческого разума, его способность познать мир. А в наше время буржуазные философы стараются принизить человеческий разум, доказать его бессилие, неспособность познать объективную истину. Иррационализм и мистика стали модой. Характерным для империалистической буржуазии как класса, желающего задержать ход
истории и обращающего свой взор в прошлое, является стремление воскресить средневековую схоластику.
Реакционные философы в США, Франции, Англии и Италии подняли ныне на щит главу средневековых схоластов Фому Аквинского, в университетах США, Италии, Франции и Англии читаются курсы лекций о Фоме Аквинском, ему посвящаются многочисленные исследования, диссертации, статьи в журналах. Библиографический справочник, содержащий перечень «трудов», вышедших за последние 20 лет и посвященных Фоме Аквинскому, насчитывает 315 страниц.
Иллюстрацией разложения буржуазной философии является идеалистическая философия современного американского философа Сантаяны. Его учение о надмировых «сущностях» есть воспроизведение платоновского «царства идей» и «универсалий» средневековых схоластов. Сантаяна открыто заявляет, что он враг науки и его «философия не является и не хочет быть научной». «Истина и вымысел,— пишет Сантаяна,— могут быть приняты за одно, и различием между ними можно пренебречь». Американский философ Глен, автор книги «сведение в философию», объявляет свою философию «добровольной и беззаветно преданной служанкой богословия».
Наиболее широко распространенная в США философия — прагматизм (Джемс) и инструментализм (Дьюи, Гук) — представляет собой разновидность субъективного идеализма. Эта философия учит, что критерием истины является польза, бизнес, и стирает грань между верой и знанием, наукой и религией, теологией и философией. Прагматизм и инструментализм — это идеологическое оружие империалистической реакции.
Одним из отвратительнейших идейных продуктов империалистической реакции является субъективно-идеалистическая философия экзистенциалистов, имеющая многих приверженцев среди буржуазии и буржуазной интеллигенции Франции и США, Англии и Западной Германии. Экзистенциалисты своими учителями считают блаженного Августина и других средневековых мистиков, затем Ницше и Бергсона, а ближайшими вдохновителями экзистенциалистов являются немецкие фашисты. Человеконенавистничество, эгоизм и индивидуализм, презрение к разуму и к научному знанию, мистика и аморализм, воспевание смерти и империалистического разбоя — вот характерные черты и сущность этой философии прогнившего капитализма. Личное, индивидуальное существование экзистенциалисты объявляют единственной реальностью; коллектив, народ, общество они объявляют вымыслом, ложью. Философия экзистенциалистов взращивается империалистической реакцией, чтобы растлить сознание масс, разрушить пролетарскую солидарность, отвлечь мысль трудящихся от социальных противоречий, перенеся внимание внутрь индивида.
Империалистическим целям служит и субъективно-идеалистическое англо-американское философское течение семантиков, сводящих философию к лингвистике и объявляющих коммунизм, социализм, класс, демократию вымыслом, словами, лишенными смысла.
Как всякий класс, идущий к гибели и переживающий период заката, упадка, буржуазия и ее философы ищут утешения и спасения в мистике, в идейном и моральном растлении сознания народа. Этой цели и служат различные идеалистические философские течения, растущие в буржуазном обществе, как грибы после дождя. Философствования буржуазных идеологов напоминают настоящий «шабаш ведьм» средневековых мракобесов, растлителей умов. Их философия — это чад, которым они хотят отравить сознание трудящихся.
Идеализму, мистике, схоластике философствующих оруженосцев буржуазии противостоит ясная, как солнце, истина философии диалектического материализма. Марксистско-ленинское мировоззрение возникло на гранитной базе великих достижений передовой науки, оно развивается вместе с успехами естествознания и общественных наук, вместе с успехами всемирно-исторической практики самой передовой силы человечества— рабочего класса. Марксистская философия—это жизнеутверждающее учение, вселяющее в умы трудящихся непоколебимую уверенность в победе коммунизма.
9. Наука
Что такое наука
Каждая наука — механика, физика, химия, биология, история — изучает законы определенной формы движения материи, законы развития определенной области действительности.
В целом наука, как особая форма общественного сознания, представляет собой систему знаний об окружающем нас мире, природе и обществе, о законах их движения и развития. Достоверность, истинность, объективность знаний проверяются и доказываются практикой. В отличие от искусства, отражающего объективный мир в художественных образах, наука отражает мир по преимуществу в форме понятий, определений, формул, законов и т. п.
В противовес религии, являющейся иллюзорным, превратным, фантастическим отражением действительности, научное знание, опирающееся на практику и проверяемое практикой, способно давать и дает нам объективную истину, т. е. правильное отражение объективного мира. Ход развития человеческого познания идет от менее глубокого знания к более глубокому, от познания явлений к сущности, от одной сущности к другой. Открывая законы объективного мира, наука дает возможность предвидения событий и служит орудием практического изменения мира человеком.
Происхождение науки
Наука возникает из потребностей общественной практики, материального производства. Предметом научных наблюдений и обобщений становятся прежде всего те явления природы, которые так или иначе связаны с материальной жизнью общества, с производством. Производственная практика толкала людей на познание таких явлений, как смена дня и ночи, времен года, изменение погоды, разливы рек. Практические нужды требовали знания причин болезней людей и животных, изучения полезных и вредных свойств растений, особенностей и повадок животных, знания механических, физических и химических свойств тел, минералов и т. д.
Первоначально знания людей были невелики, целиком удерживались в памяти людей и в течение веков устно передавались из поколения в поколение. Эти знания сводились прежде всего к производственным наблюдениям, к производственному опыту. Но с развитием общества, с разделением труда и ростом разнообразия человеческой деятельности, с развитием обмена и связей между народами, с возникновением классов и государств расширяются знания людей об окружающем их мире. Память отдельного человека уже не в состоянии удержать знания, возникает потребность в записи наблюдений и обобщений, а в связи с этим появляется искусство письма.
Подобно членораздельной речи, письменность не была изобретением одного человека; она явилась результатом усилий множества людей в ответ на потребности общественной практики. Правда, письменность в ее наиболее развитой форме, как и наука, в течение длительного времени была монополией узкого круга людей из среды господствующих классов: жрецов, духовенства, чиновников, интеллигенции.
Возникнув, искусство письма стало мощным средством накопления знаний, передаваемых из поколения в поколение, от одного народа к другому. Первоначально запись различного рода сведений, наблюдений была беспорядочной, бессистемной и часто противоречивой. Это были записи о военных походах, победах и поражениях, о жизни, быте и нравах других народов, о фауне и флоре различных мест. Записывались также сведения, относящиеся к жизненной основе общества, к производству (время разлива рек, начало полевых работ, время созревания хлебов и т. д.). Затем записи упорядочиваются, приводятся в систему; накопленные знания создают возможность устанавливать связь, взаимозависимость явлений, их закономерность. Так возникают первые зачатки науки.
Астрономия возникла из практической потребности в знании закономерной смены времен года, из потребности ориентации ночью в пути. В древнем Египте и Вавилоне, где земледелие было связано с разливами рек, астрономия была нужна для вычисления периодов разлива рек. «Необходимость вычислять периоды разлития Нила,— пишет Маркс,— создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководителей земледелия». (К.Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 517).
Развитие астрономии требовало развития математики как ее необходимой основы. Древние астрономы, как правило, были одновременно и выдающимися математиками. Потребности измерения полей, после разлива Нила, вызвали к жизни геометрию, которая затем была заимствована у египтян греками и другими народами. Строительство больших зданий, сложных гидротехнических сооружений (каналов, плотин, дамб), потребности судоходства и военного дела вызвали к жизни механику, а последняя в свою очередь вызвала дальнейшее развитие математики.
Жизненная необходимость борьбы с болезнями людей и животных вызвала появление медицины и ветеринарии, а это содействовало возникновению и развитию ботаники, зоологии, анатомии, физиологии.
Естествознание, как правило, давало ответы на те вопросы, которые ставило развитие производства, или обобщало практику. Еще задолго до того, как было сформулировано положение, что трение превращается в теплоту, люди посредством трения согревали руки, добывали огонь. Прежде чем был открыт закон превращения энергии, это превращение уже осуществлялось практически (паровая машина). Это не следует понимать таким образом, будто наука способна лишь к пассивному обобщению того, что уже достигнуто в производстве. Нет, опираясь на теоретическое обобщение практики, наука совершает открытия, которые двигают вперед и революционизируют само производство. Таковы, например, открытие законов пара и изобретение паровой машины, открытие законов электричества, открытие внутриатомной энергии, таково сделанное Мичуриным открытие законов искусственного формообразования организмов, открытие законов управления плодородием почв, достигнутое русскими учеными Докучаевым, Костычевым, Вильямсом, Мичуриным и Лысенко.
Влияние производства, экономических потребностей на развитие науки бывает не только прямым, непосредственным, но и косвенным, опосредованным. Но так или иначе, потребности материальной жизни общества определяют развитие науки всегда и всюду, хотя сами ученые могут этого и не сознавать.
Буржуазные историки утверждают, что не наука зависит от общественного производства, а, наоборот, состояние и развитие производства зависят от развития науки. Они считают науку плодом чистых размышлений ученого, сидящего в уединенном кабинете и оторванного от жизни, от ее потребностей. Но этот идеалистический взгляд полностью опровергается историей. Нужды производства, технические потребности оказывали на возникновение и развитие наук воздействие более сильное, чем десятки университетов. Не только астрономия и математика выросли из потребностей общества. Гидростатика (Торичелли и др.) вызвана к жизни потребностями регулирования горных потоков в Италии XVI и XVII вв. Современная крупная промышленность немыслима без современной механики, физики, химии, но бурное развитие этих наук вызвано именно потребностями крупной промышленности, основанной на сознательном применении естествознания. Современная физика и химия немыслимы без современной исполинской техники, а эту технику в руки физиков и химиков дает крупная промышленность.
История всех великих открытий в науке свидетельствует о том, что общественная практика, потребности экономического развития, классовая борьба являлись движущей силой возникновения и развития науки.
Развитие науки в античном обществе
Наука, как особая форма общественного сознания, возникла в античном обществе: В Вавилоне, Египте, в древней Греции и Риме. В античном мире наука была еще нераздельна с философией. «По сути дела,— говорит А. А. Жданов, — греки знали лишь одну, не расчленённую науку, в которую входили и философские представления. Возьмём ли мы Демокрита, Эпикура, Аристотеля,— все они в равной мере подтверждают мысль Энгельса о том, что «древнейшие греческие философы были одновременно естествоиспытателями». (А.А.Жданов, Выступление на дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г., Госполитиздат, 1947, стр. 10). Но уже намечалось отпочкование наук от философии, их диференциация. Астрономия, математика, механика, медицина, зачатки биологических наук представлены выдающимися античными философами и учёными. Характерно, что идеалистическая философия и тогда была враждебна науке. Лишь материалистическая философия была неразрывно связана с наукой, с зачатками естествознания того времени. Научные знания античного общества о природе связаны прежде всего с именами материалистов: Фалеса, Гераклита, Эмпедокла, Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция. С именем Аристотеля, этого всеобъемлющего гения древнего мира, связан ряд отраслей естествознания: зоология, ботаника, анатомия.
Философия и наука античного общества, представляя собой определенную ступень в духовном развитии человечества, были отражением рабовладельческого способа производства. Знания древних носили преимущественно умозрительный характер. В этом сказалось презрительное отношение класса рабовладельцев к физическому труду, который считался недостойным свободных людей. Недаром историк древности Плутарх писал, что нужно извинить Архимеда за то, что он для спасения родного города Сиракуз от неприятеля вынужден был заниматься механикой. Эта наивная «защита» Плутархом великого ученого за экспериментальные исследования в области механики характерна для умонастроения рабовладельцев.
Античная наука находилась в стадии детства и делала лишь начальные шаги. Ее значение состоит прежде всего в том, что она, хотя и в наивной форме, но более или менее систематически выражала взгляды древних на окружающий мир и выдвинула по различным проблемам целый ряд гениальных гипотез, оказавших значительное влияние на последующее развитие научных знаний.
Наука в феодальном обществе
На смену рабовладельческому строю пришел феодализм, который в экономической области означал переход к более прогрессивному способу производства, но в области научной начально знаменовал несомненно упадок.
«Средневековье, — пишет Энгельс, — развилось из совершенно примитивного состояния. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию и начало во всем с самого начала. Единственное, что средневековье взяло от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утерявших всю свою прежнюю цивилизацию городов. Следствием этого было то, что, как это бывает на всех ранних ступенях развития, монополию на интеллектуальное образование получили попы и что само образование приняло преимущественно богословский характер». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 128).
В феодальном обществе господствовала религиозная идеология, мистика. В христианской Европе средних веков наука и научная мысль преследовались, душились, подавлялись. Вместо науки проповедовалась псевдонаука: схоластика, теология, алхимия. Мрачная ночь средневековья отмечена кровавым заревом костров инквизиции, на которых сжигали смелых, самоотверженных и благороднейших представителей пробуждавшейся научной мысли. Сквозь тьму и мракобесие католицизма с трудом пробивались ростки науки, попытки свободного исследования природы (Роджер Вэкон, Вильям Оккам и др.).
Несколько более благоприятные условия для развития научной мысли в период раннего феодализма были в арабских странах. Правда, и мусульманское духовенство преследовало науку и ученых, но не столь жестоко, как в католической Европе. Одним из крупных очагов арабской культуры был Багдад, другим — южная часть Испании с центром в Кордове. Арабы через Византию и византийских ученых приобщились к античной культуре, познакомились с трудами Аристотеля, Эвклида, Гиппократа, Галена. Арабские ученые, философы, врачи дали некоторый толчок дальнейшему развитию медицины, биологии и в особенности химии. Значительный вклад в развитие науки в это время внесли народы Кавказа и Средней Азии. Крупнейшие представители науки этого периода — Авиценна, Аверроэс.
Наука в эпоху Возрождения и капитализма
Вместе с экономическим развитием внутри феодального общества росли новые социальные силы — буржуазия и буржуазная интеллигенция. Развитие ремесла, мануфактур, торговли, мореплавания вступало в противоречие с теологией, мистикой и схоластикой, требовало развития науки — механики, математики, астрономии, географии. Рост крупных городов, частые эпидемии обусловливали развитие медицины, биологических наук, на которые опирается медицина. Так называемая эпоха Возрождения знаменовала начало революции в способе производства, дала мощный толчок развитию науки и породила целую плеяду гигантов научной мысли, философии, искусства. От той революционной эпохи берет свое начало все современное естествознание.
«Современное естествознание, — единственное, о котором может идти речь как о науке, в противоположность гениальным догадкам греков и спорадическим, не имеющим между собою связи исследованиям арабов,— начинается с той грандиозной эпохи, когда бюргерство сломило мощь феодализма, когда на заднем плане борьбы между горожанами и феодальным дворянством показалось мятежное крестьянство, а за ним революционные предшественники современного пролетариата, уже с красным знаменем в руках и с коммунизмом на устах, — с той эпохи, которая создала в Европе крупные монархии, сломила духовную диктатуру папы, воскресила греческую древность и вместе с ней вызвала к жизни высочайшее развитие искусства в новое время, которая разбила границы старого мира и впервые, собственно говоря, открыла землю.
Это была величайшая из революций, какие до тех пор пережила земля. И естествознание, развивавшееся в атмосфере этой революции, было насквозь революционным, шло рука об руку с пробуждающейся новой философией великих итальянцев, посылая своих мучеников на костры и в темницы... Это было время, нуждавшееся в гигантах и породившее гигантов, гигантов учености, духа и характера. Это было время, которое французы правильно назвали Ренессансом, протестантская Европа односторонне и ограниченно — Реформацией». (Ф.Энгельс, Диалектика природы, 1949, стр. 152).
Это было время, когда естествознание провозгласило, правда не без колебаний и не сразу, свою независимость от религии, от церкви.
«Чем в религиозной области было сожжение Лютером папской буллы, тем в естествознании было великое творение Коперника, в котором он, — хотя и робко, после 36-летних колебаний и, так сказать, на смертном одре,— бросил вызов церковному суеверию. С этого времени исследование природы по существу освободилось от религии... С тех пор и развитие науки пошло гигантскими шагами, ускоряясь, так сказать, пропорционально квадрату удаления во времени от своего исходного пункта...». (Ф.Энгельс, Диалектика природы, 1949, стр. 153).
Великое открытие Коперника нанесло удар не только геоцентрической системе Птоломея, но и религиозному мировоззрению. Недаром католическая церковь так бешено и беспощадно преследовала сторонников учения Коперника.
Открытия Галилея, Кеплера, Декарта, Ньютона, Лейбница, Гарвея, Ломоносова завершают целую полосу в развития естествознания.
Научные открытия величайшего мужа науки М. В. Ломоносова обогатили ряд отраслей науки. Особенно велики его заслуги в области физики и химии. Ему принадлежит честь открытия и экспериментального доказательства, задолго до Лавуазье, закона сохранения вещества. Ломоносов развил дальше гипотезу древних об атомном строении материи; он разработал атомистическую теорию газов и является создателем физической химии. Ему принадлежит честь открытия закона сохранения энергии. Пушкин, характеризуя универсальный и могучий гений Ломоносова, писал: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник... Первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и, наконец, открывает нам истинные источники нашего поэтического языка». (А.С.Пушкин, Сочинения. Гихл, 1948, стр. 713). «Ломоносов был великий человек... Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». (Там же, стр. 777).
Наибольшие успехи в развитии естествознания XVII — XVIII вв. выпали на долю механики, астрономии и связанной с ними математики. Эти отрасли научного знания были наиболее близко и непосредственно связаны с насущными нуждами развивавшейся промышленности, с ходом развития материальной жизни возникавшего капиталистического общества.
В отличие от всех предшествующих способов производства, основанных на рутинной технике, капиталистический способ производства потребовал машинного производства, которое основывается на сознательном применении данных науки, естествознания. Именно в этом и заключается главная причина естествознания бурного развития естествознания.
Первый период развития естествознания эпохи капитализма, начавшийся с XVI столетия, дал великие открытия в области математики, механики, астрономии, но в области изучения органических явлений не вышел за пределы начальных ступеней познания. Еще не были исследованы ни исторически следовавшие друг за другом органические формы (палеонтология), ни историческая смена геологических условий развития организмов (геология). Естествоиспытатели рассматривали природу метафизически. Для более основательного изучения форм жизни, пишет Энгельс, «недоставало обеих первооснов — химии и науки о главной органической структурной форме, клетке». (Ф.Энгельс, Диалектика природы, стр. 153).
С половины XVIII и особенно в XIX столетии научные открытия пробивают одну брешь за другой в метафизическом взгляде на природу. Теория Канта—Лапласа о происхождении солнечной системы; учение об историческом развитии земли и палеонтологическая теория о последовательно сменяющих друг друга органических формах на земле; возникновение органической химии, искусственное создание органических веществ, доказывающее применимость химических законов в области живой природы; открытие механической теории теплоты, а также закона превращения энергии; открытие клеточного строения организмов и, наконец, поскольку речь идет о познании природы, открытия Ламарка и Дарвина — эти и другие естественнонаучные открытия показывали природу в ее единстве, внутренней связи, в историческом развитии.
Теория развития не могла одержать победы в науке в условиях феодализма с его застойностью производства, с медленным течением всей общественной жизни, с господством крайне консервативной религиозной идеологии. Капитализм сломал феодальные отношения, революционизировал производство и тем ускорил ход общественной жизни. Вслед за революцией в способе производства последовали политические буржуазные революции. Все это и явилось толчком для сдвигов в области естествознания.
Но при всем том капиталистический строй и буржуазное мировоззрение ставят пределы, ограничивают развитие науки. Буржуазные естествоиспытатели, находясь во власти метафизического и идеалистического мировоззрения, не могли и не могут дать верной картины природы и общества, их пугают противоречия, скачкообразность развития. Буржуазная наука, Допуская в крайне упрощенном, вульгарном виде развитие в природе (плоская эволюция), не признает развития общества.
Подлинно научное мировоззрение создали корифеи науки и вожди рабочего класса Маркс и Энгельс и их гениальные продолжатели Ленин и Сталин. Открытия Маркса и Энгельса знаменовавшие величайшую революцию в области науки и философии, оказали гигантское влияние не только на все отрасли знания, но и на все стороны общественной жизни. С именами Маркса и Энгельса как вождей рабочего класса связано возникновение подлинной науки об обществе — исторического материализма, политической экономии и научного социализма.
Великая революция в философии и науке, произведенная Марксом и Энгельсом, привела к изгнанию идеализма из последнего убежища — из области знаний об обществе.
Ленин и Сталин обогатили марксистскую науку новыми великими открытиями, обобщили опыт рабочего движения эпохи империализма и пролетарских революций, опыт победоносного строительства социализма в СССР.
Великий вклад народов СССР в науку
Каждый народ, большой и малый, гордится тем вкладом, который он внес в развитие науки. Советский народ дал миру не только величайших ученых-естествоиспытателей, но и величайших корифеев общественной науки Ленина и Сталина. Народы СССР по праву гордятся тем, что их передовые ученые внесли и вносят великий вклад в сокровищницу передовой научной мысли.
В тяжелых условиях крепостнической, а затем капиталистической царской России лучшие представители русской науки прокладывали новые пути во всех отраслях познания. Нет буквально ни одной отрасли естествознания, где бы русским ученым не принадлежали открытия мирового значения. Мы уже назвали исполина науки Ломоносова. Создателем первой паровой машины был гениальный русский изобретатель Ползунов. В математике русский народ дал миру Лобачевского, которого по праву называют Коперником в своей области. Попову принадлежит изобретение радио, Петрову — вольтовой дуги, Яблочкову — первой дуговой электролампы, Ладыгину — электролампы накаливания. Честь изобретения первого в мире самолета принадлежит гениальному русскому изобретателю Можайскому. Создателями теории самолета являются русские ученые Жуковский и Чаплыгин. В области химии русская наука дала миру гениального Менделеева, Зинина и Бутлерова. Дальнейшее развитие материалистической биологии после Дарвина осуществили великие русские и советские ученые Тимирязев, Мичурин, Лысенко. Докучаев, Костычёв, Вильямс впервые в истории создали подлинную науку о почве — этом важнейшем средстве общественного производства. Современная физиология стала наукой благодаря гениальным исследованиям Сеченова и Павлова. Открытия Мечникова, Ивановского, Гамалея и других ученых в микробиологии далеко опередили зарубежную науку в этой области. Высочайшего и всестороннего развития достигла наука народов СССР в условиях победы социализма. Достижения советских физиков в области овладения внутриатомной энергией свели на нет монополию американских атомщиков.
Наука в эпоху империализма
В эпоху империализма развитие производительных сил носит крайне неравномерный, противоречивый характер, сопровождаясь разрушительнейшими кризисами, империалистическими войнами. Погоня за прибылью, конкуренция, а также потребности империалистических войн заставляют капиталистов развивать технику и науку. Капиталистические монополии полностью подчинили своим интересам научно-исследовательскую деятельность. Научные лаборатории и научно-исследовательские институты в условиях капитализма создаются по тому же принципу, что и любое капиталистическое предприятие: современные научно-исследовательские институты и лаборатории — это капиталистические предприятия со сложным оборудованием. В институтах сотни и тысячи ученых и инженеров работают по заданиям и под контролем капиталистических монополий.
Развитие науки, особенно физики, химии и всех прикладных отраслей знания, непосредственно связанных с развитием техники, конечно, не прекращается в эпоху загнивания капитализма, а происходит, принимая односторонний, уродливый характер. Открыты новые источники сырья и энергии, новые материалы, заменители: синтетический каучук, синтетический бензин, пластмассы и т. п. Но все эти достижения в условиях империализма ведут лишь к усилению эксплуатации, нищеты масс, к созданию новых, более совершенных орудий войны и разрушения.
Наука в буржуазном обществе — это служанка капитала, орудие эксплуатации. Труд и наука при капитализме поставлены в антагонистические отношения: развитие науки, как и развитие производительных сил, ведет к обнищанию трудящихся.
«Человечество в целом, — пишет Маркс,— приобретает все большую власть над природой, в то время как отдельный человек становится рабом других людей или своей собственной низости. Кажется, что даже чистый свет науки не может сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества... Этот антагонизм между современной промышленностью и наукой, с одной стороны, и нищетой и упадком — с другой, этот антагонизм между производительными силами и общественными отношениями нашей эпохи есть осязаемый, подавляющий и неоспоримый факт». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 318).
Развитие науки в капиталистическом обществе совершается не путем непрерывного движения вперед, а через глубочайшие противоречия и кризисы. Конец XIX и первая половина XX в. отмечены настоящей революцией в естествознании, в особенности в физике. Но часть физиков не смогла понять новых открытий, поддалась влиянию идеализма и склонилась к ложным идеалистическим выводам.
В. И. Ленин дал глубокий анализ кризиса естествознания. Он писал: «...сегодняшний «физический» идеализм точно так же, как вчерашний «физиологический» идеализм, означает только то, что одна школа естествоиспытателей в одной отрасли естествознания скатилась к реакционной философии, не сумев прямо и сразу подняться от метафизического материализма к диалектическому материализму. Этот шаг делает и сделает современная физика, но она идет к единственно верному методу и единственно верной философии естествознания не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей «конечной цели», а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом. Современная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм. Роды болезненные. Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот. К числу этих отбросов относится весь физический идеализм, вся эмпириокритическая философия вместе с эмпириосимволизмом, эмпириомонизмом и пр. И т. п.». (В.И.Ленин, Соч., т. 14, изд. 4, стр. 299).
Ленин писал, что своими новыми открытиями физика подтверждает истинность диалектического материализма. Ленин указал, что выход из кризиса естествознания заключается в переходе естествоиспытателей на позиции диалектического материализма. Но в условиях буржуазного общества естествоиспытатели воспитываются на идеалистическом мировоззрении, выдаваемом за «новейшую философию». К диалектическому материализму как мировоззрению пролетарскому буржуазные ученые в силу своего общественного положения и воспитания относятся предвзято, враждебно. Даже тогда, когда в ходе научного исследования они прямо наталкиваются на диалектический характер процессов в природе, они не решаются делать диалектические выводы, а сбиваются на релятивизм.
Лишь наиболее смелые из естествоиспытателей в буржуазном обществе под давлением неумолимых фактов рвут с идеалистическими и метафизическими воззрениями и переходят на позиции диалектического материализма (Ланжевен, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, М. Пренан и др.).
Отражение классовой борьбы в развитии науки
Наука как форма общественного сознания занимает особое место в отношении к производству и к экономическому базису общества. Мы видели выше, что естествознание возникает из потребностей практики, что оно развивается в тесной связи с развитием промышленности, в связи с потребностями развития техники, нуждами производства. Естествознание обслуживает потребности производства. Совокупность научных знаний, проверенных и подтвержденных практикой, дает нам объективную истину. Это истинное, научное знание накапливается из поколения в поколение, от эпохи к эпохе, от одной общественной формации к другой. Оно не уничтожается со сменой одного экономического базиса другим, а сохраняется, умножается, развивается дальше.
Но наука содержит в себе не только формулировку законов, теорем, аксиом, но и философское, теоретическое истолкование и обоснование их. Каждая наука связана так или иначе с определенным мировоззрением, с философией. А философские взгляды являются отражением определенного экономического базиса, в антагонистическом классовом обществе они выражают положение и интересы борющихся классов.
История науки есть история не только борьбы знания и веры, науки и религии, но и история борьбы внутри самой науки. Эта борьба внутри науки, борьба передовых, прогрессивных, революционных направлений с направлениями отсталыми, консервативными и реакционными отражала и отражает борьбу классов и партий, происходящую в обществе.
Во времена Дарвина шла борьба между его сторонниками и его противниками. В наше время физика, химия, биология, не говоря уже об общественных науках, представляют собой арену ожесточеннейшей борьбы противоположных направлений, борьбы представителей передовой научной мысли с реакционными течениями, тянущими науку назад, проповедующими идеалистические и метафизические теории, в корне враждебные науке.
Конечно, теоремы Эвклида, закон всемирного тяготения, закон сохранения вещества, закон сохранения и превращения энергии и т. п. являются объективными истинами и в силу этого имеют общезначимый характер для всех классов, для всех людей, не свихнувшихся в болото идеализма, буржуазной философской схоластики. Но многочисленные буржуазные Ученые и философы, вроде Маха, Эдингтона, Пуанкаре, Ресселя, Витгенштейна, Карнапа, всячески стремятся доказать, что математические, физические, химические законы, а также законы биологии и общественные законы не имеют объективного характера, что они будто бы являются лишь продуктом мыслящего ума, удобной конструкцией чистой логической мысли. В этом обнаруживается классовый, партийный характер науки, особенно философии. И разве удивительно, что буржуазные ученые-мракобесы оспаривают ныне теорию Коперника? Жульнически используя теорию относительности Эйнштейна, реакционные буржуазные астрономы и физики утверждают, что гелиоцентрическая теория Коперника и геоцентрическая теория Птоломея равноценны. Часть буржуазных физиков оспаривает незыблемость закона сохранения энергии. Буржуазная наука наших дней идет в союзе с поповщиной, пытается вооружить ее «аргументами» против философского материализма. Так, английский астроном Эдингтон своим вздорным учением о «физических константах мира» возрождал идеалистическое учение Пифагора о числах как сущности мира. А. А. Жданов говорил о буржуазных ученых:
«Не понимая диалектического хода познания, соотношения абсолютной и относительной истины, многие последователи Эйнштейна, перенося результаты исследования законов движения конечной, ограниченной области вселенной на всю бесконечную вселенную, договариваются до конечности мира, до ограниченности его во времени и пространстве, а астроном Милн даже «подсчитал», что мир создан 2 миллиарда лет тому назад. К этим английским учёным применимы, пожалуй, слова их великого соотечественника, философа Бэкона о том, что они обращают бессилие своей науки в клевету против природы.
В равной мере кантианские выверты современных буржуазных атомных физиков приводят их к выводам о «свободе воли» у электрона к попыткам изобразить материю только лишь как некоторую совокупность волн и к прочей чертовщине». (А.А.Жданов, Выступление на дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии», стр. 43).
Биология ныне мистифицируется, спиритуализируется генетиками вейсманистами-морганистами и ставится на службу реакционным империалистическим целям. Буржуазные биологи в союзе с буржуазными социологами сочиняют реакционнейшие расистские теории для оправдания угнетения колониальных народов, «судов линча» над неграми, для оправдания империалистических разбойничьих войн.
С древнейших времен наука была монополизирована эксплуататорскими классами и превращена в орудие их господства и эксплуатации. Величайшее открытие науки о микроорганизмах-бактериях призвано было служить борьбе с болезнями — чумой, холерой и т.п. Человечество чтит великих ученых, заложивших основы научной медицины. Но реакционная буржуазия превращает науку о микробах, бактериологию, в орудие истребления людей. Используя гнусный «опыт» японской военщины, американские империалисты и американские ученые-изверги в засекреченных лабораториях готовят орудия бактериологической войны, разрабатывают способы сбрасывания на территорию Европы вредителя сельского хозяйства — колорадского жука.
Передовая наука и ее представители всегда подвергались преследованию и гонению со стороны реакционных классов в духовенства. Так было не только в эпоху феодализма с ее казематами, застенками пыток и кострами для непокорных мужей науки. В наше время гнуснейшую роль палача мысли, свободы и прогресса играет капитализм. Эпоха империализма заполнена непрекрашающейся борьбой буржуазии и буржуазного государства против передовой науки, против передовых ученых во всех областях знания: запрет пропаганды теории Дарвина в ряде штатов США, преследование Жолио-Кюри во Франции, преследование марксизма, материалистической философии и т.п.
Под флагом беспартийности буржуазная наука скрывает свое реакционное классовое содержание. Бредни о независимости науки от социальных и политических условий поддерживают социологи капиталистических стран, где наука находится на службе у Морганов и Рокфеллеров, Дюпонов и Меллонов, где судьба ученых зависит от воли магнатов капитала, где крупные научные открытия являются бедствием для трудящихся, ибо ведут к росту безработицы.
Что касается общественных наук, то они от начала и до конца являются классовыми, партийными. Истинной общественной наукой является марксизм-ленинизм, который выражает интересы революционного рабочего класса, интересы трудящихся и дает объективное, наиболее беспристрастное знание законов развития общественной жизни, общественных явлений. Буржуазная политическая экономия, буржуазная социология, буржуазная историография и т. п.— это лженауки: их цель — не истина, а защита интересов буржуазии. Буржуазная партийность и подлинная наука несовместимы.
Партийный характер буржуазной социологии обнаруживается ныне в том, что вся орава американских буржуазных социологов, выполняя задание Уолл-стрита, занята «доказательством» устарелости национального суверенитета народов и проповедью «мирового правительства» под эгидой США. Американским социологам подпевают западноевропейские буржуазные идеологи.
Марксизм-ленинизм разоблачает мнимую беспартийность буржуазной науки и философии как лицемерие и ширму, прикрывающую корыстные и реакционные интересы эксплуататоров. Рабочему классу нет надобности скрывать классовый, партийный характер своей идеологии, в частности общественной науки. Марксизм-ленинизм защищает и строго проводит принцип партийности.
«Строгая партийность есть спутник и результат высоко развитой классовой борьбы... Буржуазия не может не тяготеть к беспартийности... Беспартийность есть идея буржуазная. Партийность есть идея социалистическая», — писал Ленин. (В.И.Ленин, Соч., т.10, изд. 4, стр. 57, 60, 61).
Пролетарская, коммунистическая партийность в противоположность партийности буржуазной означает освобождение науки от подчинения корыстным интересам эксплуататорских классов, освобождение ее от буржуазного субъективизма. Пролетарская, коммунистическая партийность не противоречит, а полностью отвечает интересам Объективного познания действительности. Рабочий класс и его партия заинтересованы в революционном преобразовании мира, а преобразовать мир можно только опираясь на правильное, научное познание. Вот почему пролетарская, коммунистическая партийность и научность совпадают.
Наука при социализме
Бурный расцвет науки в социалистическом обществе показывает, какие великие и безграничные перспективы открываются перед ней, когда она освобождается от оков капитализма, от служения денежному мешку и милитаризму. В стране социализма люди науки служат не эксплуататорам, а народу. Благородное служение социалистической отчизне, прогрессивному человечеству, делу коммунизма — вот возвышенная цель, которая владеет умами советских ученых. «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем, — и разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил?», — говорил Ленин. (В.И.Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 436).
Советский строй создал новые условия для развития науки. В СССР наука развивается планомерно и ставится на службу трудящимся. Если наука в условиях капитализма служила средством эксплуатации трудящихся, то в условиях социализма она является могучим орудием повышения их материального благосостояния и культуры. Социализм устраняет тот разрыв между теорией и практикой, который свойственен старому обществу и который Ленин называл одной из наиболее отвратительных черт капитализма. Советская наука опирается на опыт миллионов практиков—стахановцев индустрии и сельского хозяйства. Оплодотворяемая практикой социалистического строительства, наука получила небывалые возможности для ускоренного развития.
Советский строй освобождает науку от тлетворного влияния идеалистического и религиозного мировоззрений, вооружает ученых самым передовым научным мировоззрением — диалектическим материализмом. Диалектический материализм в противовес идеализму учит, «что нет в мире непознаваемых вещей, а есть только вещи, еще не познанные, которые будут раскрыты и познаны силами науки и практики». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 108).
Советский строй, коммунистическая партия воспитывают ученых в духе смелого новаторства. В речи на приеме в Кремле работников высшей школы в 1938 г. товарищ Сталин провозгласил здравицу:
«За процветание науки, той науки, которая не отгораживается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова служить народу, готова передать народу все завоевания науки, которая обслуживает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой. За процветание науки, той науки, которая не даёт своим старым и признанным руководителям самодовольно замыкаться в скорлупу жрецов науки, в скорлупу монополистов науки, которая понимает смысл, значение, всесилие союза старых работников науки с молодыми работниками науки, которая добровольно и охотно открывает все двери науки молодым силам нашей страны и даёт им возможность завоевать вершины науки, которая признаёт, что будущность принадлежит молодёжи от науки.
За процветание науки, той науки, люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, всё же не хотят быть рабами этих традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперёд, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки». (И.В.Сталин, О Ленине, Госполитиздат, 1949, стр. 89-90).
Социалистический строй открыл безграничные возможности для развития науки и для ее применения во всех областях хозяйства в интересах народа. Материальным выражением великих достижений советской науки служит мощная социалистическая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, оснащенные самой передовой машинной техникой. Победа советского социалистического строя — это торжество марксизма-ленинизма, передовой общественной науки.
Вся обстановка социалистического общества благоприятствует небывалому, бурному расцвету науки. Если в царской России научной деятельностью занимались всего несколько тысяч человек, то в СССР выращена армия ученых в 150 тыс. человек, среди них — более 10 тыс. докторов наук и профессоров, свыше 40 тыс. кандидатов наук и доцентов. Если в царской России было 91 высшее учебное заведение, то в СССР в конце 1949 г. было 864 вуза, в них обучалось вместе с заочниками 1 128 тыс. студентов. В СССР работает 3,5 тыс. научно-исследовательских институтов, опытных станций и научных лабораторий. Ни одна страна в мире не знала и не знает такого гигантского размаха в развитии науки, научных учреждений, в подготовке научных кадров, как страна социализма.
Советская наука, восприняв передовые, революционные традиции науки прошлого, приумножила эти традиции. Она развивается на прочной идейной базе ленинизма, проникнута великими идеями служения трудящимся, борьбе за коммунизм; от ленинизма она восприняла и русский революционный размах, соединенный с большевистской деловитостью.
Развитие советской науки происходит в борьбе с буржуазными теориями. Только разоблачая и преодолевая реакционные идеалистические и метафизические идеи в математике, физике, химии, биологии, в познании общественных явлений, наука может двигаться вперед.
Огромное значение для биологии и для других наук имела борьба школы мичуринцев против реакционной идеалистической теории вейсманистов-морганистов. Оценивая научное а политическое значение этой борьбы, В. М. Молотов говорил:
«Для подъёма научно-теоретической работы имеет большое принципиальное и практическое значение последняя дискуссия в научных кругах по вопросам биологии.
Дискуссия по вопросам теории наследственности поставила большие принципиальные вопросы о борьбе подлинной науки, основанной на принципах материализма, с реакционно-идеалистическими пережитками в научной работе, вроде учения вейсманизма а неизменной наследственности, исключающей передачу приобретённых свойств последующим поколениям. Она подчеркнула творческое значение материалистических принципов для всех областей науки, что должно содействовать ускоренному движению вперёд научно-теоретической работы в нашей стране. Мы должны помнить поставленную товарищем Сталиным перед нашими учёными задачу: «Не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны».
Дискуссия по вопросам биологии имела и большое практическое значение, особенно для дальнейших успехов социалистического сельского хозяйства. Недаром эту борьбу возглавил академик Лысенко, заслуги которого в нашей общей борьбе за подъём социалистического сельского хозяйства всем известны. Эта дискуссия прошла под знаменитым девизом Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё - наша задача». Этот мичуринский завет, можно сказать, проникнут большевистским духом и зовёт не только работников науки, но и миллионы практиков сельского хозяйства к живой творческой работе на пользу и славу нашего народа.
Научная дискуссия по вопросам биологии была проведена под направляющим влиянием нашей партии. Руководящие идеи товарища Сталина и здесь сыграли решающую роль, открыв новые широкие перспективы в научной и практической работе». (В.М.Молотов, 31-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, Госполитиздат, 1948, стр. 19-20).
Огромную роль в развитии советской науки сыграли также научная дискуссия по вопросам языкознания, в особенности гениальный труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», а также дискуссия по вопросам учения И. П. Павлова. Эти дискуссии с новой силой показали, что развитие науки может успешно идти вперед лишь через борьбу мнений. «Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики»,— учит товарищ Сталин. (И.В.Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 31).
Наука и труд в условиях социализма воссоединились. Показателем крепнущего союза науки и труда в условиях социализма служит растущее сотрудничество ученых и стахановцев промышленности и сельского хозяйства. Опираясь на союз науки и труда, партия и Советское государство во главе с товарищем Сталиным могли поставить столь величественные задачи, как осуществление грандиозного плана полезащитных лесонасаждений и широкой сети водоёмов в степной и лесостепной полосе для обеспечения высоких и устойчивых урожаев, строительство гигантских гидроэлектростанций на Волге, строительство Главного Туркменского канала и т. п. Эти сталинские планы переделки природы советский народ, опираясь на передовую науку, успешно осуществляет.
Ни в одном обществе наука не играла такой роли, какую она играет в развитии социалистического общества. При социализме всякое научное открытие, расширяющее власть человека рад природой и облегчающее труд, находит самое широкое применение в производстве и тем самым ускоряет движение народа по пути к коммунизму.
Итак, общественное сознание — во всех его многообразных формах — возникает и развивается как отражение общественного бытия.
Великий учитель коммунизма И. В. Сталин указывает, что политические, правовые, художественные и философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения, представляя собой надстройку над экономическим базисом общества, отражение базиса, вместе с тем являются активной силой, оказывающей обратное воздействие на базис. Передовой мобилизующей, организующей и преобразующей силой, ускоряющей прогрессивное развитие общества, является советская социалистическая идеология, идеология Марксизма-ленинизма.
Глава пятнадцатая. Роль социалистического сознания в развитии советского общества
1. Процесс формирования социалистического сознания
Формирование социалистического сознания у миллионов трудящихся является сложным и противоречивым процессом.
Маркс и Энгельс в одной из ранних своих работ писали: «...Как для массового порождения... коммунистического сознания, так и для достижения самой цели необходимо массовое изменение людей, которое возможно только в практическом движении, в революции; следовательно, революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только в революции может избавиться от всей старой мерзости и стать способным создать новое общество». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 60.) Несколько позже, продолжая и развивая эту же мысль, Маркс, обращаясь к рабочим, говорил: «Вы должны пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв, не только для того чтобы изменить существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 506.)
Рабочему классу России, чтобы свергнуть власть помещиков и капиталистов, а затем установить свое политическое господство — диктатуру пролетариата, пришлось проделать три революции, пришлось отстаивать завоевания революции в ожесточенной гражданской войне против белогвардейщины и иностранных интервентов. В ходе строительства социалистического общества рабочий класс, переделывая и перевоспитывая себя, должен был терпеливо и неуклонно перевоспитывать миллионы крестьян и других мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, буржуазных интеллигентов, подчинять их руководству авангарда трудящихся, побеждать в них буржуазные и мелкобуржуазные привычки, традиции, нравы, порожденные капиталистическим строем, частной собственностью, господствующей при капитализме атмосферой конкуренции, взаимоподсиживания, грызни, недоверия и вражды.
Руководящая роль коммунистической партии в деле формирования социалистического сознания
Лишь в длительной борьбе, в упорной практической деятельности по созданию нового, коммунистического общества, говорил Ленин, перевоспитываются и сами рабочие, которые не могут сразу, по велению декрета или лозунга освободиться от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков. (См. В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 247.)
Формирование социалистического сознания у миллионов трудящихся не может происходить стихийно, самотеком, в результате простого, пассивного отражения в головах людей складывающихся социалистических общественных отношений. Социалистическое сознание миллионов трудящихся формируется под руководством коммунистической партии и социалистического государства, в борьбе с враждебными пролетариату политическими, идейными течениями и влияниями.
Формирование социалистического сознания рабочего класса начинается еще задолго до социалистической революции, в ходе классовой борьбы, происходящей в капиталистическом обществе. Вначале рабочее движение носит стихийный характер и находится во власти буржуазной идеологии. Буржуазная идеология стихийно навязывается рабочим старыми традициями и буржуазным окружением; она же и сознательно внедряется, насаждается и поддерживается буржуазией и ее идеологами. Хотя рабочий класс в силу своих жизненных условий в капиталистическом обществе инстинктивно влечется к социализму, но сам он без марксистской партии высвободиться из-под влияния буржуазной идеологии и выработать социалистическую идеологию не может.
«История всех стран свидетельствует, — пишет Ленин, — что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции». (В. И Ленин, Соч., т. 5, изд. 4, стр. 347 — 348.)
Научный социализм явился теоретическим отображением уже происходившей в капиталистическом обществе борьбы классов, научным выражением коренных интересов рабочего класса, обоснованием его исторической миссии как могильщика капитализма и творца коммунизма, вождя всех угнетенных и эксплуатируемых. В рабочее движение научный социализм, социалистическая идеология, вносится марксистской партией. Это «внесение» в рабочее движение социалистической идеологии происходит в процессе классовой борьбы и совершается путем борьбы против буржуазной идеологии и мелкобуржуазных влияний.
Внося социалистическую идеологию в стихийное рабочее движение, марксистская партия встречает со стороны рабочего класса инстинктивное влечение к социализму. Это влечение тем сильнее, чем глубже и острее становятся классовые противоречия между пролетариатом и буржуазией, чем настойчивей и упорней партия рабочего класса ведет борьбу против буржуазной идеологии, против агентуры буржуазии в рабочем движении, против правых социалистов.
Лишь благодаря руководству пролетарской партии, вооруженной марксистско-ленинской теорией, стихийное рабочее движение превращается в сознательное социалистическое движение. Благодаря руководству марксистской партии, ее идеологической борьбе с враждебными пролетариату идейными и политическими течениями удается превратить разрозненные отряды рабочего класса в единую, сплоченную, организованную революционную армию. Идеи марксизма-ленинизма, овладев умами миллионов, становятся могучей материальной революционной силой.
Формирование социалистического сознания советского народа
Великая Октябрьская социалистическая революция знаменовала собой величайший революционный переворот во всех областях общественной жизни, в том числе и в области сознания. «Октябрьскую революцию, — пишет товарищ Сталин, — нельзя считать только революцией в области экономических и общественно-политических отношений. Она есть вместе с тем революция в умах, революция в идеологии рабочего класса. Октябрьская революция родилась и окрепла под флагом марксизма, под флагом идеи диктатуры пролетариата, под флагом ленинизма, который есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Она знаменует поэтому победу марксизма над реформизмом, победу ленинизма над социал-демократизмом, победу III Интернационала над II Интернационалом». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 248.)
Революция в умах, в идеологии рабочего класса означала прежде всего разрыв миллионных масс рабочего класса с буржуазными идеями и мелкобуржуазными иллюзиями, осознание того непреложного факта, что дальше так, по-старому, жить нельзя, что надо свергнуть власть буржуазии, завоевать диктатуру пролетариата и вместо капитализма создать строй социализма.
Главный вопрос социалистической революции — это вопрос о власти, о свержении политического господства буржуазии и завоевании диктатуры пролетариата; естественно, что и переворот в сознании масс ранее всего начинается в области политической идеологии.
Лишь в ходе дальнейшего развития социалистической революции идейный переворот охватывает и все другие стороны общественного сознания, коренным образом изменяя нравы, привычки, всю психологию людей. Так, например, коренное изменение в отношении широчайших масс трудящихся к труду, к общественной собственности, выработка новой дисциплины труда и т. п. осуществляются на основе диктатуры пролетариата, в процессе строительства социалистического уклада жизни.
В первых коммунистических субботниках советских рабочих Ленин увидел великий творческий почин масс, их победу над косностью, над собственными вековыми привычками, навыками, предрассудками, буржуазными традициями. Это было начало переворота, неизмеримо более глубокого и трудного, чем свержение буржуазии. Товарищ Сталин отмечал, что великое значение социалистического соревнования состоит в том, что оно производит коренной переворот в психологии трудящихся, в их взглядах на труд.
Формирование социалистического сознания у рабочего класса и у крестьянства СССР происходило не одновременно и имело свои особенности в силу различного положения этих классов в экономике страны. Так, социалистическая идеология, внесенная большевистской партией, стала господствующей в рабочем классе России уже в период Великой Октябрьской социалистической революции. В дальнейшем, в условиях диктатуры пролетариата, в ходе социалистического строительства, господство социалистической идеологии в рабочем классе становится безраздельным.
Формирование социалистического сознания крестьянства имеет свои особенности.
Крестьянство до коллективизации, т. е. до 1929 — 1930 гг., оставалось классом мелкобуржуазным, классом частных собственников, в массе своей находившихся во власти мелкобуржуазной идеологии. Идеи социализма, социалистического коллективизма вносились в сознание крестьянства рабочим классом, большевистской партией и Советским государством с первых лет существования советского строя. Постепенно, на собственном опыте массы крестьянства все больше и больше убеждались в необходимости и выгодности перехода от единоличного хозяйства к колхозному, социалистическому. Но и вступив в колхоз, крестьянин не сразу становился социалистом.
Было бы ошибочно думать, указывал И. В. Сталин в конце 1929 г., «что члены колхозов уже превратились в социалистов. Нет, придётся еще много поработать над тем, чтобы переделать крестьянина-колхозника, выправить его индивидуалистическую психологию и сделать из него настоящего труженика социалистического общества. И это будет сделано тем скорее, чем скорее будут колхозы машинизированы, чем скорее они будут тракторизированы... Великое значение колхозов в том именно и состоит, что они представляют основную базу для применения машин и тракторов в земледелии, что они составляют основную базу для переделки крестьянина, для переработки его психологии в духе социализма». (И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 165.)
Таким образом, формирование социалистического сознания советского народа совершалось в ходе социалистической революции, в практике социалистического строительства. Опыт советского народа опроверг утверждения меньшевиков и других врагов ленинизма, которые считали, что пролетариату сначала надо осуществить культурную революцию, перевоспитать людей, создать свои подготовленные кадры, свою интеллигенцию, а потом уже совершать социалистический переворот, строить социализм. Социалистическая культурная революция может совершиться и совершается после захвата пролетариатом власти, на почве нового политического строя. Рабочий класс лишь после социалистической революции, на основе диктатуры пролетариата создает свою социалистическую, народную интеллигенцию, свои социалистические кадры.
В первые годы существования социалистического государства кадры новой интеллигенции были еще молоды и малочисленны, а значительная часть старой интеллигенции находилась под влиянием буржуазной и мелкобуржуазной идеологии. Но в результате культурной революции были созданы миллионные кадры новой, социалистической интеллигенции, а старая интеллигенция прошла школу воспитания в духе социалистической идеологии.
В борьбе за победу социализма, в преодолении трудностей строительства нового общества коммунистическая партия осуществляла и осуществляет грандиознейшее дело перевоспитания двухсотмиллионного народа в духе великих идей коммунизма, в духе марксизма-ленинизма. Ныне советская социалистическая идеология стала не только господствующей, но и всенародной. Идеи социализма, составляющие содержание советской идеологии, вошли прочно в сознание абсолютного большинства советских людей, стали руководящими в их деятельности, в труде, во всей их общественной и личной жизни.
Успехи социализма в области экономической и политической жизни и рост социалистической сознательности масс взаимно обусловливали и питали друг друга. Социалистическое сознание советского народа является отражением социалистического образа жизни советского общества и вместе с тем способствует дальнейшим успехам социализма. Коренной переворот в условиях материальной жизни советского общества имел своим результатом коренной переворот и в сознании широчайших народных масс. Но победа социалистического сознания была достигнута не стихийно, не самотеком, а в борьбе с врагами народа — троцкистами, бухаринцами, националистами и их идеологией, в результате систематической, неустанной воспитательной деятельности партии Ленина — Сталина.
2. Основные черты социалистической идеологии. Духовный облик советского человека
Социалистическая идеология и психология
Психология советских людей коренным образом отличается от буржуазной и мелкобуржуазной индивидуалистической, частнособственнической психологии, а также от той психологии рабской покорности, которую прививают трудящимся все эксплуататорские классы.
Социалистическая психология советских людей складывается на основе социалистических производственных отношений, отношений товарищеского сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации людей. Вместе с тем она складывается и развивается под воздействием великих идей коммунистической партии, под воздействием советской социалистической идеологии. Советская психология вбирает, впитывает в себя в преобразованном на почве социализма виде лучшие черты психического склада народов СССР, черты, вырабатывавшиеся народами в ходе всего их исторического развития, в борьбе с эксплуататорами, в битвах с внешними врагами.
После победоносного окончания Великой Отечественной войны, провозглашая здравицу в честь русского народа как руководящей нации в семье народов Советского Союза, товарищ Сталин отметил такие его черты, как ясный ум, стойкий характер, разумное терпение. Эти черты выковывались в ходе всей истории русского народа, они вырабатывались в борьбе против помещиков и капиталистов, против иноземных захватчиков, а также в ходе строительства социалистического общества.
Социалистическая идеология — это, по определению товарища Сталина, система идей, связанных в одно стройное целое — теорию социализма. (См. И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 57.) Социалистическая идеология представляет собой прямую противоположность буржуазной идеологии; она враждебна идеологии всех эксплуататорских классов и выражает интересы рабочего класса в целом и всех трудящихся, борющихся против капиталистического гнета и эксплуатации.
Советская социалистическая идеология находит свое выражение в различных формах общественного сознания: в советской науке, в философии, в коммунистической морали, в советском искусстве. Социалистическое сознание во всех его формах проникнуто идеями марксизма-ленинизма. Марксизм-ленинизм, представляя собой целостное, стройное научное мировоззрение, образует общетеоретическую научную основу всех форм социалистического сознания.
Идеологии, господствовавшие до эпохи социализма, антинаучны. Только в социалистическом обществе впервые в истории одержала победу научная идеология — марксизм-ленинизм. Она наиболее точно отражает действительность и дает знание законов общественного развития, законов строительства социализма и коммунизма. Научный характер социалистической идеологии дает возможность не только правильно понимать то, что происходит сегодня, но и предвидеть ход общественного развития.
Буржуазия, как и все эксплуататорские классы, выдает свою идеологию за всенародную, надклассовую идеологию. Это ложь, обман. Буржуазия враждебна всем трудящимся, и ее идеология не может не быть враждебной народу. Маскируя свои корыстные, эксплуататорские, эгоистические классовые интересы, буржуазия лицемерно пытается изобразить их как всенародные, общенациональные.
Социалистическая идеология открыто выступает как идеология рабочего класса, являющегося вождем всех трудящихся. Социалистическая идеология, выражая коренные интересы рабочего класса, вместе с тем выражает и защищает коренные интересы всех трудящихся. Социалистическая идеология в СССР стала всенародной идеологией, силой, объединяющей весь советский народ.
Революционность социалистической идеологии
Важнейшая черта социалистической идеологии — это ее революционность. Революционный дух пронизывает социалистическое сознание всего советского народа и нашел свое выражение в революционных подвигах рабочих и крестьянских масс, свергших власть буржуазии и завоевавших Советскую власть, в героических подвигах Красной Армии в годы гражданской войны, в героическом социалистическом труде, в смелой ломке старых экономических отношений и создании новых, социалистических производственных отношений, в бессмертных боевых и трудовых подвигах в годы Великой Отечественной войны. Революционность социалистического сознания получила свое наглядное выражение и в освободительной миссии Советской Армии по отношению к народам Европы и Азии, стонавшим под ярмом фашизма. Советский народ оправдал звание передовой, ударной бригады международного пролетариата.
Социалистическое сознание ведет советский народ вперед. Это получает свое выражение и в смелых революционных деяниях выдающихся советских ученых, в новаторстве сотен тысяч и миллионов стахановцев, героев и героинь социалистического труда, в их ненависти к рутине, косности, в ломке старых норм и методов труда и в создании новых, более передовых методов труда. Чувство нового — драгоценное качество советских людей.
Коллективизм — характерная черта духовного облика советского человека
Частная собственность на средства производства разъединяет людей, рождает частнособственнические инстинкты, индивидуализм и эгоизм.
Социалистическое сознание советских людей, вырастая на почве социалистических производственных отношений, отношений товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, проникнуто духом коллективизма.
В. И. Ленин говорил в 1920 г.:
«Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило «каждый за себя, один бог за всех», чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью... Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание привычку, во вседневный обиход масс правило: «все за одного и один за всех»». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 256.)
Под руководством Ленина и Сталина коммунистическая партия и социалистическое государство выполнили великую задачу переделки частнособственнической психологии людей и выработали, воспитали, внедрили в сознание советского народа психологию и идеологию коллективизма.
В 1949 г. колхозники сельскохозяйственной артели «Пламя» Малинского района, Московской области, праздновали двадцатилетие своего колхоза. Председатель колхоза, 74-летняя Евдокия Терентьевна Егорова, в своей речи сказала:
«Я вспоминаю весну 1929 года и нынешнюю весну. Далеко мы ушли! Мы давно ввели девятипольный севооборот.
Ученый, агроном в колхозе — теперь не диковинка, не гость. Нет, он сидит теперь с нами на одной скамейке, и вместе мы решаем судьбу урожая: он учится у нас, мы — у него. Теперь мы не ждем милостей от земли, а приказываем ей: роди! И она родит.
У нас теперь есть свои механики, агрономы, зоотехники, садоводы, пчеловоды, электрики. Мы достроили электростанцию на реке Северке. Лампочка Ильича зажглась в крестьянской избе, в чулане, на дворе. На электроэнергию переведены молотилка, сортировка, мельница, пилорама...
За двадцать лет... сколько было пережито трудностей! И так мы сдружились, сроднились, что нам теперь друг без друга никак невозможно.
Сбылись ленинские заветы: труд объединил советских людей. Мы объединились вокруг товарища Сталина — и никакая сила не разъединит нас. Пламя колхозной жизни не погаснет никогда». («Литературная газета» от 21 мая 1949 г.)
В этой речи советской крестьянки выражена новая психология и новое мировоззрение, рожденные социалистическим строем.
Социалистическая собственность и социалистический труд родили социалистическое соревнование, товарищеское сотрудничество, взаимную выручку, коллективизм. Передовые люди — стахановцы искренне радуются, когда достигнутая ими норма выработки, их рекорд перекрыт товарищами, дающими более высокие образцы труда.
Эта новая черта социалистического сознания выросла на базе социализма, она воспитана партией Ленина — Сталина, руководствующейся принципами социалистической идеологии.
Трудовая доблесть советских людей
Героизм раньше, до социализма, рождался только на войне, на поле брани и в классовой борьбе. Область труда была сферой мрачных, тяжелых будней. Ничего героического в подневольном труде на эксплуататоров не было и не может быть.
Австралийский публицист А. Мэндер в книге «От шести вечера до полуночи» пишет об условиях труда в англо-саксонских странах и в странах капитализма вообще:
«Большинству людей при современных условиях существования работа, помимо всего прочего, кажется еще и бессмысленной, бесцельной. Они сами сознают, что работают только ради жалованья или ради того или иного денежного вознаграждения. Да многие ли из нас ценят свою работу как таковую? Многие ли согласились бы продолжать ее, если бы, скажем, выиграли 100000 фунтов стерлингов? Работа получает какой-то смысл, может быть, только во время войны, во всяком случае для тех, кто трудится «на пользу фронта» (во время антифашистской войны. — Ф. К.), и, разумеется, в России, где миллионы людей сознают, что труд их приобрел новую значимость, как часть коллективных усилий, направленных на строительство нового мира». (А. Э. Мэндер, От шести вечера до полуночи, Государственное издательство иностранной литературы, 1947, стр. 14 — 15.)
Новая, свойственная только социалистическому сознанию черта, рожденная социалистическим способом производства и социалистическим соревнованием, это понимание труда как глубоко общественного дела, как дела чести, славы, доблести и геройства. Эта черта воспитана в советском народе коммунистической партией.
Ленинизм учит, что труд и социализм неотделимы друг от друга, что социализм покоится на труде. Самые уважаемые люди в социалистическом обществе — это те, кто сознательно и беззаветно трудится на благо родины, кто дает наиболее высокую производительность труда и тем самым ускоряет наше движение к полному коммунизму.
Сознание того, что рабочие и колхозники трудятся на себя, на свой народ, на государство трудящихся, сознание общественной значимости труда в социалистическом обществе рождает трудовой героизм масс. Социалистическое соревнование, стахановское движение, превращение труда в дело чести, доблести и геройства порождают героев труда. Героизм стал существенной чертой социалистического труда и чертой характера советских людей.
Советский патриотизм
За годы социалистического строительства наша родина обновилась, преобразилась коренным образом, она стала социалистической; обновился, преобразился коренным образом и наш народ. Изменились его мысли, чувства, весь духовный облик. Советский патриотизм стал неотъемлемой и наиболее существенной чертой сознания советских людей.
Советский патриотизм — это любовь, беззаветная преданность и служение Советской социалистической родине. Советский патриотизм связан с сознанием превосходства социалистического общественного и политического строя, социалистической культуры над эксплуататорским капиталистическим общественным строем и прогнившей, растленной, торгашеской буржуазной культурой.
Народы, входящие в состав СССР, различны по языку, по историческому прошлому, по некоторым чертам психического склада, по национальным традициям. Но над всем этим преобладает главное, решающее: все это — советские люди, они живут в социалистической стране, составляют одну братскую семью советских народов, их объединяет одно общее чувство — любовь к единой общей советской матери-родине, свободной от эксплуататоров. Все советские народы объединяет единая идеология — марксизм-ленинизм, отражающая их общие интересы, цели, стремления; они сплочены вокруг единой партии большевиков, партии Ленина — Сталина, выражающей и защищающей интересы всех трудящихся.
Советский патриотизм — это не только любовь русских людей к своему русскому народу, к своему языку и культуре, к своей священной земле, политой кровью и потом их предков, к ее безбрежным просторам, лесам и полям, могучим рекам и озерам, ее городам и селам; это не только горячая любовь украинцев к своей родной Украине, ее степным просторам, ее голубому небу; это не только пламенная любовь грузин к своей солнечной Грузии, ее горам, зеленым долинам, садам, быстро текущим рекам и т. д. Советский патриотизм — это действенная любовь и преданность всех советских людей своей великой социалистической родине, своей родной Советской власти, самому справедливому, социалистическому строю.
Советский патриотизм сочетает в себе все наиболее благородные и возвышенные стремления, мысли и чувства многочисленных наций и народностей Советского Союза, их лучшие национальные традиции. В советском патриотизме выражается морально-политическое единство народов СССР. Советский патриотизм и пролетарский интернационализм неотделимы.
Советский патриотизм — это возвышенная гордость русских и украинцев, грузин и армян, таджиков и узбеков и других народов Советского Союза тем, что они дали человечеству Ломоносова и Менделеева, Пушкина и Толстого, Горького и Джамбула, Навой и Низами, Райниса и Ивана Франко, Руставели и Тараса Шевченко, Белинского и Чернышевского, Ленина и Сталина.
Если буржуазный патриотизм разъединяет народы, нации, то советский патриотизм, наоборот, сплачивает, объединяет людей всех наций.
Советский патриотизм глубже, величественнее, неизмеримо сильнее, чем патриотизм прошлых времен. Он порождает массовый героизм. Для того чтобы советский патриотизм мог появиться на свет и укрепиться в сознании народа, для этого должна была произойти революция в общественной и политической жизни.
Советский патриотизм есть важнейшая, решающая черта советской идеологии.
Интернационализм социалистического сознания
Пролетарский интернационализм в корне противоположен и враждебен национализму и его оборотной стороне — космополитизму — реакционной идеологии буржуазии. Идеи социалистического интернационализма объединяют рабочий класс всех стран и наций для борьбы против эксплуататоров, против капитализма, против империалистической реакции. А идеи космополитизма служат американо-английскому империализму, они призваны идейно разоружить рабочий класс, ослабить патриотизм народов, борющихся за свою свободу и национальную независимость против империалистов США и Англии.
Быть последовательным пролетарским интернационалистом в наше время значит бороться рука об руку с рабочим классом всех стран в рядах свободолюбивых народов против мировой реакции и ее оплота — империализма США, Англии и их сателлитов. Быть пролетарским интернационалистом в наше время значит быть безгранично преданным Советскому Союзу, воплотившему в жизнь принципы социалистического интернационализма и стоящем у во главе прогрессивного человечества. Советский народ, воплотивший в жизнь учение марксизма-ленинизма о дружбе, равноправии и братстве всех народов, рас и наций, народ, спасший Европу от гитлеровского рабства, является последовательным носителем интернационализма. Идеи социалистического интернационализма пронизывают общественно-политическую жизнь СССР, всю советскую культуру и идеологию. Советская культура, национальная по форме и социалистическая по содержанию, в корне враждебна как национализму, так и безродному космополитизму и национальному нигилизму.
Выступая на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), А. А. Жданов говорил:
«Глубоко ошибаются те, кто считает, что расцвет национальной музыки как русской, так равно и музыки советских народов, входящих в состав Советского Союза, означает какое-то умаление интернационализма в искусстве. Интернационализм в искусстве рождается не на основе умаления и обеднения национального искусства. Наоборот, интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину — означает потерять руководящую линию, потерять свое лицо, стать безродными космополитами. Оценить богатство музыки других народов может только тот народ, который имеет свою высоко развитую музыкальную культуру. Нельзя быть интернационалистом в музыке, как и во всем, не будучи подлинным патриотом своей Родины. Если в основе интернационализма положено уважение к другим народам, то нельзя быть интернационалистом, не уважая и не любя своего собственного народа». («Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)», 1948, стр. 139 — 140.)
Социалистический гуманизм и демократизм
Отличительной чертой сознания людей социалистического общества является социалистический гуманизм, любовь к трудящемуся человечеству, уважение к личности трудящегося человека. И. В. Сталин указывает, что «из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 491.)
Буржуазия и ее идеологи лицемерно говорят о свободе личности, на деле же речь идет у них о свободе для богатых. Вся система капитализма зиждется на экономическом, социальном, политическом и идейном порабощении личности трудящихся, т. е. девяти десятых всего населения. Признавая основой свободы личности частную собственность, буржуазия тем самым признает, что она считает личностью лишь собственника, т. е. малую часть населения буржуазных стран.
Безнаказанная преступная деятельность поджигателей войны вроде Черчилля или Трумэна и других «цивилизованных» людоедов, распространение фашистской людоедской философии Фогта и тому подобных идеологов империализма, проповедь аморализма и открытое прославление преступлений, оправдание массовых убийств — все это является свидетельством упадка, гниения и разложения современного капитализма и буржуазной культуры.
Буржуазному каннибальскому человеконенавистничеству противостоит советский, социалистический гуманизм. В социалистическом обществе личность стала действительно свободной, ибо освобождена от гнета и эксплуатации вся масса трудящихся; в Советском Союзе нет ни классового, ни национального гнета. Советский человек не противопоставляет себя коллективу, массе, ее интересам, он находит высшее счастье в том, чтобы служить народу, быть полезным обществу, родине.
Социалистический гуманизм теснейшим образом связан с демократизмом советской идеологии. Советская идеология чужда сословных или классовых предрассудков, национального и расового неравноправия и т. п. В противоположность фальшивой буржуазной демократии, словами о формальном равенстве прав прикрывающей фактическое неравенство, советская социалистическая демократия обеспечивает равные права и возможности развития для всех граждан СССР. Характеризуя советскую конституцию, товарищ Сталин говорил: «Не имущественное положение, не национальное происхождение, не пол, не служебное положение, а личные способности и личный труд каждого гражданина определяют его положение в обществе». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 517.)
Оптимизм
Одной из характерных черт сознания современной буржуазии является пессимизм, неуверенность, страх перед грядущим. Мрачному пессимизму буржуазии противостоит уверенность советского народа в неизбежности победы коммунизма, в правоте своего дела — дела Ленина — Сталина. Эта непоколебимая вера в неодолимую мощь страны социализма, в безграничные возможности ее развития, вера в торжество коммунизма во всем мире научно обоснована. Ею пропитана каждая страница великих произведений Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина.
«Философия «мировой скорби» не наша философия, — пишет И. В. Сталин. — Пусть скорбят отходящие и отживающие». (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 273.) Людям советского социалистического общества свойственны бодрость, жизнерадостность, оптимизм, непоколебимая уверенность в победе коммунизма во всем мире.
Уверенность советского народа в светлом будущем, дух социалистического оптимизма хорошо выразил В. М. Молотов: «Великая Октябрьская социалистическая революция, — говорит он, — раскрыла глаза народам, что век капитализма приходит к концу, и что открыты надёжные пути ко всеобщему миру и к великому прогрессу народов. Судорожные усилия империалистов, под ногами которых колеблется почва, не спасут капитализма от приближающейся гибели. Мы живём в такой век, когда все дороги ведут к коммунизму». (В. М. Молотов, Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции, 1947, стр. 31.)
Оптимизм советских людей не имеет ничего общего с благодушным созерцательством, утверждающим, будто все, что ни происходит, ведет к лучшему. Советские люди не пассивно ожидают лучшего будущего, они борются за него. Марксистско-ленинская философия есть философия борьбы за коммунизм. Марксизм-ленинизм есть научное мировоззрение, не только объясняющее мир, но и указывающее, как его изменить, преобразовать. Эту действенную, преобразующую роль марксизма-ленинизма всегда учитывала партия Ленина — Сталина, для которой марксизм-ленинизм является руководством к действию.
3. Роль социалистической научной теории в возникновении и развитии социалистического общества
Марксизм-ленинизм — руководство к действию
Чтобы иметь возможность воздействовать на условия материальной жизни общества и ускорить их развитие, ускорить их улучшение, — пишет товарищ Сталин, — партия пролетариата должна опереться на такую общественную теорию, на такую общественную идею, которая правильно отражает потребности развития материальной жизни общества и способна ввиду этого привести в движение широкие массы народа, способна мобилизовать их и организовать из них великую армию пролетарской партии, готовую разбить реакционные силы и проложить дорогу передовым силам общества». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 112.) Такой теорией является марксизм-ленинизм.
Марксистско-ленинская теория дает правильное, точное и глубокое отражение действительности, законов общественного развития. А чем точнее, правильнее общественное сознание отражает общественную жизнь, тем большую роль оно играет в развитии общества, в его преобразовании.
Товарищ Сталин сравнивает марксистско-ленинскую теорию с компасом. До изобретения компаса, чтобы не блуждать и не потеряться в безбрежных просторах бурного моря, мореходы старались держаться недалеко от берегов. Но здесь они наталкивались на мели, подводные камни, рифы и часто терпели крушения. Только компас дал возможность людям уверенно совершать далекие путешествия по океану. Точно так же, пока не существовало теории марксизма-ленинизма, рабочее движение было обречено на блуждания, неисчислимые жертвы, на движение вслепую, без перспектив, без ясной цели, без уверенности в победе. Теория марксизма-ленинизма дает рабочему классу и его партии силу ориентировки в сложной обстановке общественно-исторического развития. Она дает научное обоснование пролетарской политике и тактике классовой борьбы, ее конечных целей, путей и средств, ведущих к освобождению от капиталистического рабства.
«Что такое научный социализм без рабочего движения? — Компас, который, будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и тогда пришлось бы его выбросить за борт. Что такое рабочее движение без социализма? — Корабль без компаса, который и так пристанет к другому берегу, но, будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.
Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, который прямо понесётся к другому берегу и невредимым достигнет пристани». (И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 102 — 103.)
Два пути, два итога
Великую роль марксистско-ленинской теории можно ясно видеть на сопоставлении рабочего движения России и тред-юнионистского рабочего движения Англии.
Типом рабочего движения, пренебрегающего научной, революционной теорией и находящегося во власти буржуазной идеологии соглашательства, является английский тред-юнионизм. Классическим типом рабочего движения, руководствующегося научной марксистско-ленинской революционной теорией, является движение рабочего класса России, возглавляемое большевиками. И то и другое движение имеет свою историю. Притом тред-юнионистское движение имеет более чем столетнюю давность, а движение русского рабочего класса насчитывает немногим более 50 лет своего существования. История вынесла свой неумолимый и беспощадный приговор тред-юнионизму, оппортунизму и реформизму как движению, которое приковывает рабочий класс к колеснице капитализма, обрекает его на капиталистическое рабство.
Объективные предпосылки для социализма в Англии созрели давно. Уровень экономического развития Англии в 1917 г. был значительно выше, чем в тогдашней России. Почему же английский рабочий класс не совершил перехода к социализму? Этому мешало и мешает руководство лейбористской партии, «рабочей» по названию, буржуазной по существу. Лейбористская партия насквозь проникнута буржуазной идеологией, суеверным почтением к капиталистической частной собственности. Это — партия сторонников «классового мира» между пролетариатом и буржуазией, развращающая рабочий класс проповедью национализма, заинтересованности и соучастия в угнетении колониальных народов, в империалистической политике «своей», отечественной буржуазии.
К чему же привела лейбористская партия английский рабочий класс в итоге многолетнего руководства рабочим движением и троекратного пребывания у власти? К снижению жизненного уровня трудящихся Англии, к превращению Англии в страну, зависимую от страны доллара, к позорной империалистической политике удушения свободы других народов, защиты и возрождения фашизма и милитаризма в Западной Германии, к поддержке фашизма в Испании и Португалии, к антинародной реакционной политике в отношении страны социализма — СССР и стран народной демократии. Вожди лейбористской партии выступают в защиту фашизма в Испании и Греции, в защиту гитлеровских военных преступников. Таков путь лейборизма, таково сегодня его политическое лицо. Вожди лейборизма — злейшие враги рабочего класса и социализма.
Будущее английского рабочего движения связано с английской коммунистической партией, опирающейся на теорию марксизма-ленинизма. Какие бы блуждания ни претерпело английское рабочее движение, у него один путь к социализму — путь, указанный Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным.
Измена принципам революционной теории мстит за себя. Об этом свидетельствует также позорная практика германской и французской социал-демократии. Вкусив плоды от древа бернштейнианства, ревизионизма, германская социал-демократия скатилась к предательству, привела германский рабочий класс к расколу, отравила его ядом национализма, шовинизма и тем подготовила почву для прихода к власти фашизма. Ныне германская социал-демократия является агентурой не только немецкой буржуазии, но и империализма США. Французские правые социалисты заключили негласный союз с фашистской партией де Голля для борьбы против коммунизма, против прогрессивных, демократических сил, против рабочего класса.
Пролетарское движение в России, руководствующееся теорией марксизма-ленинизма, завершилось полным освобождением рабочего класса и всех трудящихся от эксплуатации, величайшей всемирно-исторической победой социализма.
Ленин и Сталин учат, что без революционной теории не может быть революционного рабочего движения. Пролетарская партия может выполнить свою роль авангарда рабочего класса лишь в том случае, если она вооружена научной революционной теорией, если она всесторонне творчески разрабатывает эту теорию в соответствии с встающими перед рабочим движением задачами. Теория марксизма-ленинизма дала возможность рабочему классу России высвободиться из плена буржуазной идеологии, выйти на широкую и прямую дорогу к Великой Октябрьской социалистической революции, к завоеванию политического господства, к победоносному строительству социализма. Руководствуясь теорией марксизма-ленинизма, трудящиеся СССР превратили свою страну в могущественную социалистическую державу, ставшую оплотом демократии, мира и социализма.
Партия большевиков вела упорную и непримиримую борьбу за полное преодоление идейного влияния буржуазии и ее агентуры на трудящиеся массы. Ни одна партия не оберегала с такой революционной страстностью основные принципы научного социализма, как партия большевиков и ее вожди Ленин и Сталин. Шла ли речь о возвышенных вопросах философии, теории познания, многим казавшихся далекими от непосредственных задач рабочего движения, или о теории пролетарской революции и диктатуры пролетариата, Ленин и Сталин проявляли одинаковую непримиримость и к открытым врагам и к мнимым друзьям, когда речь шла о защите принципов марксизма. Терпимость к антимарксистским теориям Ленин и Сталин рассматривают как измену социализму, рабочему классу. Ни одна партия не уделяла так много внимания и сил обогащению, творческому развитию теории марксизма, как партия большевиков и ее основатели и вожди Ленин и Сталин. Ни одна партия не поднимала значения теории на такую высоту, как ВКП(б). В этом состоит один из главных залогов успеха большевизма. Этому учат история рабочего движения всех стран, история большевизма, весь опыт СССР.
«Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, — учит товарищ Сталин, — что он опирается на передовую теорию, правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества, поднимает теорию на подобающую ей высоту и считает своей обязанностью использовать до дна ее мобилизующую, организующую и преобразующую силу». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 112.) Марксистско-ленинская теория является руководством к революционным действиям рабочего класса для ускорения исторического движения по пути к свержению капитализма и утверждению нового, социалистического строя.
Научная теория — руководство в строительстве социалистического общества
Передовые общественные теории, передовые идеи играли и играют прогрессивную роль. Но степень их влияния на развитие общества не одинакова в разные эпохи. Роль передовых идей в развитии общества зависит, во-первых, от характера данного общественного строя, его закономерностей и движущих сил его развития; во-вторых, от степени точности отображения данной общественной теорией назревших потребностей развития материальной жизни общества; в-третьих, от степени распространения данных идей в массах, т. е. от того, являются ли они достоянием одиночек или же знаменем борьбы народных масс.
В книгах «Общественный договор» Руссо, «Богословско-политический трактат» Спинозы, «О человеке» Гельвеция выдвигались теории и идеи, которые для своего времени были передовыми. Но роль этих теорий и идей в развитии общества была сравнительно невелика, ибо они являлись достоянием одиночек или небольших школ. Философские воззрения английских и французских материалистов, а также материалистическая философия Фейербаха оставались достоянием немногих, и их общественная роль была также невелика. К тому же весь домарксовский материализм носил созерцательный характер, не ставил перед собой задачи изменить мир.
Во всей истории человечества до социализма лишь в периоды революций стихийное развитие общества сменялось сознательным, когда в яркой форме сказывалась организующая, мобилизующая и преобразующая роль передовых идей. Однако и в эпохи прежних революций не только у масс, но и у лиц, стоявших во главе движения, в том числе у вождей буржуазных революций, не было ясного понимания законов революции и ее движущих сил. Результаты прошлых революций были и для масс и для вождей буржуазии неожиданными, а часто прямо противоположными тому, чего они от них ожидали.
Теоретическое положение товарища Сталина о мобилизующей, организующей и преобразующей роли передовых идей в общественном развитии имеет всеобщий характер, относится ко всем общественным формациям, но прежде всего оно является обобщением исторической роли марксистско-ленинской теории в рабочем движении, в борьбе за свержение капитализма и построение социализма.
Великая действенная сила марксистско-ленинской теории состоит в том, что она стала знаменем революционной борьбы рабочего класса, знаменем десятков и сотен миллионов людей. Неразрывная связь теории и практики составляет коренной принцип марксистско-ленинского учения, которое представляет собой не только теоретическое обобщение опыта, практики рабочего движения всех стран, но и руководство для практической деятельности. В отличие от всех прежних теорий, дававших лишь более или менее приближенное отражение действительности, часто иллюзорное и грубо искаженное, марксизм-ленинизм есть научная теория, дающая наиболее точное отражение действительности, верное знание законов общественного развития, законов социалистической революции, строительства коммунизма. Благодаря этому активная, преобразующая роль марксистско-ленинской теории в общественном развитии несравнима, несоизмерима с ролью идей, теорий во всей предшествовавшей истории.
Само собой понятно, что роль марксистско-ленинской теории в условиях капитализма отлична от ее роли в условиях социализма. При капитализме марксистско-ленинская теория является для рабочего класса оружием для свержения эксплуататорского строя. В условиях капитализма революционной социалистической идеологии противостоит господствующая буржуазная идеология.
С победой социализма роль теории марксизма-ленинизма в развитии общества колоссально возрастает. В СССР великие идеи коммунизма овладели сознанием миллионов людей и стали могущественнейшей творческой материальной силой, орудием создания нового, оказывают активное воздействие на развитие экономического базиса и всех сторон жизни социалистического общества. На теорию марксизма-ленинизма опирается вся деятельность социалистического государства и коммунистической партии.
Возросшая роль научной теории в развитии социалистического общества вытекает из природы социализма, из характера закономерностей и движущих сил его развития. Уже самое возникновение социализма в корне отлично от возникновения капитализма. Социализм возникает не стихийно. В недрах капитализма создаются лишь объективные и субъективные предпосылки социализма, а создается он рабочим классом в результате социалистической революции, на основе государственного руководства рабочего класса обществом (диктатуры пролетариата), в результате сознательного творчества рабочего класса и всех трудящихся масс под руководством марксистской партии.
Величие эпохи социализма состоит в том, что здесь миллионы людей впервые во всемирной истории получили возможность сознательно делать историю, сознательно создавать новые общественные отношения, новый общественный строй. Благодаря этому темп исторического развития необычайно ускоряется. Экономические преобразования, на которые в условиях стихийного развития требовались века, в условиях планового развития социалистического общества благодаря знанию законов общественного развития, сознательному использованию этих законов и, наконец, в силу сознательного исторического творчества масс оказалось возможным осуществить в кратчайший срок. Для победы капитализма над феодализмом потребовалось 200 — 300 лет. Для победы социализма над капитализмом в СССР, для превращения аграрной России в индустриальную социалистическую державу понадобилось два десятилетия. Для победы социализма над капитализмом в мировом масштабе, несомненно, потребуется значительно меньшей срок, чем тот, который нужен был капитализму для победы над феодализмом. Об этом свидетельствует факт отпадения от системы империализма стран Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы, растущая организованность рабочего класса во всех капиталистических странах, рост национально-освободительного движения, победа демократической революции в Китае.
Человечество уже давно научилось подчинять своей воле стихийные силы природы. Но люди оставались бессильными перед стихийным действием законов общественного развития, которые казались им еще более таинственными, чем представлялись дикарю законы атмосферного электричества, вулканические извержения или землетрясения. Великий советский народ во главе с рабочим классом, руководимый коммунистической партией, впервые в истории одержал решающую победу над стихийностью в общественной жизни, подчинил своей власти действие общественных законов и построил социалистическое общество. Этим был совершен великий скачок из царства слепой необходимости в царство свободы, т. е. познанной необходимости, поставленной под контроль общества.
Строительство социализма в СССР потребовало единства воли миллионов людей, сплочения их вокруг партии Ленина — Сталина, патриотического воодушевления масс, ломающих и преодолевающих все препятствия и трудности на пути к цели. Это единство воли обеспечила партия большевиков, воспитавшая в советском народе высокую социалистическую сознательность.
В СССР вошли в быт понятия «строительство социализма» и «строительство коммунизма». Применяя эти понятия по привычке, мы не всегда вдумываемся в то, что они выражают собой новую эпоху во всемирной истории, новый тип общественного развития. Раньше, до социалистической революции, термин «строить» относился к созданию дома, фабрики, железной дороги, города. Но о сознательном строительстве целого общества никогда раньше не было и не могло быть речи. Никто никогда не говорил: «построить феодальное общество» или «построить капиталистическое общество». А социализм — это совершенно новый тип общества, которое строится сознательно, организованно, по плану. Процесс созидания такого общества означает именно строительство, планомерную творческую деятельность миллионов людей.
Подобно тому как строительство огромного здания предполагает разработку архитектурного плана, знание законов механики, сопротивления материалов и т. п., строительство социализма требовало разработки научно обоснованных, при этом неизмеримо более сложных, планов развития индустрии, сельского хозяйства, знания законов поведения и борьбы классов, учета бешеного сопротивления враждебных классов и партий. Знание законов строительства коммунизма дает теория марксизма-ленинизма. На ее основе строятся сталинские планы развития экономики и культуры СССР, планы, представляющие собой ленинизм в действии.
Коренное изменение соотношения стихийности и сознательности при социализме
Разумеется, и в условиях социализма существует и будет существовать всегда объективная закономерность, историческая необходимость, материальная обусловленность явлений. Как и во всяком обществе, в условиях социализма движение вперед идет на основе развития производительных сил, на основе развития способа производства. И здесь каждое новое поколение людей будет находить производительные силы и производственные отношения, не ими созданные; чтобы развивать их, люди должны сначала приобщиться к ним и отправляться от них; так что и в условиях социализма нельзя перескочить по произволу через закономерные этапы развития, игнорируя необходимость.
Но при всем этом характер закономерностей при социализме коренным образом изменяется, иным становится соотношение сознательности и стихийности. Социалистический способ производства определяет собой структуру советского общества и его развитие, но это развитие в целом протекает не как слепое, стихийное, а как планомерное, сознательное. Организующей, руководящей, планирующей и направляющей силой советского общества являются социалистическое государство и коммунистическая партия. Опираясь на объективные законы развития социализма, Советское государство и коммунистическая партия направляют развитие советского общества в заранее намеченном и теоретически обоснованном направлении. Именно это имели в виду основоположники научного социализма, когда писали:
«Коммунизм отличается от всех прежних движений тем, что совершает переворот в основе всех прежних производственных отношений и отношений общения и впервые сознательно рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как создания предшествующих людей, лишает их стихийности и подчиняет их мощи объединившихся индивидов». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 60.)
В условиях социализма впервые во всемирной истории сознательность победила стихийность. Здесь впервые все общественные отношения, все общество строится сознательно. Вся политика коммунистической партии и Советского государства основана на сознательном учете объективных условий, на глубоком изучении закономерностей и движущих сил развития социалистического общества, на сознательном использовании всех возможностей, рождаемых социалистическим строем. Политика социалистического государства и коммунистической партии исходит из учета решающей роли творческой инициативы и энтузиазма масс, из учета реальной борьбы нового, рождающегося против старого, отживающего и направлена на всемерную поддержку нового, передового. Только сознательная поддержка нового, борьба за полное преодоление старого обеспечили победу социализма над капитализмом в СССР.
Великая сила научного предвидения
Марксистско-ленинская теория служит советскому народу надежным руководством в строительстве социализма и коммунизма, потому что она дает знание законов развития общества и возможность предвидения. Обладая проникновенной силой научного предвидения, марксизм-ленинизм вооружает коммунистическую партию и всех трудящихся ясной перспективой и уверенностью в победе коммунизма.
Научное теоретическое мышление — продукт длительного исторического развития. Высшей формой теоретического мышления является материалистическая диалектика, отражающая наиболее общие законы развития действительности. Марксистский диалектический метод, теория исторического материализма дают возможность вскрывать, обнажать общественные явления, проникать в их сущность, постигать их внутреннюю связь. Научное теоретическое мышление, опираясь на марксистский диалектический метод и на знание законов общественной жизни, имеет возможность обнаружить скрытые от взора тенденции развития и на основе едва заметных зародышей предвидеть будущее развитие и сознательно направлять его.
Товарищ Сталин учит, что руководить — значит предвидеть. Стихия, самотек в корне враждебны социализму. Отдельные партийные и советские руководители, полагающиеся на самотек, не обеспечивающие большевистского руководства и не вникающие во внутренние процессы, происходящие в хозяйстве, до тех пор, пока обстоятельства не ткнут их носом в уже совершившиеся факты, — такие горе-руководители могут лишь развалить и загубить дело. Большевистское руководство тем более необходимо, что в сложном процессе развития социалистического общества еще имеются враждебные социализму пережитки мелкобуржуазной, собственнической психологии. Если бы ЦК ВКП(б) и советское правительство не вскрыли своевременно такие враждебные социализму явления, как разбазаривание колхозных земель и колхозного имущества, раздувание отсталыми колхозниками личного хозяйства за счет общественного, то это могло бы привести к развалу колхозов.
Ленинско-сталинская политика отличается гениальной прозорливостью, научным предвидением, основанным на трезвом и точном учете всех сил, возможностей, условий, складывающихся в ходе развития общества. Значит ли это, что партия может предусмотреть решительно все конкретные явления, с которыми связан ход общественного развития? Товарищ Сталин, выступая на XIII конференции РКП(б) и разоблачая жульнические махинации троцкиста Преображенского, говорил:
«Неправ Преображенский, утверждая, что наша партия не отставала от событий в прежние годы. Неправ, так как утверждение это фактически неверно и теоретически неправильно». Товарищ Сталин сослался на Брестский мир и отмену продразверстки. «Случаен ли тот факт, что во всех этих случаях партия отставала от событий, несколько запаздывала? Нет, не случаен. Мы имели здесь дело с закономерностью. Очевидно, что, поскольку дело идёт здесь не об общих теоретических предвидениях, а о непосредственном практическом руководстве, правящая партия, стоящая у руля и вовлечённая в события дня, не имеет возможности сразу заметить и уловить процессы, творящиеся в глубинах жизни, и нужен толчок со стороны и известная степень развития новых процессов для того, чтобы партия заметила эти процессы и ориентировалась на них. Именно поэтому несколько отставала в прошлом наша партия от событий и будет отставать в будущем. И дело тут вовсе не в отставании, а в том, чтобы понять смысл событий, смысл новых процессов и потом умело ими управлять в соответствии с общей тенденцией развития. Так именно обстоит дело, если смотреть на вещи глазами марксиста, а не глазами фракционера, ищущего везде виновников». (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 36, 37.)
Но, чем более утверждался социализм и преодолевались враждебные ему силы, чем больший опыт приобретали партия большевиков и ее Центральный Комитет, тем большие возможности открывались для предвидения хода событий.
В 1930 г. в связи с письмом Центрального Комитета ВКП(б) против перегибов в колхозном движении товарищ Сталин писал:
«Имело ли здесь место какое-либо отставание от хода движения со стороны ЦК? Я думаю, что поскольку речь идёт о теоретическом предвидении и выработке соответствующей политической установки, тут не было никакого отставания.
Имело ли место отставание со стороны значительных отрядов партии и отдельных членов ЦК в их практической политике? Безусловно, да. В противном случае у нас не было бы борьбы за генеральную линию и против уклонов ни в партии, ни в самом ЦК.
...Возможно ли, чтобы правящая партия сразу схватывала новые процессы, творящиеся в жизни, и так же сразу отражала их в своей практической политике? Я думаю, что невозможно. Невозможно, так как сначала бывают факты, потом их отражение в сознании наиболее передовых элементов партии, и только после этого наступает момент осознания новых процессов в головах массы членов партии. Помните Гегеля: «сова Минервы вылетает только ночью»? Иначе говоря: сознание несколько отстаёт от фактов.
Разница в этом отношении между поворотом в нашей политике во второй половине 1929 г. и поворотами во время Бреста и введения нэпа состоит в том, что во второй половине 1929 г. партия быстрее осознала новые процессы в объективной действительности, чем при поворотах во время Бреста и введения нэпа. Объясняется это тем, что партия за это время успела усовершенствоваться и её кадры стали более чуткими». (И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 232.)
Таким образом, Центральный Комитет ВКП(б), включающий в себя наиболее передовых деятелей партии, вооруженных марксистско-ленинской теорией, научно обобщает процессы, происходящие в обществе, дает теоретическое предвидение развития и на основе этого вырабатывает политическую линию партии.
Марксистско-ленинская наука является надежной опорой коммунистической партии во всей ее многогранной практической деятельности. В осуществлении своих великих задач партия большевиков никогда не полагалась на волю случая, на «авось», не плыла по течению без руля и без ветрил. Напротив, стихийности, анархии, самотеку она всегда противопоставляла сознательность и организованность и потому добивалась и добивается победы.
4. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание масс
Превосходство социалистической идеологии советского народа над буржуазной идеологией отражает превосходство социалистического общественного строя над капиталистическим. Советские люди по своему духовному облику неизмеримо выше людей капиталистического общества, влачащих на себе ярмо капиталистического рабства. Социалистическое сознание советских людей отражает социалистический строй общественной жизни, социалистическое бытие, и поэтому оно является самым передовым, самым прогрессивным общественным сознанием.
Как ни прозрачно ясны общественно-производственные отношения социалистического общества, все же и здесь закономерности общественной жизни, общественного развития не могут быть познаны непосредственно, при помощи эмпирического мышления, не опирающегося на научную теорию. Социальный закон — это форма всеобщности. Чтобы открыть законы общественного развития, надо уметь за бесчисленными единичными действиями людей обнаружить это всеобщее, внутреннюю всеобщую связь явлений. Тысячи стахановцев — новаторов производства, давших образцы высокой социалистической производительности труда, сами еще не могли оценить все великое значение своего подвига, вскрыть его сущность, его закономерность. Это сделала партия большевиков в лице своего вождя. Гений Сталина, опираясь на марксистско-ленинскую теорию, на марксистский диалектический метод, с предельной глубиной вскрыл сущность стахановского движения и его роль в развитии социалистического производства, в переходе от социализма к коммунизму.
Это свидетельствует о том, что и при социализме еще остается различие по степени социалистической сознательности между коммунистической партией — передовым отрядом трудящихся и широкими массами трудящихся. Ввиду этого остается необходимость поднимать широкие слои трудящихся до уровня сознания передового отряда.
Опираясь на научную теорию, которая дает точную ориентировку в происходящих событиях, партия идейно вооружает всю массу трудящихся. Великие идеи марксизма-ленинизма, все богатое содержание социалистической идеологии через пропаганду и агитацию, через печать, искусство, литературу, через повседневную воспитательную работу, осуществляемую социалистическим государством и коммунистической партией, становятся достоянием широчайших народных масс и превращаются в могучую материальную силу.
Так, идея социалистической индустриализации СССР, овладев умами миллионов людей, превратилась в материальную силу, преодолевшую все трудности и препятствия, опрокинувшую все коварные замыслы врагов. Сталинская идея индустриализации победила потому, что она отвечала насущным задачам страны. Ленинско-сталинская теория коллективизации крестьянского хозяйства явилась руководством для партии большевиков, а партия превратила идеи коллективизации в достояние десятков миллионов трудящихся крестьян. Идея коллективизации была претворена в жизнь, победила, потому что она отвечала назревшим задачам строительства социализма в деревне, кровным интересам всего трудящегося крестьянства. Так великая теория марксизма-ленинизма, ее идеи становятся могучей силой исторического развития, гигантски ускоряющей наше движение к коммунизму.
Поэтому коммунистическая партия и ее вождь товарищ Сталин выдвинули задачу коммунистического воспитания трудящихся, идеологическую закалку партийных и советских кадров, воспитание их в духе марксизма-ленинизма как одну из самых важных задач в деле построения коммунизма.
Борьба против пережитков капитализма в сознании советских людей
Сознанию советских людей, как и общественному сознанию людей других эпох, свойственно отставание от развития условий материальной жизни общества. Это отставание сознания выражается в том, что старые, отживающие идеи, взгляды, привычки, традиции продолжают жить даже тогда, когда условия, их породившие, уже коренным образом изменились.
Пережитки капитализма в сознании советских людей, старые, унаследованные от прошлого строя воззрения, идеи, привычки, нравы являются силой, тормозящей развитие общества. Вот почему коммунистическая партия, ее вожди Ленин и Сталин уделяли и уделяют огромное внимание делу коммунистического воспитания масс, делу борьбы с пережитками старого общества.
Наибольшую опасность эти пережитки капитализма в сознании людей представляли на первом этапе советского строя, когда он еще не утвердился прочно, когда социализм еще не вошел в быт. В докладе об итогах XIII съезда РКП(б) товарищ Сталин говорил:
«Старые навыки и привычки, традиции и предрассудки, унаследованные от старого общества, являются опаснейшим врагом социализма. Они, эти традиции и навыки, держат в руках миллионные массы трудящихся, они захлёстывают иногда целые слои пролетариата, они создают иногда величайшую опасность для самого существования диктатуры пролетариата. Поэтому борьба с этими традициями и навыками, обязательное их преодоление во всех сферах нашей работы, наконец, воспитание новых поколений в духе пролетарского социализма — являются теми очередными задачами нашей партии, без проведения которых невозможна победа социализма». (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 248.)
От вредных привычек и пережитков прошлого советские люди освобождались в процессе строительства социализма, в ходе упорной воспитательной работы коммунистической партии и Советского государства. В результате победы социализма и воспитательной работы коммунистической партии и Советского государства коренным образом изменился духовный облик советского народа, трудящиеся СССР стали сознательными строителями коммунистического общества.
Однако сознание советских людей еще и ныне не свободно от родимых пятен старого общества. До сих пор еще живы такие частнособственнические пережитки, как некоммунистическое отношение к труду у отсталой части трудящихся, нерадивое отношение к общественному добру, остатки бюрократизма, подхалимство, своекорыстие, националистические пережитки, религиозные суеверия и т. п. Одним из наиболее вредных пережитков, который свойственен отсталой части советской интеллигенции, являются идеи космополитизма, низкопоклонство перед буржуазным Западом, перед иностранщиной, преклонение перед упадочной буржуазной культурой. Эти реакционнейшие пережитки капитализма поддерживаются и оживляются в нашей стране враждебными нам капиталистическими государствами через посредство печати, радио и других орудий буржуазной пропаганды.
Сохранению и оживлению пережитков капитализма в сознании советских людей способствовали и способствуют ошибочные и вредные теории и взгляды. Такие вредные пережитки буржуазной идеологии, как безыдейность, аполитизм, объективизм и космополитизм в области литературы, литературной критики, кино, театра, музыки, философии, науки, тормозит развитие советской культуры. Серьезным тормозом в развитии биологической науки являлась вейсманистско-морганистская идеалистическая теория, а в языкознании антимарксистская теория Марра.
В интересах социалистического общества коммунистическая партия ведет развернутое наступление на буржуазную, реакционную идеологию капиталистического мира и выкорчевывает остатки влияния этой идеологии внутри СССР.
Идеологическая закалка и теоретическое вооружение кадров
Исторические решения ЦК ВКП(б) в 1946 — 1948 гг. по идеологическим вопросам: о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре драматических театров, о кинофильме «Большая жизнь», об опере Мурадели «Великая дружба», философская дискуссия по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», разгром реакционной теории вейсманистов-морганистов, выступления партийной печати против антипатриотической группы литературных и театральных критиков, разоблачение в партийной печати реформистских взглядов и ошибок у ряда советских экономистов показывают образец того, как надо вести борьбу за большевистскую партийность философии, науки, за социалистическую советскую идейность искусства и литературы, против враждебного социализму влияния буржуазной идеологии.
Коммунистическая партия выращивает и воспитывает кадры советской интеллигенции, вооружая их теорией марксизма-ленинизма. Кадры, не владеющие марксистско-ленинской теорией, не усвоившие коммунистического мировоззрения, рискуют потерять из виду перспективу исторического развития и выродиться в мелкобуржуазных обывателей, в беспринципных деляг, ничего не видящих дальше своего носа, слепо и механически выполняющих указания сверху, перестающих жить общегосударственными, общенародными интересами, интересами коммунистической партии.
На XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин говорил: «Нужно признать, как аксиому, что чем выше политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников любой отрасли государственной и партийной работы, тем выше и плодотворнее сама работа, тем эффективнее результаты работы, и наоборот, — чем ниже политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников, тем вероятнее срывы и провалы в работе, тем вероятнее измельчание и вырождение самих работников в деляг-крохоборов, тем вероятнее их перерождение. Можно с уверенностью сказать, что, если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, — то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 598.)
Многое в осуществлении задачи, поставленной товарищем Сталиным, коммунистической партией уже сделано. Но жизнь идет вперед. Она предъявляет все новые и новые требования и к росту социалистической сознательности масс, и к теоретическому уровню и идеологической закалке наших кадров. Следует иметь в виду, что численно советская интеллигенция продолжает расти, снизу, из рабочих и колхозников, выдвигаются новые и новые тысячи и десятки тысяч людей на руководящую партийную и советскую работу. Поэтому задача, выдвинутая партией, товарищем Сталиным на XVIII съезде ВКП(б) по идеологической закалке, по вооружению марксистско-ленинской теорией наших кадров, и сегодня является актуальной.
Неоценимую роль в идеологическом вооружении советских кадров играет сталинская книга «Краткий курс истории ВКП(б)» — эта энциклопедия основных знаний в области марксизма-ленинизма. Четвертое издание Собрания сочинений В. И. Ленина, издание Собрания сочинений И. В. Сталина — это огромное событие в идейной жизни нашей партии. Каждый том сочинений величайших корифеев марксистско-ленинской науки — это могучее оружие в руках советских людей, обогащающее их опытом большевизма, опытом строительства социализма, идейно вооружающее их на строительство коммунизма.
Коммунистическое воспитание трудящихся
Полный расцвет социалистического общества, осуществление великой задачи завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму в значительной мере зависят от идейного, теоретического роста наших кадров, от успехов партии, Советского государства, советской интеллигенции в деле коммунистического воспитания трудящихся, от дальнейшего роста коммунистической сознательности масс, от полного преодоления пережитков капитализма в сознании советских людей. На XVIII съезде ВКП(б) В. М. Молотов говорил:
«Чтобы по-настоящему осознать и с максимальными практическими результатами использовать в интересах народа наши политические, наши экономические, наши культурные, наши организационные и все прочие огромные возможности, нам больше всего необходимо в данный период всемерное повышение дела коммунистического воспитания. Чтобы еще успешнее решать любые организационные вопросы подъема мощи нашего государства, чтобы еще быстрее двигаться вперед в решении основной экономической задачи Советского Союза, в решении задачи догнать и перегнать в короткий срок наиболее развитые капиталистические страны также и в экономическом отношении, — надо выдвинуть вперед задачи воспитания масс в духе коммунистически-сознательного отношения к труду, задачи дальнейшего повышения идейного воспитания самих кадров партийного и государственного аппарата и всей советской интеллигенции в духе марксизма-ленинизма, в духе большевизма». («XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет», стр. 4.)
Главное в коммунистическом воспитании — это дальнейшее развитие, культивирование советского патриотизма, воспитание всех советских людей, в частности подрастающих поколений, в духе преданности социалистической Советской родине, коммунистической партии, делу Ленина — Сталина.
Быть советским патриотом — это значит относиться по-коммунистически к труду, как к делу чести, к делу славы, к делу доблести и геройства; это значит беречь народное добро, социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу нашего строя; это значит бороться за осуществление задач, поставленных Советским государством и коммунистической партией; ставить интересы социалистического отечества превыше всего, не жалеть сил для его процветания и даже самой жизни, если этого потребует родина.
«Коммунистические принципы, если взять их в простом виде, — это принципы высокообразованного, честного, передового человека, это — любовь к социалистической родине, дружба, товарищество, гуманность, честность, любовь к социалистическому труду и целый ряд других высоких качеств, понятных каждому. Воспитание, выращивание этих свойств, этих высоких качеств и является важнейшей составной частью коммунистического воспитания». (М. И. Калинин, О коммунистическом воспитании, «Молодая гвардия», 1947, стр. 50.)
Коммунистическое воспитание советских людей осуществляется в практике социалистического строительства, в труде, в общественной деятельности. Весь советский общественный и политический строй воспитывает людей в духе принципов социализма, коммунизма. Но как развитие социалистической экономики, так и развитие социалистического сознания осуществляется не стихийно, а при направляющем воздействии Советского государства, коммунистической партии. Партия большевиков — это величайший инженер человеческих душ. Ей принадлежит решающая, организующая роль в деле коммунистического воспитания трудящихся.
Огромная и все возрастающая роль в коммунистическом воспитании принадлежит советской интеллигенции. «В нынешних условиях, когда в СССР безраздельно господствуют социалистические формы хозяйства, социалистическая собственность, социалистическая организация труда, когда решающее значение для успеха нашего дела приобретает коммунистическая сознательность в работе на пользу нашего государства, народа и всех трудящихся, — гигантски поднимается роль советской интеллигенции, умеющей по-большевистски работать, по-большевистски бороться за подъем культурности и коммунистической сознательности трудящихся». («XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет», стр. 666 — 667.)
Итак, в условиях социалистического общества коренным образом изменяется соотношение стихийности и сознательности; здесь стихийность побеждена социалистической сознательностью, плановостью.
Социалистическая идеология является мобилизующей, организующей и преобразующей силой.
Развитие социалистического общества и переход к коммунизму во многом зависят от успехов в деле коммунистического воспитания советского народа и от вооружения кадров интеллигенции марксистско-ленинской теорией.
Глава шестнадцатая. Социализм и коммунизм
1. Две фазы коммунистического общества
Социализм и коммунизм — две ступени экономической зрелости нового общества
Всякий общественный строй имеет свою историю развития от низшей ступени к высшей. Коммунизм как общественный строй также имеет свои фазы развития.
К. Маркс в 1875 г. в «Критике Готской программы» научно обосновал, что социализм и коммунизм — это две ступени развития, две фазы одной, коммунистической общественно-экономической формации.
Низшая фаза развития коммунизма — это социализм, высшая — это полный, развитый коммунизм. В. И. Ленин писал по этому поводу: «То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал «первой» или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм...
В первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций или следов капитализма». (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 442.)
Социализм — это новое общество, только что вышедшее из недр капитализма, поэтому оно во всех отношениях еще сохраняет родимые пятна, следы, пережитки старого строя: в экономике, быту, в сознании людей. Характеризуя социализм, Маркс писал:
«Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, которое, наоборот, только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 13.)
Коммунизм означает более высокую, чем социализм, ступень развития нового общества, когда оно уже достигло экономической зрелости, когда обеспечено изобилие материальных благ и осуществлен переход от распределения их по труду к распределению по потребностям. При коммунизме полностью исчезнут пережитки капитализма как в экономике, так и в сознании людей. О высшей фазе коммунизма можно сказать, что это общество, которое развилось на своей собственной основе, не унаследованной от прошлого, а созданной социализмом. Характеризуя высшую фазу коммунизма, Маркс писал в «Критике Готской программы»:
«На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 15.)
Из этих характеристик следует, что различия между социализмом и коммунизмом обусловлены различной степенью экономической зрелости нового общества.
Разрабатывая теорию научного коммунизма в XIX в., около столетия назад, Маркс и Энгельс, естественно, не могли предусмотреть все вопросы, которые должны были возникнуть в ходе строительства социализма. Опыт социалистического строительства в СССР дал возможность конкретизировать и развить дальше теорию научного коммунизма. Ленин и Сталин на основе обобщения практики революционного рабочего движения эпохи империализма, в особенности на основе обобщения опыта строительства социализма в СССР, разработали дальше теорию научного коммунизма, уточнили и конкретизировали определение черт социализма и коммунизма, открыли пути перехода от социализма к коммунизму.
Общность основ социализма и коммунизма
Социализм и коммунизм — это две фазы одной и той же общественно-экономической формации, они имеют общую основу, общие черты. В основе социализма и коммунизма лежит один и тот же способ производства. Этот способ производства, уже созданный в СССР, основан на общественной собственности на средства производства, на товарищеском сотрудничестве свободных от эксплуатации работников.
Маркс гениально предвидел, что капиталистические производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства. Заложенный в них антагонизм вытекает не из природы производства вообще, а из особых общественных условий производства, основанного на частной собственности на средства производства. Капитализм создает предпосылки для уничтожения этого антагонизма, социализм устраняет этот антагонизм.
Мысль Маркса выражена в общетеоретической формуле. Товарищ Сталин раскрыл эту формулу, наполнив ее конкретным содержанием и указав, что социалистические производственные отношения полностью соответствуют производительным силам, ибо общественный характер процесса производства при социализме подкрепляется общественной собственностью на средства производства. В этом положении И. В. Сталин обобщил опыт построения социализма в СССР, дал формулировку нового, основного закона развития коммунистической общественно-экономической формации. В новом типе взаимоотношений между производительными силами и производственными отношениями, в их полном соответствии кроются неисчерпаемые возможности для развития производительных сил социалистического и коммунистического общества.
Благодаря общественной собственности на средства производства, благодаря полному соответствию производственных отношений характеру производительных сил стало возможным вести все хозяйство огромной страны по плану, разумно, в полной мере использовать все материальные и духовные силы советского общества, все достижения науки и техники на благо трудящихся. Впервые в истории производство и наука объединились не стихийно, а планово, разумно, не в пределах одного предприятия, а в масштабе всей страны. В СССР наука всецело служит интересам производства, т. е. интересам трудящихся, интересам всего народа, что является важным фактором все ускоряющегося общественного прогресса. Плановое развитие народного хозяйства также представляет общую черту, характерную и для социализма и для коммунизма.
Ф. Энгельс в своем знаменитом труде «Анти-Дюринг» писал, что при капитализме общественные силы, созданные людьми, в силу анархии производства господствуют над людьми подобно стихийным силам природы и обрушивают на них чудовищные бедствия. Результатом действия этих сил является безработица, разорение миллионов крестьян, ремесленников и мелких торговцев, опустошительные экономические кризисы и войны, в которых истребляются миллионы людей, особенно в эпоху империализма. С победой социализма эти силы, кажущиеся сверхъестественными, демоническими, поступают под контроль людей, развитие производства принимает плановый характер, люди заранее предвидят общественные результаты своей производственной деятельности.
В СССР принцип планового ведения хозяйства восторжествовал полностью. С победой социализма в СССР осуществлен исторический скачок из царства необходимости в царство свободы. Кончилась предыстория и началась подлинная история народа, освобожденного от рабства и эксплуатации.
Основные различия между социализмом и коммунизмом
Различия между социализмом и коммунизмом определяются разной степенью развития способа производства, лежащего в их основе. Экономическую основу социализма и коммунизма составляет один и тот же способ производства, но при коммунизме этот способ производства получит высочайшее развитие и освободится окончательно от следов старого строя. Производительные силы общества при коммунизме достигнут могучего расцвета, в результате чего будет создано изобилие всех предметов потребления. Технический прогресс пойдет вперед еще более могучими темпами, чем в СССР в настоящее время: все процессы производства будут полностью механизированы и автоматизированы, на службу обществу будут поставлены новые источники сырья и энергии. Электрификация всех отраслей народного хозяйства, газификация, реактивная техника и атомная энергия многократно увеличат власть человека над природой.
На основе высочайшего развития производительных сил коммунистическое общество преодолеет все пережитки классового общества, в том числе противоположность между городом и деревней, между умственным и физическим трудом.
При переходе от социализма к коммунизму в соответствии с развитием и изменением производительных сил будут развиваться и производственные отношения, будут меняться формы собственности. Исчезнут еще имеющиеся в СССР остатки частной собственности крестьян-единоличников и некооперированных кустарей, существование которых допускается статьей 9 Конституции СССР и свидетельствует о незавершенности строительства социализма. Если при социализме экономической основой общества является социалистическая собственность, существующая в двух формах: государственной (всенародной) и кооперативно-колхозной, то при коммунизме будет существовать единая, всенародная собственность на средства производства. Таким образом, переход от социализма к коммунизму предполагает дальнейшее развитие общественной собственности, которое приведет к завершению процесса обобществления средств производства.
В связи с этим при коммунизме отпадут и классовые различия, еще существующие при социализме: сотрутся грани между рабочим классом и крестьянством, а также между этими классами и интеллигенцией.
На основе дальнейшего развития социалистического способа производства с переходом к коммунизму изменится и способ распределения. В первой фазе коммунизма действует социалистический способ распределения, который гласит: «От каждого по его способностям, каждому по его труду». Иными словами: каждый обязан трудиться по своим способностям и имеет право получать вознаграждение по количеству и качеству своего труда. На данной ступени развития общества этот принцип распределения наилучшим образом обеспечивает сочетание общественных и личных интересов трудящихся. Он создает такие стимулы развития производительных сил, которых не знала ни одна из прежних общественно-экономических формаций, способствует развитию социалистического соревнования, выявлению способностей и дарований людей.
И все-таки социалистический принцип распределения, несмотря на свою историческую прогрессивность, не является идеалом. Он обусловлен достигнутой при социализме степенью развития производства и степенью развития самих людей — производителей материальных благ. Когда общество достигнет более высокой ступени развития, оно осуществит коммунистический способ распределения. Если принципом социализма является: «От каждого по его способностям, каждому по его труду», то принципом коммунизма будет: «От каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Это означает, что каждый член коммунистического общества будет иметь полную возможность удовлетворить все свои потребности, потребности культурно развитого человека.
Труд при социализме является обязанностью и делом чести каждого работоспособного гражданина. Выполнение этой обязанности стимулируется как моральным поощрением добросовестных работников, так и оплатой их труда. Распределение по труду порождает у работников личную материальную заинтересованность в повышении производительности труда. Социалистическое государство строго контролирует выполнение этой обязанности, устанавливает соответствие между мерой труда и мерой потребления каждого работника. Обязанность трудиться закрепляется также правовыми нормами. В Конституции СССР записано: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест»».
Коммунизм отнюдь не упраздняет обязанности трудиться. Наоборот, коммунизм — это общество самой высокой сознательной трудовой дисциплины. Труд при коммунизме остается обязанностью и делом чести каждого работоспособного члена общества, но эта обязанность уже не потребует принуждения. Сталинская характеристика социалистического труда как дела чести, дела славы, дела доблести и геройства еще в большей мере будет относиться к коммунистическому труду. При коммунизме труд станет привычкой, человек в такой мере привыкнет к добровольному труду на общество, что труд будет его первой жизненной потребностью. Вследствие этого отпадает надобность в соразмерении потребления с количеством и качеством труда, вложенного в производство каждым отдельным членом общества, а также в правовых нормах, регулирующих труд.
В. И. Ленин, говоря о развитом коммунистическом обществе, писал: «Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне норм, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, — труд, как потребность здорового организма». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 151.)
Эти слова Ленина, разумеется, не означают, что коммунистическое общество не будет регулировать трудовую деятельность людей, а предоставит ее личному усмотрению каждого. Коммунистическое хозяйство будет развиваться по плану, а плановое хозяйство невозможно без соответствующих технических норм. Говоря о труде «вне норм», Ленин имеет в виду не технические, а правовые нормы. В книге «Государство и революция», характеризуя труд при социализме, он писал: «...не впадая в утопизм, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научаются работать на общество без всяких норм права, да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает сразу». (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 439.) Необходимые для такой перемены экономические и духовные предпосылки создаются лишь с переходом к высшей фазе коммунизма.
Буржуазные писатели немало потрудились над тем, чтобы представить коммунизм как царство всеобщей уравниловки, где якобы все будут получать всего поровну, все будут иметь одинаковые вкусы и потребности и где для всех будут установлены «казарменные порядки». Такое представление говорит только о невежестве буржуазных идеологов и об их звериной ненависти к коммунизму.
На самом деле ни при социализме, ни при коммунизме нет и не будет уравниловки. Марксизм-ленинизм показал, что мелкобуржуазные представления о социализме как всеобщей уравниловке являются карикатурой на социализм. В действительности равенство при социализме означает уничтожение классового неравенства и гнета, создание одинакового отношения к средствам производства и освобождение всех трудящихся от эксплуатации, установление равной оплаты за равный труд. Но социализм вовсе не означает равной оплаты для всех, ибо все получают по количеству и качеству труда, а различия между трудом квалифицированным и неквалифицированным, трудом умственным и физическим на этой ступени еще сохраняются. При коммунизме эти различия уже отпадают, «деление на «чёрную» и «белую» работу и противоречие между умственным и физическим трудом полностью устранены, труд уравнен...». (И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 361.) Однако это вовсе не означает уравнения потребностей людей. Когда общество осуществит принцип коммунизма: «От каждого по его способностям, каждому по его потребностям», люди будут получать не одинаковое количество продуктов, а различное, соответствующее их потребностям и вкусам. Потребности граждан коммунистического общества — это потребности всесторонне развитых людей. Критикуя мелкобуржуазное представление о равенстве, товарищ Сталин говорил:
«Под равенством марксизм понимает не уравниловку в области личных потребностей и быта, а уничтожение классов, т. е. а) равное освобождение всех трудящихся от эксплоатации после того, как капиталисты свергнуты и экспроприированы, б) равную отмену для всех частной собственности на средства производства после того, как они переданы в собственность всего общества, в) равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду (социалистическое общество), г) равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их потребностям (коммунистическое общество). При этом марксизм исходит из того, что вкусы и потребности людей не бывают и не могут быть одинаковыми и равными по качеству или по количеству ни в период социализма, ни в период коммунизма». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 470.)
Покончив с эксплуатацией человека человеком, социалистическое общество уже уничтожило коренные, важнейшие основы социального неравенства. При социализме, как указывает товарищ Сталин, положение каждого гражданина в обществе определяется не его имущественным положением, не национальным происхождением, не полом, а его личными способностями и личным трудом. Это открывает широчайшие возможности для расцвета личности, для раскрытия всех ее способностей и дарований, для развития производительных сил общества.
Однако при социализме еще сохраняется некоторое фактическое различие в материальной обеспеченности людей. Все работники имеют равное право получать оплату по своему труду. Но вследствие того, что различны их производственная квалификация, физические и духовные способности, не одинаковы условия их быта (семейное положение и т. д.), имеются существенные различия между ними. Эти различия отпадут полностью лишь тогда, когда на основе развития производительных сил будет достигнуто изобилие материальных благ и продукты будут распределяться уже не по труду, а по потребности. Тогда общество сможет полностью удовлетворить все разносторонние потребности культурно развитых людей, а стало быть, окончательно исчезнут все следы общественного неравенства.
Коммунистическое общество принесет с собой высший расцвет личности. Освобожденные от заботы о куске хлеба, люди смогут развернуть все свои способности, дарования, таланты. Наука и искусство достигнут небывалого расцвета. Исчезнет уродующее людей при капитализме старое разделение труда, приковывающее человека пожизненно к его узкой, подчас нелюбимой профессии. Коммунизм идет, как указывал Ленин, «к воспитанию, обучению и подготовке всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей...». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 194.)
Это не значит, конечно, что при коммунизме не будет специалистов, знатоков своего дела. Нет, специализация и специалисты будут и при полном коммунизме. Чтобы добиться выдающихся успехов в любой области труда, надо хорошо изучить дело. Чтобы не быть верхоглядом, дилетантом в науке, надо хорошо изучить именно данную отрасль науки, а внутри этой науки — определенные узкие области и даже конкретные проблемы. Но, как показывает опыт социалистического строительства в СССР, углубленная специализация сочетается с широким и всесторонним развитием работников. Так, например, токарь-скоростник Борткевич смог добиться выдающихся успехов в своей области потому, что он основательно, всесторонне и глубоко изучил токарный станок, теорию и практику токарного дела. И вместе с тем новаторы производства Г. Борткевич, П. Быков, Н. Российский — это уже не узкие специалисты, это люди широкого кругозора, соединяющие физический и умственный труд. Труд стахановцев — это творческий труд многосторонне развитых людей. Труд при коммунизме приобретет еще в большей мере творческий характер, станет еще более могучим средством всестороннего развития способностей людей, формой выявления талантов, дарований каждой личности.
Общую характеристику коммунизма дал товарищ Сталин в 1927 г. в следующих словах: «Если дать вкратце анатомию коммунистического общества, то это будет такое общество: а) где не будет частной собственности на орудия и средства производства, а будет собственность общественная, коллективная; б) где не будет классов и государственной власти, а будут труженики индустрии и сельского хозяйства, экономически управляющиеся, как свободная ассоциация трудящихся; в) где народное хозяйство, организованное по плану, будет базироваться на высшей технике как в области индустрии, так и в области сельского хозяйства; г) где не будет противоположности между городом и деревней, между индустрией и сельским хозяйством; д) где продукты будут распределяться по принципу старых французских коммунистов: «от каждого по способностям, каждому по потребностям»; е) где наука и искусство будут пользоваться условиями достаточно благоприятными для того, чтобы добиться полного расцвета; ж) где личность, свободная от забот о куске хлеба и необходимости подлаживаться к «сильным мира», станет действительно свободной». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 134.)
Как показал в дальнейшем товарищ Сталин, государственная власть отомрет лишь тогда, когда коммунизм одержит окончательную победу во всем мире или по крайней мере в большинстве стран. Если же коммунизм будет существовать в одной стране, если сохранится капиталистическое окружение, то государство останется и при коммунизме.
Определяя коммунизм, товарищ Сталин указывает лишь важнейшие его черты, которые можно предвидеть и установить научно. Пытаться определить заранее все подробности устройства коммунистического общества (например, определять во всех деталях, каким будет быт при коммунизме) значило бы фантазировать попусту. Каким коммунистическое общество будет во всех своих деталях, это решат миллионы строителей коммунизма, они будут решать это по мере перехода от социализма к коммунизму.
2. О постепенном переходе от социализма к коммунизму
Постепенность перехода от социализма к коммунизму
Марксизм-ленинизм учит, что социализм, развиваясь на своей собственной экономической основе, постепенно перерастает в коммунизм.
Между социализмом и коммунизмом нет китайской стены. Поскольку это лишь разные фазы одного общества и имеют общие экономические и политические основы, постольку переход от социализма к коммунизму происходит постепенно, по мере развития народного хозяйства, роста производительности труда, роста коммунистической сознательности масс и дальнейшего укрепления могущества социалистического государства.
Постепенность перехода от социализма к коммунизму отнюдь не означает замедленных темпов движения вперед. Напротив, социализм приносит с собой громадное ускорение темпов общественного развития. Еще Ленин отмечал: «...как бесконечно лживо обычное буржуазное представление, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное, тогда как на самом деле только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем всего населения, происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной жизни». (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 443.) Опыт социалистического строительства в СССР всецело подтвердил эти пророческие ленинские слова. Об этом особенно ярко свидетельствует досрочное выполнение грандиозных планов — сталинских пятилеток.
Постепенность перехода от социализма к коммунизму отнюдь не исключает скачков в развитии отдельных сторон общественной жизни, например в развитии производства, в техническом и научном прогрессе и т. д. Достаточно сослаться хотя бы на пример стахановского движения, которое, ускоряя наше развитие к коммунизму, призвано было, по выражению товарища Сталина, «произвести в нашей промышленности революцию». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 494.) Несомненно также, что такие крупнейшие открытия, как, например, применение атомной энергии в производстве, могут и должны повлечь за собой настоящую техническую революцию. Но эти качественные скачки будут совершаться не путем взрыва, а постепенно.
Постепенность перехода от социализма к коммунизму означает, что этот переход совершится не в порядке насильственного переворота, не в порядке социальной революции. В этом смысле переход от социализма к коммунизму носит совершенно иной характер, чем переход от капитализма к социализму. Переход от капитализма к социализму не может быть осуществлен без социальной революции, ибо это переход от одной общественно-экономической формации к другой, от одного способа производства к другому, переход, который предполагает насильственное уничтожение отжившего способа производства, насильственное свержение и уничтожение эксплуататорских классов. Напротив, переход от социализма к коммунизму — это переход от первой фазы ко второй фазе развития одной и той же общественно-экономической формации, осуществляемый на базе одного способа производства, исключающий необходимость свержения каких бы то ни было классов, а предполагающий постепенное стирание классовых граней.
Такой переход не может быть осуществлен сразу, в порядке единовременного акта. В. И. Ленин указывал, что марксисты никогда не обещали «ввести» коммунизм. Коммунизм вырастает из социализма по мере того, как общество достигает более высокой степени экономической зрелости. Важнейшей предпосылкой этого вызревания является дальнейшее развитие производительных сил социализма.
Решение основной экономической задачи СССР как важнейшее условие, обеспечивающее переход к коммунизму
Еще в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс писали, что пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы «централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, 1950, стр. 55.) Маркс и Энгельс установили, что коммунизм станет возможным тогда, когда производительные силы достигнут такой ступени развития, что все источники общественного богатства польются полным потоком. Однако Маркс и Энгельс не могли более конкретно определить тот уровень развития производительных сил, который необходим для построения коммунизма.
Ленин, исходя из опыта социалистической революции в России, уже более конкретно определял этот уровень. Он указывал на необходимость догнать и перегнать развитые капиталистические страны в экономическом отношении, на необходимость создать более высокую производительность труда, чем при капитализме. Высокий уровень развития производительных сил, необходимый для перехода к коммунизму, Ленин связывал с планомерной электрификацией всех отраслей народного хозяйства. Отсюда гениальная ленинская формула: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».
Товарищ Сталин, исходя из новых данных, которыми ни Маркс, ни Ленин не располагали, конкретно определил тот уровень развития производительных сил, при котором становится возможным осуществление перехода от первой ко второй фазе коммунизма. На XVIII съезде ВКП(б) в 1939 г., намечая план великих работ по созданию материальной базы для осуществления перехода от социализма к коммунизму, И. В. Сталин говорил:
«Мы перегнали главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо. Но этого мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 578 — 579.)
Товарищ Сталин указал, что нельзя смешивать абсолютный объем промышленного производства с относительными размерами производства, приходящегося на душу населения. По абсолютному объему промышленного производства Советский Союз уже давно опередил большинство капиталистических стран и занял второе место в мире. Но, несмотря на то что до войны мы производили, например, чугуна в два с лишним раза больше Англии, на душу населения у нас приходилось чугуна меньше, чем в Англии. Это объясняется тем, что численность населения СССР в несколько раз превышает численность населения Англии. А ведь «чем больше населения в стране, тем больше в стране потребностей в предметах потребления, стало быть, тем больше должен быть объем промышленного производства такой страны». (Там же, стр. 578.)
Выполнение этой основной экономической задачи СССР потребует увеличения общего объема промышленной продукции примерно втрое по сравнению с довоенным уровнем. В своем выступлении перед избирателями 9 февраля 1946 г. товарищ Сталин указал, что производительные силы СССР должны достичь такого уровня, чтобы ежегодно производить до 50 млн. тонн чугуна, до 60 млн. тонн стали, до 500 млн. тонн угля, до 60 млн. тонн нефти. Соответствующее развитие должны получить и другие отрасли народного хозяйства СССР. Достижением этого уровня будет обеспечена материальная база коммунизма. Осуществление этого сталинского плана потребует новых серьезных капитальных вложений, строительства новых промышленных предприятий на базе все более совершенной техники, дальнейшего повышения производительности труда.
Чтобы судить о том, на каком расстоянии СССР находится от намеченного этим планом уровня, приведем следующие данные. С выполнением плана первой послевоенной пятилетки уровень производства в СССР достигает следующих размеров: выплавка чугуна — 19500 тыс. тонн, стали — 25400 тыс. тонн, добыча угля — 250 млн. тонн, нефти — 35400 тыс. тонн, электроэнергии — 82 млрд. киловатт-часов. Из этих цифр видно, что к концу первой послевоенной пятилетки СССР достигает по чугуну 39%, по стали — 42, по углю — 50, по нефти — 59% того уровня производства, который указан в грандиозной программе нового мощного подъема народного хозяйства, намеченной товарищем Сталиным.
В результате успешного выполнения послевоенной пятилетки уровень промышленной продукции СССР возрос к концу 1949 г. по сравнению с довоенным, 1940 г. в целом более чем на 40%. Пятилетний план обеспечивает еще больший рост по некоторым отраслям промышленности. Так, например, в 1950 г. машин и оборудования будет произведено в два раза больше, чем до войны, количество металлорежущих станков увеличится до 1300 тыс., что примерно на 30% превысит станочный парк Соединенных Штатов Америки, имевшийся там в 1940 г.; производство электроэнергии увеличится на 70%.
Сельское хозяйство в СССР в послевоенную пятилетку сделало огромный шаг вперед. В 1949 г. по валовому сбору зерна и по производительности с гектара оно превысило довоенный уровень. Наглядное представление о росте социалистического сельского хозяйства в первую послевоенную пятилетку могут дать следующие цифры. Если принять валовую продукцию сельского хозяйства в 1932 г. за 100%, то в 1937 г. было достигнуто 153%, в 1940 г.— 177, а в 1950 г. намечено 225%.
Таковы преимущества социализма, который обеспечивает всестороннее и равномерное развитие промышленности и сельского хозяйства. Развитие народного хозяйства СССР происходит на основе расширенного социалистического воспроизводства, каждая новая пятилетка на более расширенной основе, в еще больших масштабах и темпах воспроизводит материально-техническую базу социалистического общества.
Потребуются примерно еще три новые пятилетки, в течение которых будет решена основная экономическая задача СССР — догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении. Советский Союз станет самой крупной индустриальной страной, самой богатой страной в мире.
Таким образом, для советского общества переход к коммунизму, построение коммунизма — уже не отдаленная мечта, а практический вопрос повседневной работы советских людей, вопрос борьбы и творчества каждого советского гражданина.
В США средний уровень производства продуктов на душу населения, достигнутый на антагонистической капиталистической основе, означает лишь колоссальные богатства немногих владельцев капиталистических монополий и нищету трудящихся, девяти десятых населения. В условиях коммунистического общества, при отсутствии паразитических классов, такой средний уровень производства на душу населения будет означать изобилие материальных благ, полную возможность осуществления принципа коммунизма: «От каждого по его способностям, каждому по его потребностям».
Уничтожение противоположности между городом и деревней
В процессе перехода от социализма к коммунизму трудящиеся СССР, руководимые партией большевиков, решают великую историческую задачу преодоления противоположности между городом и деревней. Эту задачу партия большевиков ставила перед собой с первых лет социалистического строительства. В программе партии, принятой VIII съездом РКП(б) в 1919 г., указано, что противоположность между городом и деревней является одной из самых глубоких основ хозяйственной и культурной отсталости деревни, ввиду чего партия видит в уничтожении этой противоположности одну из коренных задач коммунистического строительства.
Противоположность между городом и деревней так же стара, как и деление общества на классы. При капитализме она достигает наибольшей глубины. Капиталистический город выступает по отношению к деревне как беспощадный эксплуататор, который высасывает из деревни соки, оставляя на ее долю нищету, бескультурье, безграмотность, политическое бесправие и «идиотизм деревенской жизни» (Маркс).
Противоположность между городом и деревней была осуждена передовыми мыслителями еще на заре развития капитализма. Основоположник утопического социализма, английский писатель начала XVI в. Томас Мор в знаменитом произведении «Утопия», вышедшем в 1516 г., предлагал уничтожить эту противоположность тем, что в идеальном обществе каждый обязан провести на сельскохозяйственных работах два года, после чего возвращается в город. Это была наивная попытка найти путь уничтожения противоположности между городом и деревней. Другие утопические социалисты, в частности Роберт Оуэн, несколько ближе подходили к существу дела, но и они не могли дать правильного решения этого вопроса.
Маркс и Энгельс впервые показали историческую необходимость и открыли реальные пути уничтожения противоположности между городом и деревней, а Ленин и Сталин разработали этот вопрос всесторонне, опираясь на опыт социалистического строительства в СССР.
В СССР противоположность между городом и деревней уже в корне подорвана. В городе и в деревне создан единый социалистический способ производства. На базе социализма советская деревня коренным образом изменила свой облик. Уничтожен «идиотизм деревенской жизни». Уровень культуры деревни намного вырос. Многие деревни, села уже не отличишь от города, они имеют электростанции, средние школы, промышленные предприятия, театры, клубы, кино, радио.
Былая пропасть, разделявшая город и деревню, в СССР уже уничтожена, но для того, чтобы ликвидировать полностью противоположность между городом и деревней, потребуется еще большая работа и немало времени. Ликвидация этой противоположности по мере продвижения к коммунизму будет проходить все более ускоренно. К этому ведет дальнейшая индустриализация и электрификация сельского хозяйства, превращение сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального.
В отличие от утопических социалистов, предлагавших уничтожить или по крайней мере разукрупнить города, для того чтобы преодолеть противоположность между городом и деревней, товарищ Сталин показал, что эта противоположность преодолевается на основе дальнейшего развития социалистического города и всестороннего хозяйственного и культурного подъема деревни. Советское государство планомерно изменяет географическое размещение производительных сил, приближая промышленность к источникам сырья, обеспечивая хозяйственный и культурный подъем ранее отсталых районов, способствуя более равномерному размещению промышленности и сельского хозяйства по всей стране.
Социалистический город помогает хозяйственному и культурному подъему деревни. Техническое перевооружение сельского хозяйства, подготовка механизаторских, агротехнических и зоотехнических кадров, повышение культуры сельского населения осуществляются при помощи и под руководством социалистического города.
Советское государство вкладывает в сельское хозяйство огромные средства, снабжая его новейшей техникой. За годы послевоенной пятилетки в сельское хозяйство поступит около 350 тыс. тракторов и множество других высокопроизводительных современных сельскохозяйственных машин. Электричество все более и более внедряется в сельскохозяйственное производство и в быт советской деревни. Масштабы и темпы механизации и электрификации сельского хозяйства в ближайшем будущем приведут к полному превращению сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, различие в характере труда промышленного и сельскохозяйственного будет уничтожено.
В деле дальнейшего развития производительных сил социалистического хозяйства и создания изобилия продуктов огромное значение имеет сталинский план борьбы за высокие и устойчивые урожаи, предусматривающий создание полезащитных лесонасаждений в степной и лесостепной полосе, строительство водоемов и целую систему агрономических мероприятий. К этой же цели направлены принятый в 1949 г. Советским правительством трехлетний план развития животноводства и принятые в 1950 г. постановления о переходе на новую систему орошения в целях полного использования орошаемых земель и сельскохозяйственной техники, о строительстве гидроэлектростанций в районе Куйбышева, Сталинграда и Каховки, о строительстве Главного Туркменского канала, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов.
На основе развития производительных сил растет и культура деревни. Условия труда и быта в деревне все более приближаются к условиям труда и быта в городе.
Широко развернулись строительные работы по сооружению общественных зданий и жилых домов колхозников. Начались работы по перепланировке сел. В дальнейшем новое строительство общественных зданий и жилых домов примет такой размах, что в корне изменит внешний облик деревни.
По мере преодоления противоположности между городом и деревней на основе развития социалистического способа производства будут происходить изменения и в классовой структуре общества, стираться различия между рабочим классом и крестьянством. Эти различия сотрутся в результате дальнейшего сближения двух форм собственности: общенародной (государственной) и кооперативно-колхозной.
Серьезнейшее значение для постепенного сближения двух форм социалистической собственности имеет развитие машинно-тракторных станций. МТС представляют собой государственные предприятия, с помощью которых социалистическое государство осуществляет организационно-хозяйственное руководство колхозами. По мере роста МТС увеличивается удельный вес государственных средств производства, применяемых в сельском хозяйстве. Уже сейчас он весьма значителен: в 1936 г. государству принадлежало 76% основных производственных фондов сельского хозяйства (включая сельскохозяйственные земли, используемые леса и т. д.), а колхозам — 20,3%. При этом особенно важно то, что в руках государства, в МТС, сосредоточены решающие средства производства, важнейшие машины — те механические средства труда, которые Маркс называл «костной и мускульной системой производства».
На базе укрепления государственной, всенародной собственности укрепляется, развивается и кооперативно-колхозная собственность. Как учит партия большевиков, главной задачей социалистического строительства в деревне является дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление сельскохозяйственной артели и умножение общественной собственности колхозов. Вместе с всесторонним развитием производительных сил сельского хозяйства растет и общественное богатство колхозов. Это находит свое выражение прежде всего в росте неделимых фондов колхозов. К 1948 г. неделимые фонды колхозов почти удвоились по сравнению с 1939 г., когда они составляли около 22 млрд. рублей. Рост неделимых фондов обеспечивает расширенное воспроизводство в колхозах, рост общественного хозяйства колхозов.
Благодаря тому что МТС выполняют все большую часть работ, в колхозах высвобождаются рабочие руки, которые могут быть использованы для разностороннего развития общественного колхозного хозяйства, для превращения его в многоотраслевое хозяйство. Наряду с полеводством в колхозах все большее развитие получают животноводство, садоводство, разведение рыбы, пчеловодство, подсобные промыслы по переработке сельскохозяйственных продуктов и т. д. Это дает возможность общественному хозяйству артели в возрастающей степени удовлетворять личные нужды колхозников. Таким образом, вместе с укреплением и развитием сельскохозяйственной артели удельный вес общественного хозяйства все больше возрастает, а значение личного подсобного хозяйства уменьшается.
Когда на основе всестороннего развития сельскохозяйственной артели будет достигнуто изобилие продуктов, у колхозников исчезнет надобность в личном подсобном хозяйстве. Так будут созданы условия для перехода к более высокой ступени общественного производства в деревне — к коммуне. Товарищ Сталин на XVII съезде ВКП(б) говорил:
«Будущая сельскохозяйственная коммуна возникнет тогда, когда на полях и в фермах артели будет обилие зерна, скота, птицы, овощей и всяких других продуктов, когда при артелях заведутся механизированные прачечные, современные кухни-столовые, хлебозаводы и т. д., когда колхозник увидит, что ему выгоднее получать мясо и молоко с фермы, чем заводить свою корову и мелкий скот, когда колхозница увидит, что ей выгоднее обедать в столовой, брать хлеб с хлебозавода и получать стиранное белье из общественной прачечной, чем самой заниматься этим делом. Будущая коммуна возникнет на базе более развитой техники и более развитой артели, на базе обилия продуктов... Процесс перерастания артели в будущую коммуну должен происходить постепенно, по мере того, как все колхозники будут убеждаться в необходимости такого перерастания». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 469.)
Переход от артели к коммуне совершится еще не скоро, это еще не практическая задача сегодняшнего дня. В настоящее время практическая задача состоит во всемерном укреплении и развитии сельскохозяйственной артели. Но укрепление и развитие сельскохозяйственной артели ведет в исторической перспективе к перерастанию ее в высшую форму колхозного движения.
На основе всестороннего развития производительных сил в СССР, хозяйственного и культурного подъема деревни противоположность между городом и деревней, остатки различия между рабочим классом и крестьянством будут уничтожены. Это и будет значить, что построено коммунистическое общество, где отсутствует всякое деление людей на общественные классы, где общество состоит из тружеников, не знающих классового деления.
Уничтожение противоположности между трудом умственным и трудом физическим
К числу глубочайших антагонизмов капитализма, вытекающих из частной собственности на средства производства, относится наряду с противоположностью между городом и деревней противоположность между умственным и физическим трудом. Эксплуататорские классы сделали образование своей монополией, а на долю народных масс остался тяжелый и подневольный физический труд. До настоящего времени в капиталистических государствах среднее, а особенно высшее образование продолжает оставаться привилегией богатых. Даже в тех капиталистических странах, где формально каждый имеет право учиться в средней и высшей школе, рабочие и крестьяне не могут воспользоваться этим правом из-за материальной необеспеченности.
Пагубные последствия противоположности между умственным и физическим трудом, так же как и противоположности между городом и деревней, обнаружили еще социалисты-утописты. Ф. Кампанелла (XVII в.) в своем произведении «Город солнца» призывал к устранению этой противоположности путем усовершенствования воспитания молодежи. Такой путь, разумеется, был утопическим и не мог привести к желательным результатам.
Марксизм-ленинизм открыл реальные пути уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом. Решение этого вопроса составляет часть общей задачи уничтожения классов и эксплуатации человека человеком.
Маркс и Энгельс дали принципиальное, программное решение этого вопроса, которое по необходимости носило еще сравнительно общий характер. В. И. Ленин и особенно И. В. Сталин конкретизировали и развили решение вопроса о путях уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом применительно к практическим задачам строительства коммунизма. В 1935 г. на первом Всесоюзном совещании стахановцев товарищ Сталин говорил:
«Некоторые думают, что уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться путем некоторого культурно-технического поравнения работников умственного и физического труда на базе снижения культурно-технического уровня инженеров и техников, работников умственного труда, до уровня средне-квалифицированных рабочих. Это совершенно неверно. Так могут думать о коммунизме только мелкобуржуазные болтуны. На самом деле уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться лишь на базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 495.)
Строительство коммунистического общества непосредственно связано с подъемом культурно-технического уровня рабочего класса и крестьянства до уровня работников инженерно-технического и агрономического труда. В СССР уже проделана колоссальная работа для решения этой задачи. Октябрьская социалистическая революция ликвидировала монополию эксплуататоров на образование, перед народом впервые в истории были широко открыты двери средней и высшей школы. Право всех граждан СССР на образование закреплено в Сталинской Конституции и обеспечивается государством. Советский народ с успехом и во все возрастающей мере реализует это завоеванное им право. Так, если в 1924 — 1925 гг. в начальных и средних школах СССР обучалось 10 млн. человек, то в 1938 — 1939 гг. обучалось уже 32 млн. человек, а в 1949 г. — 34 млн. человек. Население СССР в возрасте от 9 до 50 лет является поголовно грамотным. С 1949/50 учебного года в Советской стране повсеместно осуществляется всеобщее обязательное семилетнее образование.
В царской России было всего 91 высшее учебное заведение и 112 тыс. студентов. В СССР в 1949 г. имелось 864 высших учебных заведения, обучалось в них 1128 тыс. студентов. Количество студентов в СССР больше, чем во всех европейских странах, вместе взятых. Социальный состав студентов в 1938 г. был следующий: рабочие — 33,9%, служащие — 42,2, крестьяне — 21,6, прочие — 2,2%.
В ближайшие три пятилетки большинство советского народа в возрасте от 18 до 50 лет будет иметь среднее, среднее техническое и десятки миллионов людей — высшее образование. При коммунизме все люди будут образованными. Советское общество идет к этому ускоренными темпами.
В СССР образование получают не только те, кто учится в учебных заведениях, но и те, кто работает на заводах, фабриках, в колхозах. Стахановцы — это люди высокой культуры. Передовые люди из них все более приближаются к уровню инженерно-технических работников. В процессе развития стахановского движения происходит неуклонный подъем культурного и технического уровня рабочих и крестьян до уровня работников инженерного и агрономического труда. Многие советские рабочие и крестьяне имеют среднее образование и занимаются не только физическим, но и умственным трудом, выступают новаторами и творцами, рационализаторами и изобретателями, двигающими вперед технику. В некоторых отраслях советской промышленности, в частности на заводах автомобильной промышленности, каждый третий рабочий является изобретателем и рационализатором.
Грандиозные масштабы развития народного хозяйства СССР требуют непрерывного роста армии высококвалифицированных инженеров, техников и рабочих. Если население нашей страны за период с 1926 по 1939 г. в целом увеличилось на 16%, то число квалифицированных рабочих и специалистов выросло неизмеримо больше. Количество слесарей увеличилось в 3,7 раза, токарей — в 6,8 раза, фрезеровщиков — в 13 раз, трактористов — в 215 раз, инженеров — в 7,7 раза и т. д.
Размах работы Советского государства по поднятию культурно-технического уровня народа обеспечивает постепенное превращение всего советского общества в общество, состоящее из образованных людей, людей высокой культуры. Противоположность между умственным трудом и трудом физическим будет окончательно преодолена в коммунистическом обществе путем дальнейшего подъема народного хозяйства и культуры. Предпосылками этого являются: 1) повышение культурно-технического уровня рабочего класса и крестьянства до уровня работников инженерно-технического и агрономического труда; 2) соединение науки с производством и дальнейшее совершенствование технического базиса промышленности и сельского хозяйства.
При коммунизме производственные процессы во всех отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства будут механизированы и автоматизированы. Применение атомной энергии, фотоэлементов, внедрение электрической энергии во все отрасли производства и т. п. откроет неограниченные возможности роста производительности труда. В связи с этим и сам труд изменится, поднимется на более высокую ступень, неквалифицированный труд окончательно исчезнет.
Адекватная коммунизму, высокоразвитая техника успешно создается уже в настоящее время в СССР, где происходит всесторонний прогресс техники, причем ведущая тенденция состоит в механизации труда и автоматизации производства, в электрификации всех производственных процессов, химизации многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. В Советском Союзе благодаря техническому прогрессу отмирают неквалифицированные профессии, требовавшие от рабочего преимущественно затраты физической энергии. Рождаются новые профессии, требующие высокого культурно-технического уровня работника. Например, в угольной промышленности исчезли коногоны, саночники, тяжелый труд которых описан в дореволюционной литературе. Свыше 40 новых профессий породила механизация добычи угля; среди них — машинист-механик комбайна и угольного струга, машинист врубово-погрузочной машины, машинисты конвейера и буросбоечной машины и т. д.
Всестороннее развитие техники, автоматизация и механизация всех процессов производства приведут при коммунизме к устранению старого разделения труда. Люди будут трудиться в тех отраслях производства, науки и техники, выполнять тот род деятельности, к которому будут чувствовать наибольшее призвание и в котором смогут принести наибольшую пользу обществу. Надо отбросить вульгарное представление, будто марксизм-ленинизм проповедует уничтожение разделения труда вообще. При коммунизме будет своя специализация, следовательно будет и разделение труда, но они будут носить другой характер, чем при капитализме. Разделение труда и специализация будут основаны на высокой технике и не будут носить классового характера, не будут вести к той ограниченности индивидов, которую создает капиталистическое разделение труда. Вместе с тем высокий уровень образования и всесторонность развития людей позволят каждому знать и ряд других областей производства, науки и техники и не только знать, но и применять знания на практике. Уже при социализме передовые рабочие — стахановцы овладевают смежными профессиями, теоретически осмысливают свой опыт, выступают с лекциями, со статьями в печати.
По мере уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом в СССР стираются грани между интеллигенцией, с одной стороны, и рабочими и крестьянами, с другой стороны.
От распределения по труду — к распределению по потребностям
В процессе выполнения основной экономической задачи в СССР создается изобилие предметов потребления и производится систематическое снижение цен. Таким путем создаются условия для все более и более полного удовлетворения растущих потребностей граждан социалистического общества.
Переход к распределению по принципу коммунизма — по потребностям — будет осуществлен не сразу, а постепенно, по мере роста производства в тех или иных отраслях. Раньше всего будет создано изобилие жизненно необходимых для народа предметов потребления.
Опыт построения социализма в СССР дает богатейший материал для теоретического решения вопроса о том, как будет в начальной стадии коммунизма осуществляться распределение. Этот опыт дает возможность уточнить некоторые прежние положения марксизма об осуществлении принципа коммунизма. Товарищ Сталин показал, что на первой фазе коммунизма действует в преобразованном виде закон стоимости, остаются деньги и торговля как важнейшие рычаги развития экономики в руках социалистического государства. Закон стоимости складывается и действует в СССР на основе планового руководства государством всей экономикой страны. Он не выражает более отношений частных, обособленных производителей и эксплуатации. Он уже не выступает как стихийно действующая сила, а сознательно применяется и используется социалистическим государством.
В социалистическом обществе существуют деньги и торговля. Но деньги, как и торговля, выражают здесь принципиально иные общественные отношения, чем при капитализме, они являются орудием социалистического государства в деле организации обмена, распределения, хозрасчета и учета, являются орудием развития социалистического хозяйства. Несомненно, советская социалистическая торговля, всемерно развиваемая и совершенствуемая, явится основной формой, методом снабжения населения и при переходе к коммунизму и при вступлении в коммунизм.
Практически дело можно себе представить примерно следующим образом. Изобилие товаров при переходе от социализма к коммунизму и при вступлении в коммунизм будет столь значительно, а цены на них столь незначительны, что представится возможность каждому все полнее и разностороннее удовлетворять свои потребности, возрастающие потребности культурно развитых людей.
Так марксизм-ленинизм научно отвечает на вопрос о переходе к распределению по потребностям. Этот ответ чужд мелкобуржуазной идиллии, исходящей из фантастических представлений, будто при коммунизме каждый сможет брать из общественных складов что ему угодно, без всякого общественного учета и контроля. Научный, марксистский коммунизм ничего общего не имеет с этим мелкобуржуазным, анархическим представлением о коммунизме.
Лишь во вполне развитом коммунистическом обществе, когда принцип коммунизма «От каждого по способностям, каждому по потребностям» будет осуществлен полностью, надобность в торговле и деньгах отпадет, а общественный учет и контроль будут осуществляться в иных формах.
Переход к коммунизму возможен лишь через всестороннее развертывание и укрепление социалистических принципов хозяйства, через всемерное развитие торговли и укрепление денежной системы, через последовательное проведение социалистического принципа оплаты по труду.
Рост коммунистической сознательности масс как условие перехода к коммунизму
В. И. Ленин в книге «Государство и революция» отмечает, что для перехода к высшей фазе коммунизма, когда общество начнет осуществлять принцип «Каждый по способностям, каждому по потребностям», нужен не только более высокий уровень развития производительных сил, но должны измениться и сами люди, их сознание, их отношение к труду. Коммунизм — это общество самой высокой производительности труда, которая достигается благодаря всестороннему развитию техники и самих производителей, благодаря их сознательному, коммунистическому отношению к труду. Переход от социализма к коммунизму требует широчайшего развертывания работы по коммунистическому воспитанию трудящихся. Без преодоления пережитков капитализма в сознании трудящихся переход к коммунизму был бы невозможен.
Уже теперь, при социализме, в СССР труд стал не только обязанностью, но и делом чести, славы, доблести и геройства. Передовой советский человек не представляет себе, как можно жить и не трудиться. С этой дикостью в СССР уже покончено, и увиливание от работы рассматривается как пережиток капитализма, как позорящее человека поведение. Новое отношение к труду, как к своему личному и общественному долгу, развивается и упрочивается с каждым днем. Труд на общество все более и более становится жизненной потребностью советского человека.
Социалистический труд, превратившийся в дело чести, славы, доблести и геройства, уже содержит в себе начатки коммунистического труда. Передовые люди промышленности, транспорта, сельского хозяйства трудятся не только ради заработка. Для наших передовых рабочих и колхозников — новаторов производства — труд уже не только обязанность, но и любимое дело, в которое они вкладывают свою душу, в котором они проявляют свои способности и таланты. Отношение к труду, как к проявлению своих творческих способностей, возникает уже при социализме и развивается в социалистическом соревновании. Оно станет общим правилом при коммунизме.
Социалистическое соревнование трудящихся является постоянной могучей движущей силой развития социализма, основным методом построения коммунизма. Социалистическое соревнование масс — это не только могучий источник развития производства, ранее никогда невиданный и недоступный буржуазному строю; оно также — одно из важнейших средств воспитания трудящихся в коммунистическом духе. В ходе социалистического соревнования постепенно вырабатывается у советских людей коммунистическое отношение к труду как первейшей жизненной потребности, как первейшей обязанности перед обществом. Партия и правительство морально поддерживают и материально поощряют передовиков производства и постепенно поднимают всю массу до их уровня.
3. Советское государство — главное орудие построения коммунизма
Необходимость всемерного укрепления Советского государства
Рассматривая государство как продукт классового общества и как организацию классового господства, Маркс и Энгельс пришли к выводу о том, что с уничтожением классов, с победой социализма исчезает необходимость в государстве, социалистическое государство отмирает. В своей работе «Анти-Дюринг» Энгельс указывал: «Когда не будет общественных классов, которые нужно держать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда будут устранены вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию... Вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-помалу излишним и прекратится само собою. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не «отменяется», оно отмирает». (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 264, 265.)
Как указал товарищ Сталин, в работах Маркса и Энгельса вопрос об отмирании государства рассматривался еще в общей, абстрактной форме. Формула Энгельса в «Анти-Дюринге» об отмирании государства с победой социализма сохраняет свою силу при одном из двух условий: а) если изучать социалистическое государство лишь с точки зрения внутренних условий развития страны, отвлекаясь для удобства исследования от международной обстановки, или б) если предположить, что социализм победил уже во всех или по крайней мере в большинстве стран и ввиду этого нет больше угрозы нападения извне.
Однако формула Энгельса не могла дать конкретного ответа на вопрос о судьбах государства в условиях победы социализма в одной стране при наличии враждебного капиталистического окружения. В таких условиях, как показал И. В. Сталин, вопрос о судьбах социалистического государства решается по-иному.
Строительство социализма и коммунизма требует всемерного укрепления социалистического государства. Победа социализма в СССР не только не привела к отмиранию государственной власти, но, наоборот, потребовала еще большего укрепления и усовершенствования всего механизма социалистического государства, всей системы его органов. Теоретическое обоснование необходимости усиления социалистического государства и критику оппортунистической недооценки его роли и значения дал товарищ Сталин. Обобщая величайший опыт построения социализма в СССР, И. В. Сталин создал цельное и законченное учение о социалистическом государстве. В условиях победы социализма в одной стране является незыблемым законом, что государство не только не отмирает, а, наоборот, всемерно укрепляется. Без пролетарского государства невозможно построение социализма, невозможно его существование и развитие. Более того, государство сохранится и тогда, когда полностью будут уничтожены все общественные классы и осуществится переход к коммунизму, если к тому времени коммунизм еще не победит в международном масштабе.
Сохранится ли в СССР государство также и в период коммунизма? На этот вопрос товарищ Сталин ответил:
«Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне, причем понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены, сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.
Нет, не сохранится и отомрет, если капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 606.)
Это гениальное открытие товарища Сталина имеет решающее значение и для обоснования возможности построения коммунизма в одной стране. С победой социализма в СССР перед партией большевиков и советским народом встал вопрос о перспективах дальнейшего движения вперед, к коммунизму. Ленинско-сталинская теория о возможности построения социализма в одной стране была уже подтверждена практикой, осуществлена на деле. Однако отсюда еще не вытекало само собою заключение о возможности построения в одной стране также и высшей фазы коммунизма, ибо этому противоречило представление о коммунизме как обществе безгосударственном. Товарищ Сталин устранил это противоречие, доказав, что и при коммунизме может и должно — при наличии капиталистического окружения — сохраниться государство.
Товарищ Сталин теоретически обосновал возможность построения полного коммунистического общества в одной стране, особенно в такой стране, как СССР. Он показал, что СССР имеет все необходимое для построения коммунизма: самый передовой общественный экономический строй, большевистскую партию и социалистическое государство, направляющие развитие страны к коммунизму, неисчерпаемые природные богатства, необходимые для могучего роста производительных сил.
Усиление социалистического государства, руководимого марксистско-ленинской партией, является необходимым условием построения коммунизма. Советское социалистическое государство представляет главное орудие, при помощи которого возможно построить коммунистическое общество и отстоять его от внешних врагов.
Функции социалистического государства при переходе от социализма к коммунизму
В условиях социализма все функции Советского государства имеют своей целью обеспечить строительство коммунизма. Функция военной защиты страны от нападения извне служит охране мирного труда советского народа, строящего коммунизм. Она обеспечивает необходимые для строительства коммунизма внешние условия — сохранение мира.
Из самой природы социалистического общества, в котором нет классов, заинтересованных в войнах, вытекает мирная политика Советского государства.
Если внешняя функция социалистического государства призвана обеспечивать защиту страны и отстаивать дело мира, что является необходимым условием строительства коммунизма, то его внутренние функции служат разрешению важнейших задач перехода от социализма к коммунизму.
Хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная работа органов государства, являющаяся главной функцией Советского государства внутри страны в данной фазе его развития, призвана обеспечить решение двух коренных задач строительства коммунизма: создание материальной базы коммунизма и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей.
Своей хозяйственно-организаторской работой Советское государство обеспечивает всестороннее развитие производительных сил, решение основной экономической задачи СССР. Осуществляя социалистический принцип распределения по труду, проводя политику материального поощрения хорошо работающих, оно стимулирует рост производства, повышение культурно-технического уровня работников промышленности и сельского хозяйства, а также их воспитание в духе коммунизма.
Культурно-воспитательная работа Советского государства обеспечивает создание духовных предпосылок для перехода от социализма к коммунизму. Коммунистическое воспитание масс является ныне одним из решающих условий движения СССР вперед. «...Неуклонное повышение политического и культурного уровня народа составляет жизненную потребность советского строя», — указывал А. А. Жданов. (А. А. Жданов, 29-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, Госполитиздат, 1946, стр. 16.) Эту потребность и удовлетворяет культурно-воспитательная работа органов Советского государства.
Характеризуя значение государства при социализме, Ленин и Сталин особенно подчеркивают необходимость охраны общественной собственности на средства производства, поддержания норм права, устанавливающих обязанность для всех работоспособных членов общества трудиться и их право получать за это по своему труду.
«До тех пор, пока наступит «высшая» фаза коммунизма, — указывал Ленин, — социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления...». (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 441.)
Большое значение для построения коммунизма имеет функция охраны социалистической собственности от воров и расхитителей. Советское государство стоит на страже общественной собственности как священной и неприкосновенной основы советского строя. Охраняя и развивая социалистическую собственность в ее обеих формах — государственной и кооперативно-колхозной, — социалистическое государство обеспечивает укрепление устоев социализма и тем самым создает необходимые предпосылки для перехода к коммунизму.
Государство отомрет только в условиях развитого коммунистического общества, победившего в международном масштабе. Организационно-хозяйственная и культурно-воспитательная функция социалистического государства, всесторонне развившаяся, перестанет быть функцией государства и превратится в административную, хозяйственную и воспитательную функцию самого общества. Это означает, что, поскольку не будет никаких классов и полностью сотрутся все классовые различия, управление обществом потеряет политический характер. Но до тех пор, пока коммунизм строится и побеждает в одной стране, пока остается враждебное ему капиталистическое окружение, законом строительства коммунизма является постоянное укрепление социалистического государства. «...Если хотите действительно построить коммунизм, то всемерно крепите социалистическое государство», — так выразил М. И. Калинин важнейший практический вывод из теории социалистического государства, развитой товарищем Сталиным. («XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет», 1939, стр. 397.)
Идеи Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина о двух фазах коммунистического общества ныне проверены историческим опытом, практикой социалистического строительства в СССР. Руководствуясь этими идеями, трудящиеся СССР добились всемирно-исторических успехов, осуществили первую фазу коммунистического общества — социализм.
Путь, пройденный СССР от победы Великой Октябрьской социалистической революции до построения социализма и вступления в полосу постепенного перехода к коммунизму, — трудный путь, но вместе с тем это величественный, победоносный путь невиданного в истории прогресса, освобождения человека от всякого гнета и эксплуатации.
Трудящиеся СССР под руководством партии большевиков и своих гениальных вождей Ленина и Сталина проложили всему человечеству путь к коммунизму, открыли новую историческую эру — эру коммунизма. Великий опыт победоносного строительства первой фазы коммунизма в СССР вооружает трудящихся всех стран в их борьбе за социализм. Страна победившего социализма указывает путь развития народам всего мира. В наш век все дороги ведут к коммунизму.
Глава семнадцатая. Движущие силы развития социалистического общества
Движущие силы развития общества — это наиболее глубокие причины, приводящие в движение массы людей, общественные классы, целые народы. Главными и определяющими силами развития общества являются изменения способа производства. Однако эти общие движущие силы в разных общественно-экономических формациях проявляются по-особому. На базе каждого исторически определенного способа производства рождаются свои особые, свойственные только данному обществу движущие силы общественного развития. В антагонистических общественных формациях, а также в переходный период от капитализма к социализму движущие силы развития выражаются в борьбе классов. Фридрих Энгельс указывал, что исторический материализм в противовес идеализму «конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий находит в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда распадении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1948, стр. 92.) В социалистическом обществе, где уничтожены эксплуататорские классы и где нет больше столкновений классов, развитие осуществляется ускоренно под воздействием новых движущих сил, коренящихся в социалистическом способе производства.
Развивая учение Маркса, Энгельса и Ленина, опираясь на опыт сложившегося и победившего социалистического общества, товарищ Сталин дал теорию развития социалистического общества, вскрыл его закономерности и открыл новые движущие силы развития, присущие только этому обществу.
1. Социалистическая система хозяйства — экономический фундамент советского общества
Новые движущие силы развития производства
В главе 4 было сказано, что каждый способ производства создает определенные, присущие ему стимулы к развитию производства. Так, капитализм некогда открыл новые, более широкие возможности и создал более могучие стимулы развития производительных сил, чем феодализм. Движущие силы развития капиталистического общества следующие: погоня капиталистов за прибылью, за производством прибавочной стоимости, ненасытная жажда накопления капитала, конкуренция, революционная борьба рабочего класса против гнета капитала. Эти стимулы содействовали более быстрому, чем при феодализме, развитию производительных сил. Как и во всех антагонистических формациях общества, при капитализме это развитие осуществлялось и осуществляется за счет эксплуатации и истощения главной производительной силы — трудящихся. Характеризуя последствия промышленного переворота XVIII в. в Англии, Фридрих Энгельс писал: «Это революционизирование английской промышленности есть базис всех современных английских отношений, движущая сила всего социального движения. Его первым следствием было уже указанное выше установление господства интереса (личного интереса. — Ред.) над человеком. Интерес овладел новосозданными промышленными силами и использовал их для своих целей; эти принадлежащие по праву человечеству силы стали, под воздействием частной собственности, монополией немногих богатых капиталистов и средством порабощения масс ... Собственность, вещь, стала властителем мира». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. II, стр. 364.) Но, как ни низменны движущие силы и движущие мотивы капиталистического производства, они толкали его вперед более ускоренно, чем во все предшествовавшие эпохи.
Капиталистические формы и мотивы производства были прогрессивными лишь относительно, по сравнению с феодализмом; ныне они давно уже исчерпали себя и превратились в тормоз общественного развития. Пришедший в СССР на смену капитализму социалистический способ производства, для которого характерно полное соответствие производственных отношений современному уровню и характеру производительных сил, открыл безграничные возможности и новые стимулы развития производства и всего общества в целом. Здесь производители материальных благ воссоединены со средствами производства, средства производства находятся в социалистической собственности производителей материальных благ, трудящихся, производство существует для общества, для удовлетворения потребностей народных масс. В силу этого при социализме исключены кризисы перепроизводства и связанные с ними нелепости. Социалистический способ производства обеспечивает непрерывное расширенное воспроизводство, причем производительные силы развиваются темпами, значительно превосходящими темпы развития, какие наблюдались за всю историю капитализма. Темп развития социалистической промышленности превосходит самые высокие темпы развития капиталистической промышленности в несколько раз. Ежегодное увеличение продукции капиталистической промышленности никогда не превышало 6 — 7%. Социалистическая промышленность в период предвоенных сталинских пятилеток давала ежегодный прирост продукции в 20,0%, а в послевоенную пятилетку — даже 22,5%. За последние 20 лет в цитадели капитализма, в США, не только не пострадавших от двух мировых войн, а необычайно нажившихся на них, средний годовой прирост производства составлял лишь 2%, а в СССР за это же время ежегодный прирост производства равнялся 20%. Эти цифры показывают огромное превосходство социалистической системы хозяйства по сравнению с капиталистической.
Полное соответствие социалистических производственных отношений современным производительным силам является могущественным источником развития производительных сил, а следовательно, и всего общества, ибо развитие производительных сил в последнем счете определяет развитие всего общества в целом. Социалистический способ производства открыл поистине безграничные возможности развития производительных сил.
Социалистический способ производства, основанный на общественной собственности на средства производства, на отсутствии эксплуатации человека человеком, создал новые, невиданные в истории стимулы к труду, к совершенствованию орудий производства, к развитию производительных сил. При социализме побудительным стимулом развития производства является не погоня за прибылью, а прежде всего «то обстоятельство, что фабрики и заводы принадлежат у нас всему народу, а не капиталистам, что фабриками и заводами управляют не ставленники капиталистов, а представители рабочего класса. Сознание того, что рабочие работают не на капиталиста, а на своё собственное государство, на свой собственный класс, — это сознание является громадной двигательной силой в деле развития и усовершенствования нашей промышленности». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 119.)
Частная собственность капиталистов и стремление их к наживе порождают конкуренцию и анархию производства, которые неизбежно приводят к экономическим кризисам, к периодическим катастрофам. Социалистический способ производства, работа трудящихся на себя порождают социалистическое соревнование — мощную и неиссякаемую движущую силу развития производства, обеспечивающую производительность труда более высокую, чем при капитализме.
Социалистическое соревнование и его высшая форма — стахановское движение — означает товарищескую взаимопомощь трудящихся, их сознательное отношение к труду. Социалистическое соревнование способствует расцвету народных талантов, творческой трудовой инициативы миллионов людей; оно является могучей движущей силой развития социалистического производства, а следовательно и всего социалистического общества.
Если при капитализме рост производительных сил сопровождается обнищанием трудящихся, то в социалистическом обществе развитие производства означает неуклонный подъем материального благосостояния и культуры трудящихся. Непрерывный рост материального благосостояния и культурно-технического уровня народных масс — это закон социализма. В этом законе заложен самый мощный источник непрерывного, неодолимого поступательного развития производства, а вместе с тем и всего социалистического общества в целом.
Капитализму свойственно противоречие между стремлением к безграничному росту производства и ограниченными рамками потребления масс. При капитализме, как отмечает товарищ Сталин, «рост потребления масс (покупательной способности) никогда не поспевает за ростом производства и всё время отстаёт от него, то и дело обрекая производство на кризисы». (И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 322 — 323.) В противоположность капитализму социалистическая система хозяйства раскрывает безграничный простор для роста и удовлетворения потребностей трудящихся. Товарищ Сталин указывал на XVI съезде партии: «...у нас, в СССР, рост потребления (покупательной способности) масс всё время обгоняет рост производства, толкая его вперёд». (Там же, стр. 322.)
Ускоренному развитию производительных сил СССР способствует также плановое ведение народного хозяйства. Социалистический способ производства впервые в истории открыл возможность контролировать все народное хозяйство, направлять его развитие в интересах всего общества. Социалистический план, сталинские пятилетки, объединяющие, организующие и направляющие усилия миллионов к достижению определенной цели, являются огромной движущей силой развития социалистического производства и социалистического общества в целом.
Связь между развитием экономического базиса социалистического общества и его надстройкой
Товарищ Сталин указывает, что социологические законы имеют «отношение ко всем фазам общественного развития». (И. В. Сталин, Соч., т. 9, стр. 165.) Установленный историческим материализмом закон об определяющей роли способа производства в развитии общества относится именно к таким общим социологическим законам. Как и во всех фазах развития общества, при социализме развитие общества в конечном счете также определяется развитием производительных сил. Могучее развитие производительных сил, осуществляемое ныне в СССР, является материальной основой перехода от социализма к коммунизму. Структура социалистического общества, природа его классов, наций, а также взаимоотношения между классами социалистического общества и между социалистическими нациями определяются социалистическим способом производства. Социалистическая система хозяйства является фундаментом, базисом социалистического общества, а социалистическое государство, советское право, господствующее в СССР социалистическое общественное сознание (коммунистическая мораль, эстетические взгляды, вся советская социалистическая идеология в целом) являются надстройкой над социалистическим экономическим базисом.
Правда, социалистическое государство — это политическая надстройка особого рода, играющая в отношении социалистической экономики роль, отличающуюся от той роли, которую играет буржуазное государство в отношении капиталистической экономики. Социалистическое государство выступает в качестве решающего орудия созидания и развития экономического базиса социализма. Но все же и Советское государство остается надстройкой над экономическим базисом. Без адекватного ему экономического фундамента социалистическое государство не могло бы длительно существовать.
В докладе об итогах цервой пятилетки, в 1933 г., товарищ Сталин говорил, что основные задачи пятилетнего плана диктовались «соображением о том, что Советская власть не может долго держаться на базе отсталой промышленности, что только современная крупная промышленность, не только не уступающая, но могущая со временем превзойти промышленность капиталистических стран, — может служить действительным и надежным фундаментом для Советской власти.
Соображением о том, что Советская власть не может долго базироваться на двух противоположных основах, на крупной социалистической промышленности, которая уничтожает капиталистические элементы, и на мелком единоличном крестьянском хозяйстве, которое порождает капиталистические элементы.
Соображением о том, что пока не подведена под сельское хозяйство база крупного производства, пока не объединены мелкие крестьянские хозяйства в крупные коллективные хозяйства, — опасность восстановления капитализма в СССР является самой реальной опасностью из всех возможных опасностей». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 370.)
В результате социалистической революции, в результате выполнения первой сталинской пятилетки (1928 — 1933 гг.), в результате социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства был создан прочный экономический фундамент социалистического общества, социалистического государства.
Вместе с изменением экономического базиса, с ликвидацией капиталистических элементов города и деревни изменилась и классовая структура советского общества. В соответствии с новой ступенью развития советского общества изменились и основные задачи, стоящие перед социалистическим государством, изменились его функции и его форма.
В январе 1934 г. в докладе на XVII съезде ВКП(б) товарищ Сталин, подводя итоги деятельности коммунистической партии по руководству строительством социалистического общества, сказал: «Факты говорят, что мы уже построили фундамент социалистического общества в СССР и нам остается лишь увенчать его надстройками, — дело, несомненно, более легкое, чем построение фундамента социалистического общества». (Там же, стр. 451.)
Это увенчание социалистического экономического фундамента надстройками выразилось в дальнейшей демократизации Советского социалистического государства, в принятии Сталинской Конституции, в развертывании культурной революции. На основе полной победы социалистической системы хозяйства раскрылись небывалые возможности для народного творчества во всех областях жизни, для расцвета социалистической культуры народа, для развития советского искусства, литературы.
В ходе строительства социализма был полностью ликвидирован капиталистический базис и построен новый — социалистический. «Соответственно с этим, — пишет товарищ Сталин, — была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и иные учреждения новыми, социалистическими». (И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 6.)
Такова связь между развитием экономических основ социалистического общества и его политической, юридической и идеологической надстройкой.
2. Роль политической надстройки в развитии советского общества
Соотношение между политикой и экономикой в советском обществе
Если и в условиях социализма в конечном счете развитие общества обусловливается развитием производительных сил, способом производства, то как же следует понимать важнейшее положение марксизма-ленинизма о первенстве политики над экономикой? Не противоречит ли это положение закону об определяющей роли способа производства?
Положение о первенстве политики над экономикой в условиях диктатуры рабочего класса опирается на то общее положение марксизма, согласно которому из трех форм классовой борьбы пролетариата (политической, экономической и теоретической) политическая борьба является главной формой, и ей должны быть подчинены все остальные формы классовой борьбы. Без разрешения политических задач, без завоевания диктатуры рабочего класса нельзя добиться экономического освобождения трудящихся, уничтожения эксплуатации.
Так как с завоеванием политической власти рабочим классом классовая борьба не только не прекращается, а, наоборот, обостряется, принимая новые формы, то политика коммунистической партии и пролетарского государства не может не иметь первенства перед экономикой. Эта политика решает исход борьбы между только что возникшим и в первое время еще не окрепшим социализмом и свергнутым, но не добитым капитализмом, возрождающимся на базе простого товарного хозяйства и опирающимся на громадную силу империализма за рубежом. Первенство политики над экономикой означает, что рабочий класс, стоящий у власти, должен подходить к решению всех экономических и идеологических задач с точки зрения политической, с точки зрения упрочения своей власти как решающего условия и главного орудия победы социализма.
Социалистическая экономика для своего поступательного развития нуждается в научно обоснованной хозяйственной политике. Без единого общегосударственного, общенародного планирования и управления социалистическое хозяйство существовать и развиваться не может. Возникнув в ходе социалистической революции, социалистическое государство выполняет организующую, мобилизующую, преобразующую и направляющую роль в развитии экономики и всего общественного строя. Оно выступает как могущественная движущая сила развития общества в период перехода от капитализма к социализму и от социализма к коммунизму. Диктатура рабочего класса, руководимая коммунистической партией, выступает как сила, обеспечивающая своей правильной, научно обоснованной политикой победу социализма над капитализмом и строительство коммунизма.
Экономическим содержанием переходного периода от капитализма к социализму является борьба между родившимся, но в первое время еще не окрепшим социализмом и свергнутым, но не добитым капитализмом. Эта борьба происходила в СССР и происходит в странах народной демократии по принципу «кто — кого», борьба не на жизнь, а на смерть. В этой борьбе рабочий класс опирается на мощь своего государства — диктатуры пролетариата, на дальновидную политику коммунистической партии.
Самотеком, стихийно, без непримиримой классовой борьбы с буржуазией, с капиталистическими элементами, без непримиримой борьбы с агентурой буржуазии — анархо-синдикалистами, троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами, националистами и прочими врагами рабочего класса — социализм в СССР не мог победить.
От правильности политической линии коммунистической партии и Советского государства зависела судьба социализма в СССР. В ходе строительства социализма не было ни одного вопроса, который не являлся бы предметом самой острой борьбы между партией Ленина — Сталина и ее врагами. Политика пролетариата в отношении крестьянства, новая экономическая политика (нэп), вопрос о профсоюзах, о единстве партии, политика индустриализации страны, темпы индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства и ликвидация кулачества как класса, национальная политика, вопрос о самой возможности победы социализма в нашей стране — по всем этим вопросам шла непримиримая борьба большевистской партии и Советского государства с врагами социализма, с реставраторами капитализма.
Коммунистической партии под руководством ее великих вождей Ленина и Сталина пришлось вести борьбу на два фронта: против троцкистов и бухаринцев. Обе линии врагов народа — и троцкистов-зиновьевцев и бухаринцев — вели к реставрации капитализма.
Марксизм-ленинизм учит, что победа никогда не приходит сама. Ее надо завоевать. После того как возникли объективные условия, решающее значение приобретает субъективный фактор, сознательность рабочего класса, широких народных масс в целом, идеологическая и организаторская роль коммунистической партии и социалистического государства, вооружающих массы ясностью цели и перспективы, вносящих организованность и единство в действия масс, уверенность в победе.
Политическое руководство коммунистической партии и ее вождей Ленина и Сталина всегда опиралось на точный и трезвый учет объективной обстановки, на знание закономерностей общественного развития и смело, решительно, революционно использовало все возможности для достижения победы социализма, для решения назревших задач, подготовленных ходом развития материальной жизни общества.
Разрабатывая и осуществляя политику социалистической индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, ликвидации кулачества как класса, коммунистическая партия, товарищ Сталин теоретически и практически решали вопрос о связи политики и экономики. Проведение генеральной политической линии партии на социалистическую индустриализацию страны, мобилизация на ее выполнение всех сил народа обеспечили победу социализма в СССР, превращение страны из экономически отсталой, аграрной в могучую индустриальную державу. Социалистическая индустриализация страны послужила материальной основой коллективизации крестьянского хозяйства, победы социализма в сельском хозяйстве. Сплошная коллективизация крестьянского хозяйства стала экономической основой такого важнейшего политического мероприятия, как ликвидация кулачества как класса.
Без предварительной подготовки материальных условий нельзя было ликвидировать самый многочисленный эксплуататорский класс — кулачество. «Наступление на кулачество есть серьёзное дело, — говорил товарищ Сталин в декабре 1929 г. в речи на конференции аграрников-марксистов. — Его нельзя смешивать с декламацией против кулачества. Его нельзя также смешивать с политикой царапанья с кулачеством, которую усиленно навязывала партии зиновьевско-троцкистская оппозиция. Наступать на кулачество — это значит сломить кулачество и ликвидировать его, как класс. Вне этих целей наступление есть декламация, царапанье, пустозвонство, всё что угодно, только не настоящее большевистское наступление. Наступать на кулачество — это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству, но ударить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться на ноги. Это и называется у нас, большевиков, настоящим наступлением. Могли ли мы предпринять лет пять или года три назад такое наступление с расчётом на успех? Нет, не могли.
...Ну, а теперь? Как теперь обстоит дело? Теперь у нас имеется достаточная материальная база для того, чтобы ударить по кулачеству, сломить его сопротивление, ликвидировать его, как класс, и заменить его производство производством колхозов и совхозов». (И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 167 — 168.)
Решающее значение правильной, марксистско-ленинской политики большевистской партии и социалистического государства для победы коммунизма доказано всем опытом строительства социализма в СССР.
Опираясь на созданную в виде колхозов и совхозов материальную основу, на союз рабочего класса и крестьянства под руководством рабочего класса, коммунистическая партия и Советское государство мобилизовали рабочий класс и трудящееся крестьянство против кулачества и в открытой классовой борьбе разгромили его, ликвидировали как класс.
Какое значение для победы социализма имеет политика, политическая борьба, революционная бдительность, показывают факты раскрытия контрреволюционного троцкистско-зиновьевско-бухаринского заговора в 1936 — 1937 гг. в СССР, раскрытие реакционных фашистских заговоров против государств народной демократии в Чехословакии (февраль 1948 г.), в Венгрии (дело Миндсенти, затем дело Райка), в Болгарии (дело Николы Петкова, затем Трайчо Костова и Ко). Все эти факты говорят о том, что диктатура рабочего класса имеет решающее значение для победы социализма, что ее карательные органы и органы разведки, революционная бдительность жизненно необходимы трудящимся для победы над капитализмом.
Своей политикой коммунистическая партия осуществляет сознательное руководство социалистическим обществом. Эта политика является жизненной основой социалистического общества, потому что она опирается на потребности развития материальной жизни советского общества и обеспечивает его неуклонное поступательное развитие.
Таким образом, потребности материальной жизни общества являются решающей силой общественного развития; они определяют содержание и направление политики коммунистической партии и Советского государства. Но политика коммунистической партии и социалистического государства не есть пассивное отражение условий материальной жизни, она является активной организующей, направляющей, движущей силой развития общества. (См. И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 104.)
В своей деятельности, в своей политике коммунистическая партия опирается на законы и движущие силы развития советского общества, на реальные возможности, рождаемые новым, социалистическим общественным строем, на активность и творческие силы миллионов трудящихся. Партия Ленина — Сталина всегда учитывала и учитывает могучую мобилизующую, организующую и преобразующую роль передовых общественных идей — идей марксизма-ленинизма, силу и значение передовых политических учреждений, прежде всего Советского государства и самой партии. Величие деятельности коммунистической партии состоит в том, что она постоянно пробуждает и организует активность миллионов строителей социализма, ставит перед ними великую цель, рождающую великую энергию.
Подводя итоги первой пятилетки, осуществленной за 4 года и 3 месяца, товарищ Сталин в 1933 г. говорил:
«Где те основные силы, которые обеспечили нам эту историческую победу, несмотря ни на что?
Это, прежде всего, активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива миллионных масс рабочих и колхозников, развивших вместе с инженерно-техническими силами колоссальную энергию по разворачиванию социалистического соревнования и ударничества. Не может быть сомнения, что без этого обстоятельства мы не могли бы добиться цели, не могли бы двинуться вперед ни на шаг.
Это, во-вторых, твердое руководство партии и правительства, звавших массы вперед и преодолевавших все и всякие трудности на пути к цели.
Это, наконец, особые достоинства и преимущества советской системы хозяйства, таящей в себе колоссальные возможности, необходимые для преодоления всех и всяких трудностей.
Таковы три основные силы, определившие историческую победу СССР». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 396.)
Итак, достоинства и преимущества социалистической системы, т. е. социалистического способа производства, творческая активность народных масс, работающих не на эксплуататоров, а на себя, их социалистическое соревнование и, наконец, руководство коммунистической партии и Советского государства, мобилизующая, организующая, ведущая и направляющая роль сталинской политики партии — вот главные движущие силы, обеспечившие исторические победы социализма.
3. Морально-политическое единство, дружба народов CCCP, советский патриотизм, критика и самокритика как движущие силы советского общества
Морально-политическое единство советского общества — движущая сила его развития
В результате полной победы социализма в СССР, на базе социалистического способа производства родились и развиваются такие движущие силы советского общества, как морально-политическое единство, дружба народов и советский патриотизм. Основной закономерностью и движущей силой развития антагонистических классовых обществ является борьба классов. Борьба пролетариата и крестьянства против господства буржуазии и помещиков потрясает ныне все здание капиталистического общества. Все попытки примирить классы буржуазного общества, затушить классовую борьбу неизбежно терпели и терпят крах. Проповедь идеологов буржуазии, в частности правых социалистов, о классовом мире, о единстве интересов буржуазии и пролетариата — это обман. Интересы эксплуататоров и эксплуатируемых непримиримы.
Только в социалистическом обществе, где навсегда уничтожены эксплуатация человека человеком и эксплуататорские классы, впервые возникло морально-политическое единство общества. «Особенность советского общества нынешнего времени, в отличие от любого капиталистического общества, состоит в том, — говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, — что в нем нет больше антагонистических, враждебных классов, эксплоататорские классы ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества. В то время как капиталистическое общество раздирается непримиримыми противоречиями между рабочими и капиталистами, между крестьянами и помещиками, что ведет к неустойчивости его внутреннего положения, советское общество, освобожденное от ига эксплоатации, не знает таких противоречий, свободно от классовых столкновений и представляет картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции. На основе этой общности и развернулись такие движущие силы, как морально-политическое единство советского общества, дружба народов СССР, советский патриотизм». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 589.)
Морально-политическое единство советского общества базируется на том, что в СССР ликвидированы эксплуатация человека человеком и эксплуататорские классы, что жизнь рабочего класса, колхозного крестьянства и социалистической интеллигенции основана на социалистическом способе производства. В отличие от частной собственности на средства производства, разъединяющей людей и порождающей социальное угнетение, общественная социалистическая собственность объединяет и связывает воедино все слои советского общества: рабочих, крестьян, советскую интеллигенцию.
Морально-политическое единство советского общества означает общность экономических и политических интересов всех социальных групп, из которых состоит советское общество, и осознание ими этой общности интересов, единый моральный, духовный облик рабочих, крестьян и интеллигенции. И рабочий класс, и крестьянство, и советская интеллигенция заинтересованы в победе коммунизма, в укреплении Советского социалистического государства, которое выражает интересы всего советского народа.
Морально-политическое единство советского общества — прямой результат полной победы социалистических производственных отношений, отношений товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи свободных от эксплуатации трудящихся.
Ни о каком морально-политическом единстве не может быть и речи в капиталистическом обществе. Даже в условиях советского строя, пока рабочие и крестьяне еще являлись носителями различных способов производства, а интеллигенция в значительной своей части была старой, буржуазной, не могло быть морально-политического единства, хотя и существовал тесный союз рабочего класса и крестьянства, зародыш будущего морально-политического единства. Морально-политическое единство общества установилось тогда, когда был создан вместо капиталистического базиса социалистический базис, когда все социальные группы СССР стали социалистическими, когда интересы всего народа оказались тесно связанными с успехами развития социалистического способа производства.
Морально-политическое единство советского общества возникло не самотеком, не стихийно. Оно выковано под руководством большевистской партии, в ходе строительства социализма, в совместной борьбе рабочих, крестьян и советской интеллигенции с внешними и внутренними врагами. Необходимым условием морально-политического единства советского общества явилась ликвидация эксплуататорских классов в СССР, разгром контрреволюционных, враждебных народу групп — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, кондратьевцев, националистов разных мастей. Без ликвидации эксплуатации человека человеком, без разгрома буржуазных и мелкобуржуазных групп, без утверждения социалистической собственности на средства производства, без утверждения безраздельного господства советской социалистической идеологии не могло оформиться и укрепиться морально-политическое единство советского общества.
Высшим выражением морально-политического единства советского общества является то, что руководящей силой государства и всего советского народа является коммунистическая партия, политику которой поддерживают все трудящиеся СССР, как свою собственную политику. Вождь коммунистической партии Иосиф Виссарионович Сталин является вождем народа, олицетворением его морально-политического единства.
Коммунистическая партия скрепляет, организует и объединяет многомиллионный народ, дает ему единство цели, ясное сознание общности коренных интересов. Непререкаемый авторитет коммунистической партии в массах завоеван ею в многочисленных битвах с врагами народа, является результатом успешного, мудрого, дальновидного руководства строительством социализма, беззаветного служения народу. Правильность ленинско-сталинской политики коммунистической партии многократно проверена и доказана практикой, жизнью. Эта политика увенчалась великой победой социализма.
Сталинская Конституция выражает и закрепляет морально-политическое единство советского общества, руководящую роль рабочего класса в советском обществе. Являясь политическим и идейным знаменем морально-политического единства советского общества, Сталинская Конституция вместе с тем служит законодательной основой для дальнейшего укрепления этого единства. Если закономерностью развития капиталистического общества является нарастание, углубление и обострение его противоречий и антагонизмов, ведущих его к неизбежной гибели, то закономерностью социалистического общества является развитие его морально-политического единства. Это единство, уходящее своими корнями в экономическую основу нашего общества, в социалистический способ производства, укрепляется и углубляется вместе с его развитием, а также в результате воспитательной и организующей деятельности коммунистической партии.
Морально-политическое единство не есть нечто застывшее, раз навсегда данное. Оно год от года крепнет, становится все более глубоким. По мере преодоления противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, по мере стирания остатков граней и противоречий между существующими социальными группами, по мере преодоления пережитков капитализма в сознании трудящихся морально-политическое единство советского общества неуклонно крепнет и развивается, советское социалистическое общество становится все более монолитным.
Морально-политическое единство является движущей силой развития социалистического общества, оно придает обществу небывалую крепость и мощь, так как дает всему народу возможность действовать дружно, организованно, сплоченно, а не вразброд. Все задачи хозяйственного строительства советский народ решает успешно потому, что он един, не расколот непримиримыми, антагонистическими противоречиями. Десятки миллионов людей, объединенных общими интересами, общими целями, действующих в одном направлении, под руководством коммунистической партии и Советского государства, — это величайшая, неодолимая сила. Организованность, единство, сотрудничество десятков миллионов людей рождает новую производительную силу, далеко превышающую простую сумму индивидуальных сил этих миллионов, подобно тому как кооперация труда рождает новую производительную силу.
В товарно-капиталистическом обществе, расколотом на враждебные классы, где господствует анархия производства, каждый действует за себя, на свой риск и страх, цели индивидов взаимно сталкиваются, противоречат друг другу. В результате каждый достигает не того, к чему стремился, а часто прямо противоположных результатов. Частная собственность разъединяет людей, ставит их во враждебные отношения друг к другу. Даже рабочие при капитализме заражены не в малой степени буржуазной психологией индивидуализма, взаимной конкуренции и лишь в ходе длительной классовой борьбы под руководством коммунистической партии осознают общность своих классовых интересов.
В условиях социализма все слои общества стремятся к общей великой цели — обеспечить дальнейший расцвет социалистического хозяйства, социалистического государства и социалистической культуры, достигнуть в кратчайшие исторические сроки обилия материальных и духовных благ и тем самым осуществить постепенный переход к коммунизму. Морально-политическое единство ускоряет движение советского общества к коммунизму.
Дружба народов СССР — движущая сила развития советского общества
Одним из важнейших устоев морально-политического единства советского общества является дружба народов СССР. Капитализм основан не только на эксплуатации одного класса другим, но и на национальном гнете. Капиталистическое общество неизбежно ослабляется, подрывается изнутри не только классовой борьбой, но и национальными противоречиями: национально-колониальным гнетом, межнациональной грызней, враждой, организуемой и разжигаемой эксплуататорскими классами. В противоположность капиталистическому строю, разъединяющему народы, строящему отношения между народами и нациями на неравенстве и угнетении, социализм обеспечивает братскую дружбу и полное равноправие всех народов, больших и малых.
Освобождение народов от национального гнета, от цепей империализма, достижение национальной свободы и полного равноправия наций возможно лишь на почве диктатуры рабочего класса, на почве социалистического способа производства, социалистических производственных отношений — товарищеского сотрудничества и взаимопомощи.
СССР перед всем миром продемонстрировал, как надо разрешать национальный вопрос. В результате мудрой ленинско-сталинской национальной политики, построенной на принципе пролетарского интернационализма, в Советском Союзе было ликвидировано политическое, экономическое и культурное неравенство между нациями, существовавшее в царской России. Русский народ во главе с русским рабочим классом оказал и оказывает бескорыстную и всестороннюю экономическую, политическую и культурную помощь всем народам СССР в строительстве и развитии социалистической промышленности, национальной социалистической государственности, национальной по форме, социалистической по своему содержанию культуры. Благодаря советскому социалистическому строю многие из народов СССР — узбеки, таджики, киргизы, туркмены, казахи и другие — совершили великий исторический скачок от допотопного омача к трактору, от серпа и косы к комбайну, от походной кузницы к крупнейшим машиностроительным заводам, от примитивной прялки и ручного ткацкого станка к текстильным комбинатам, основанным на современной первоклассной технике, от кочевой кибитки и юрты к современным городам с широкими проспектами, с могучими очагами современной социалистической культуры — библиотеками, академиями наук, вузами, техникумами, драматическими и оперными театрами.
Народы среднеазиатских советских республик, а также азербайджанцы, татары, башкиры, буряты и многие другие благодаря дружбе и сотрудничеству, благодаря бескорыстной социалистической помощи русского народа смогли в кратчайший исторический срок — в два десятилетия — пройти такое историческое расстояние, которое другие народы проходили в столетия. Вместе со всеми народами СССР народы восточных советских республик по своему экономическому и политическому развитию, а также по типу своей культуры обогнали так называемые «цивилизованные» народы Западной Европы и Америки на целую историческую эпоху.
В условиях капитализма эти народы были бы обречены на тяжелый национальный гнет, эксплуатацию, ограбление, на жалкое прозябание, бескультурье и вымирание. Об этом свидетельствует положение колониальных и полуколониальных народов, угнетаемых английским, американским, французским, голландским и бельгийским империализмом.
В этом великом скачке — от былой экономической и культурной отсталости к вершинам социального прогресса — решающую роль играют новые движущие силы развития, присущие социалистическому обществу. Одной из движущих сил этого развития и является дружба народов СССР.
В результате коренных политических, экономических и культурных преобразований, в результате победы социализма во всех областях общественной жизни СССР изменилась социальная природа прежних наций, они стали новыми, социалистическими нациями. Социалистические нации уже не раздираются классовыми противоречиями внутри, они преодолели взаимное недоверие между собой, у них выросло и развилось братское сотрудничество, социалистическое сознание взаимной дружбы.
Великая дружба советских народов, их братское сотрудничество и взаимопомощь в выполнении хозяйственных, политических, военных и других задач обеспечивают стране социализма новую могучую жизненную силу и неодолимую крепость, способствуют ускорению темпов общественного развития. Дружба и равноправие народов, утвердившиеся в СССР, стали движущей силой, оказывающей могучее воздействие на весь ход развития мировой истории. Советский Союз стал центром притяжения для трудящихся всех стран, для всех угнетенных народов мира.
Советский патриотизм — движущая сила развития социалистического общества
Могучей силой развития социалистического общества является также советский патриотизм.
Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, живущих в каждом народе; истоки этого чувства уходят в века. Благородное чувство любви народов к своей родине использовали эксплуататорские классы в своих корыстных интересах, разжигая вражду между народами, чтобы затушевать коренную противоположность интересов рабочего класса и буржуазии, крестьян и помещиков и ослабить сопротивление трудящихся угнетателям.
Советский патриотизм — новая, высшая форма патриотизма. Советский патриотизм — это глубокое и действенное чувство любви советских людей к своей свободной социалистической родине, преданности социалистическому государству, готовность отдать для процветания родины все силы, неустанно трудиться и бороться за победу коммунизма.
Советский патриотизм наследует и развивает лучшие традиции народного патриотизма прошлых времен. Но в то же время он качественно отличается от патриотизма прошлого, представляя собой новый, высший тип патриотизма.
До социалистической революции трудящиеся, горячо любившие свою родную землю, ненавидели существовавший на родине эксплуататорский строй и охранявшее его государство. Любовь народа к своей родине была омрачена горечью за то унижение, на которое ее обрекали помещики и капиталисты, капиталистический строй.
В советском патриотизме неразрывно сливается любовь народа к своей родной земле, политой потом и кровью многих его поколений, с любовью и преданностью советскому социалистическому строю, созданному на этой земле, с любовью и преданностью социалистическому государству и партии большевиков.
Советский патриотизм — это чувство гордости за свою социалистическую отчизну, за свой народ, который первым в истории построил социализм, уничтожил эксплуатацию и угнетение человека человеком и создал социалистическую культуру, неизмеримо превосходящую буржуазную культуру.
Советские люди гордятся тем, что наша родина стала социалистической страной, что в ней воплощены чаяния и надежды лучших людей всего мира, что она идет ныне в авангарде всего прогрессивного человечества.
Советский патриотизм имеет одним из своих источников гордость за всемирно-исторические завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, обновившей нашу страну, позволившей ей опередить капиталистические страны на целую историческую эпоху.
Советский патриотизм — это всенародный патриотизм, объединяющий все социальные группы и нации, из которых состоит советское общество. Такое всенародное патриотическое чувство могло развиться лишь в обществе, где ликвидированы эксплуататорские классы, где все слои населения объединены общими интересами. Общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза находят свое проявление в глубокой преданности и верности своей советской родине. Советский патриотизм сплачивает рабочих, крестьян, интеллигенцию в одну дружную семью, укрепляет морально-политическое единство. Советский патриотизм объединяет русских и украинцев, белорусов и литовцев, грузин и армян, азербайджанцев и туркмен, узбеков и таджиков, татар и башкир, латышей и эстонцев — все многочисленные нации и народы СССР в одну братскую семью, спаянную нерушимой дружбой народов.
«Сила советского патриотизма состоит в том, — говорит товарищ Сталин, — что он имеет своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей Советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую семью. В этом надо видеть основы нерушимой и всё более крепнущей дружбы народов Советского Союза». (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 160 — 161.)
Советский патриотизм представляет собой воплощение пролетарского интернационализма. Он не имеет ничего общего с национализмом, «квасным патриотизмом», проникнутым духом национальной ограниченности, который насаждали господствующие классы царской России и насаждает буржуазия в капиталистических странах. Советский патриотизм глубоко враждебен буржуазному национализму и шовинизму. Советские люди, проникнутые духом интернационализма, уважают права и независимость народов зарубежных стран и всегда стремятся жить в мире и дружбе с соседними государствами. В патриотическом чувстве, одушевляющем советских людей, воплощена любовь к их социалистической отчизне, которая является вместе с тем отчизной всемирного пролетариата. «Наше государство есть детище мирового пролетариата», — указывает товарищ Сталин. (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 237 — 238.) Укрепляя свою социалистическую отчизну, заботясь об ее быстрейшем развитии, советские люди выполняют не только свои национальные, но и свои интернациональные обязанности. Вот почему товарищ Сталин учит: «Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество, — они делают свое дело, наше дело — хорошо, — поддержим их против капиталистов и раздуем дело мировой революции». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 329.)
В советском патриотизме глубочайшим образом сочетаются подлинно национальные интересы социалистического государства с интернациональными интересами трудящихся всего мира.
Советский патриотизм стал одной из важнейших движущих сил нашего общества, он пробуждает энергию советских людей, творцов новой жизни, строителей коммунизма. Товарищ Сталин назвал советский патриотизм животворным. Советский патриотизм порождает массовый героизм рабочих, колхозников и интеллигенции во всех областях общественной жизни. Советский патриотизм является одним из примеров того, как передовая идея, овладев сознанием миллионов людей, превращается тем самым в материальную движущую силу развития общества. Великое стахановское движение — это глубоко патриотическое движение, движение новаторов, не успокаивающихся на достигнутом, заботящихся о том, чтобы дать стране больше машин, станков, угля, нефти, чугуна, стали, хлеба, мяса, тканей, обуви и других продуктов. Советские патриоты заботятся о том, чтобы обогатить советскую социалистическую культуру новыми произведениями литературы и искусства, новыми научными открытиями и техническими изобретениями.
Советский патриот сознательно подчиняет свои интересы интересам всего советского общества, социалистического государства. Он живет не узкими, личными интересами, а интересами своей родины. Великая цель рождает великую энергию, учит товарищ Сталин. Забота о процветании социалистической родины, о ее могуществе и славе, строительство коммунизма — это великая цель, она рождает великую энергию миллионов людей.
Сила советского патриотизма особенно ярко проявилась в годы Отечественной войны, в героических подвигах бойцов на фронте и всех трудящихся в тылу. «Можно с полным основанием сказать, что самоотверженный труд советских людей в тылу войдёт в историю, наряду с героической борьбой Красной Армии, как беспримерный подвиг народа в защите Родины». (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 116.)
В послевоенный период развития советский народ, движимый горячей любовью к социалистической родине, своим героическим трудом в невиданно короткие сроки восстановил разрушенные врагом заводы, фабрики, шахты, колхозы и совхозы, из руин и пепла воскресил к жизни сотни и тысячи сел и городов.
Высокие темпы развития социалистического хозяйства не знают себе равных в истории народов. В этом обнаруживаются преимущества социалистической системы хозяйства и животворная сила советского патриотизма, рожденного советским социалистическим строем.
Советский патриотизм, дружба народов, морально-политическое единство теснейшим образом связаны между собой и взаимно дополняют и питают друг друга. Они являются могущественной движущей силой развития советского общества, ускоряющей его движение к коммунизму.
Критика и самокритика — движущая сила развития социалистического общества
В советском социалистическом обществе нет больше враждебных классов, нет антагонистических противоречий, но и его развитие осуществляется через противоречия, через борьбу нового с пережитками старого, через борьбу нарождающегося, развивающегося, передового со старым, отживающим.
«Наше продвижение, — говорил товарищ Сталин, — протекает в порядке борьбы, в порядке развития противоречий, в порядке преодоления этих противоречий, в порядке выявления и ликвидации этих противоречий...
Всегда у нас что-либо отмирает в жизни. Но то, что отмирает, не хочет умирать просто, а борется за своё существование, отстаивает своё отжившее дело.
Всегда у нас рождается что-либо новое в жизни. Но то, что рождается, рождается не просто, а пищит, кричит, отстаивая своё право на существование.
Борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, — вот основа нашего развития. Не отмечая и не выявляя открыто и честно, как это подобает большевикам, недочёты и ошибки в нашей работе, мы закрываем себе дорогу вперёд. Ну, а мы хотим двигаться вперёд. И именно потому, что мы хотим двигаться вперёд, мы должны поставить одной из своих важнейших задач честную и революционную самокритику. Без этого нет движения вперёд. Без этого нет развития». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 331.)
Важнейшим методом обнаружения и преодоления старого и утверждения, развития нового в социалистическом обществе является большевистская критика и самокритика. Она помогает советскому народу преодолевать старое, отживающее и прокладывать пути развития новому, обеспечивая поступательное развитие к коммунизму. Большевистская критика и самокритика служит в руках партии могучим средством обнаружения недостатков в области хозяйства, в государственном аппарате, в науке, в литературе и искусстве, во всех сферах жизни и деятельности социалистического общества. Самокритика есть мощное средство вовлечения масс в дело управления хозяйством, государством, могучее средство сознательного воздействия народа на ход общественного развития.
Большевистская критика и самокритика повышают бдительность в рядах партии и в советском народе, поднимает политическую активность трудящихся, развивает в них чувство хозяина страны, способствует обучению советского народа делу управления страной.
Критика и самокритика выступает как новая, невиданная ранее закономерность общественного развития. В выступлении на философской дискуссии А. А. Жданов говорил:
«В нашем советском обществе, где ликвидированы антагонистические классы, борьба между старым и новым и, следовательно, развитие от низшего к высшему происходит не в форме борьбы антагонистических классов и катаклизмов, как это имеет место при капитализме, а в форме критики и самокритики, являющейся подлинной движущей силой нашего развития, могучим инструментом в руках партии. Это, безусловно, новый вид движения, новый тип развития, новая диалектическая закономерность». (А. А. Жданов, Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», стр. 40.)
Критика и самокритика приобрела особое значение после того, как были ликвидированы эксплуататорские классы. В социалистическом обществе противоречия выявляются иным путем, чем в обществе, разделенном на антагонистические классы: не путем классовых столкновений, а путем критики и самокритики. Советские люди, руководимые партией Ленина — Сталина, смело и безбоязненно вскрывают и преодолевают недостатки своей работы, устраняют все то, что мешает двигаться вперед. «...Разве не ясно, — говорил товарищ Сталин, — что мы сами должны вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперёд, разве не ясно, что их некому больше вскрывать и исправлять. Не ясно ли, товарищи, что самокритика должна быть одной из серьёзнейших сил, двигающих вперёд наше развитие». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 29.)
Большевистская критика и самокритика охватывает все сферы жизни и деятельности советского общества — от его материального базиса и государственного аппарата до идеологических надстроек. Товарищ Сталин характеризовал социалистическое соревнование как выражение деловой революционной самокритики масс. Большевистская критика опирается на творческую инициативу миллионов трудящихся. Острым оружием большевистской критики Центральный Комитет ВКП(б) вскрыл недостатки в области советской литературы, театра, кино, музыки и помог деятелям советского искусства расчистить путь для новых творческих успехов. На примере свободной дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», на примере дискуссии по вопросам биологии, языкознания, по вопросам физиологии и отношения к великому наследству И. П. Павлова Центральный Комитет партии, товарищ Сталин показывают работникам научного фронта, как надо развертывать смелую, творческую большевистскую самокритику в области науки и философии, вскрывать и разоблачать проявления буржуазного объективизма, аполитичность в философской и научной работе, низкопоклонство перед буржуазной наукой и философией, а также разоблачать и преодолевать вульгаризаторство, упрощенчество в науке. «Общепризнано, — пишет товарищ Сталин, — что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики». (И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 31.) Там, где игнорируется, попирается это правило, там неизбежно загнивание, запустение, застой мысли.
Пережитки капитализма в сознании людей являются тормозом в развитии социалистического общества, мешают развитию хозяйства, науки, искусства, философии. Большевистская критика помогает преодолевать буржуазное влияние на идеологическом фронте, содействует расцвету социалистического искусства и науки.
Критика и самокритика, являясь движущей силой развития социалистического общества, неразрывно связана с морально-политическим единством, дружбой народов СССР, советским патриотизмом. Критика и самокритика приобрела особое значение в качестве мощной движущей силы развития советского общества именно в условиях его морально-политического единства, на базе этого единства. В свою очередь морально-политическое единство советского общества, дружба народов СССР, советский патриотизм развиваются и укрепляются при помощи критики и самокритики.
Критика и самокритика помогает выкорчевывать пережитки капитализма: частнособственнические, рваческие, индивидуалистические тенденции, противостоящие морально-политическому единству советского общества, проявления национализма, противостоящие дружбе народов СССР, антипатриотические космополитические влияния и низкопоклонство перед буржуазным Западом, без решительного преодоления которых невозможно воспитывать и культивировать советский патриотизм.
«Последовательное проведение лозунга самокритики требует решительной борьбы со всеми, кто тормозит и препятствует её развёртыванию, защиты от преследований всех активно выступающих со здоровой критикой с тем, чтобы справедливо критикующий чувствовал за собою организованную силу коллектива. Желание бороться с недостатками может крепнуть в массах лишь при уверенности в том, что указание на недостатки и выявление их будут иметь действенный эффект». (Г. Маленков, Товарищ Сталин — вождь прогрессивного человечества, Госполитиздат, 1949, стр. 14.)
В условиях социализма развитие вперед идет через возникновение и разрешение противоречий, через борьбу нового против старого, но эти противоречия и эта борьба носят принципиально иной характер, чем в антагонистических обществах. Борьба нового и старого, преодоление возникающих в общественной жизни противоречий, трудностей роста происходит на базе полного соответствия социалистических производственных отношений современным производственным силам, на базе морально-политического единства всего советского общества, на базе равноправия и дружбы народов, на базе возрастающего, развивающегося единства всего социалистического общества.
Примером, показывающим, как разрешаются противоречия в развитии советского общества, может служить укрупнение мелких колхозов, сохранившихся от первого периода коллективизации. Пока сельское хозяйство не было насыщено современной техникой, мелкие колхозы не являлись препятствием развитию; сейчас, при современных могучих производительных силах, при насыщении всего сельского хозяйства передовой техникой — тракторами, комбайнами, сложными молотилками, — мелкие колхозы стали тормозом развития производительных сил, препятствием к полному и всестороннему использованию высших достижений современной сельскохозяйственной науки и техники. Сознательное обнаружение этого противоречия и разрешение его путем объединения мелких колхозов в крупные ведет вперед. Но это и другие противоречия социалистического развития возникают и разрешаются на базе полного соответствия социалистических производственных отношений современным производительным силам, на почве морально-политического единства общества, разрешаются без взрывов, постепенно, по инициативе социалистического государства, при полной поддержке самих трудящихся. Это новый тип развития, новая закономерность.
Капитализм весь соткан из противоречий и антагонизмов. Социализм снизу доверху, начиная от способа производства и кончая идеологией, характеризуется единством — не мертвым, а живым, развивающимся. И это единство, находящее свое выражение в господстве единой социалистической системы хозяйства в городе и в деревне, в единстве умственного и физического труда, в морально-политическом единстве советского общества, в господстве единой социалистической идеологии — марксизма-ленинизма, составляет характерную черту социалистического общества, его закономерность, глубочайший источник и движущую силу его развития.
Маркс в знаменитом предисловии «К критике политической экономии» писал, что вместе с гибелью капитализма — последней антагонистической формацией — кончается предыстория человеческого общества. С победой социализма начинается подлинная история человечества, сознательно творимая обществом. Отсутствие внутренних антагонизмов, сознательно направляемое людьми развитие общества — характерные черты новой, коммунистической формации, первую фазу которой составляет социализм.
Итак, социалистическое общество в своем развитии подчинено действию общих законов, свойственных всем формам общественного развития. Вместе с тем в условиях социализма действуют и новые закономерности и движущие силы развития, рожденные новым общественным строем.
Глава восемнадцатая. Партия Ленина – Сталина – руководящая и направляющая сила Советского общества
Мы рассмотрели закономерности и движущие силы развития социалистического общества. Силой, организующей, вдохновляющей и направляющей это развитие, является коммунистическая партия.
В. И. Ленину и И. В. Сталину — основоположникам коммунистической партии Советского Союза — принадлежит историческая заслуга создания целостного, стройного учения о марксистской партии как передовом отряде рабочего класса, как вдохновителе, вожде и организаторе социалистической революции и победы социализма, как руководящей и направляющей силе советского общества.
С появлением партии большевиков, вооруженной марксистско-ленинской теорией, возник новый, никогда не виданный в прошлом, могущественный фактор сознательного преобразования общества. Завоевав в результате социалистической революции политическую власть, рабочий класс России, возглавляемый большевистской партией, перестраивает общество на началах коммунизма.
В чем же источник силы большевистской партии? Какова ее роль в строительстве коммунистического общества? На эти вопросы дает ответ настоящая, заключительная глава книги об историческом материализме.
1. Руководящая и направляющая роль партии большевиков в развитии советского общества
Возрастание роли и значения партии после завоевания пролетариатом политической власти
Коммунистическая партия есть высшая форма организации пролетариата. Без руководства марксистской политической партии, смелой и революционной, опытной и закаленной в борьбе с врагами, пролетариат не может свергнуть господство капиталистов. Еще большее значение приобретает для рабочего класса руководство партии после завоевания им политической власти. С установлением диктатуры пролетариата изменяется как содержание деятельности коммунистической партии, так и ее роль в развитии общества.
До революции коммунистическая партия была партией, преследуемой властями, ибо у власти стояли помещики и капиталисты. После установления диктатуры пролетариата она стала партией правящей. «В предыдущие периоды, — писал товарищ Сталин, — партия представляла рычаг для разрушения старого, для свержения капитала в России. Теперь... наоборот, она из партии переворота внутри России превратилась в партию строительства, в партию созидания новых форм хозяйства. Раньше она вербовала лучшие силы рабочих для штурма старых порядков, теперь она вербует их для налаживания продовольствия, транспорта, основных отраслей индустрии. Раньше она привлекала революционные элементы крестьянства для свержения помещика, теперь она вербует их для улучшения сельского хозяйства, для упрочения союза между трудящимися элементами крестьянства и стоящим у власти пролетариатом. Раньше она вербовала лучшие элементы запоздалых национальностей для борьбы с капиталом, теперь она вербует их для устроения жизни трудящихся элементов этих национальностей на началах сотрудничества с русским пролетариатом». (И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 106 — 107.)
Таким образом, из партии переворота внутри России ВКП(б) превратилась в партию строительства, руководящую гигантской работой по созиданию нового общественного строя и по защите его завоеваний от врагов.
Пролетарская революция не может решить свои задачи одним ударом подобно буржуазной революции. После свержения власти буржуазии перед пролетарской революцией выступает грандиозная задача организации и сплочения масс для строительства нового общественного порядка. Такая революция, учат Ленин и Сталин, может быть осуществлена лишь при самостоятельном историческом творчестве большинства трудящихся. Построение коммунистического общества не может быть достигнуто самотеком, оно немыслимо без сознательных усилий миллионных масс трудящихся, без руководства их созидательной работой.
Но кто способен организовать массы для строительства нового общественного порядка, кто способен осуществить сознательное руководство обществом? Это может сделать только партия, вооруженная марксистско-ленинской теорией, по-большевистски организованная и дисциплинированная. Именно поэтому большевистской партии принадлежит решающая, руководящая роль в построении коммунистического общества.
Ни одной из революционных партий прошлого не приходилось руководить такими гигантскими массами народа, какими руководит коммунистическая партия. Ни одной другой партии не приходилось осуществлять столь разностороннее руководство обществом. Коммунистическая партия является не только политическим руководителем, политическим вождем народа, но и организатором нового, социалистического хозяйства, строителем новой, социалистической культуры. Она руководит всеми областями общественной жизни, начиная с материального производства и кончая разными сферами идеологии. Поэтому коммунистическая партия — это не просто правящая партия, она — организатор нового общественного строя.
Сознательное руководство партии развитием советского общества
После завоевания диктатуры пролетариата коммунистическая партия выступает в качестве направляющей силы государства. Став правящей партией, она приобретает такое могущественное орудие воздействия на общественное развитие, как социалистическое государство. Опираясь на завоеванные социалистической революцией командные высоты в народном хозяйстве (крупная промышленность, железные дороги, банки, монополия внешней торговли, национализация земли), социалистическое государство, руководимое партией рабочего класса, получает возможность сознательно направлять экономическое развитие страны. Вначале, на первых этапах переходного периода от капитализма к социализму, направляющей деятельности социалистического государства и коммунистической партии еще противостояли значительные стихийные силы, потому что существовало мелкотоварное и частнокапиталистическое хозяйство. Однако каждый шаг вперед по пути социалистического преобразования общества означает вместе с тем возрастание сознательной регулирующей роли рабочего класса, его государства и партии.
В условиях социализма изменяется самый характер воздействия партии на ход исторического развития: теперь речь идет уже не просто о предвидении и ускорении стихийных процессов, а о подчинении их сознательной, направляющей воле рабочего класса и его партии. В речи на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 г. М. И. Калинин говорил: «...Основная задача вытекает из того, что мы из царства необходимости делаем прыжок в царство свободы; в то время как прежде мы стремились уловить законы стихийно развивающегося хозяйства, в настоящий момент мы стремимся стихийно развивающееся хозяйство подчинить своей воле. Мы вносим в это хозяйство строго определенную плановость... До революции ты предвосхищаешь, открываешь законы, но на основании знания этих законов ты только помогаешь, как акушер, развитию исторического процесса, развитию классовой борьбы, мобилизуешь и двигаешь в бой против капитала массы пролетариата и трудящихся. В настоящее время мы поднялись на более высокую ступень: мы хотим построить и мы строим новый мир» (М. И. Калинин, Статьи и речи 1919 — 1935, Партиздат, 1936, стр. 339, 340.)
С победой социалистической системы и ликвидацией многоукладности народного хозяйства экономическое развитие СССР целиком подчиняется плану. Партия большевиков и Советское государство планомерно направляют это развитие, разрабатывая единый народнохозяйственный план и организуя его осуществление. С ликвидацией эксплуататорских классов и установлением морально-политического единства советского общества уже нет внутри страны враждебных классов, действия которых могли бы противостоять направляющей воле рабочего класса и его партии. В связи с этим товарищ Сталин указал на возросшую роль субъективного фактора в решении всех задач строительства коммунизма. Ибо теперь, когда социалистическая система охватывает все отрасли хозяйства СССР, когда стихийные силы, не поддающиеся сознательному контролю, сведены к минимуму, когда линия партии пользуется безраздельной поддержкой трудящихся, успехи в дальнейшем строительстве коммунизма зависят прежде всего от руководства партии, от подготовленности и идейной вооруженности ее кадров, от организационной работы партии.
Товарищ Сталин показал, что социалистическая система хозяйства не может развиваться самотеком. В 1931 г. в речи на совещании хозяйственников он указывал, что с установлением социалистических отношений в городе и деревне уже нельзя рассчитывать на самотек в деле обеспечения промышленности рабочей силой. Воспроизводство рабочей силы, которое при капитализме осуществлялось стихийно, при социализме стало предметом организованной деятельности и заботы государства и партии.
То же самое следует сказать и о развитии сельского хозяйства. В 1933 г. в речи «О работе в деревне» товарищ Сталин показал, что переход к коллективному хозяйству не уменьшил, а увеличил заботы партии о сельском хозяйстве. Раньше, когда в деревне преобладало единоличное хозяйство, партия могла ограничивать свое вмешательство в дело развития сельского хозяйства отдельными актами помощи, совета и предупреждения. Дело изменилось в корне с переходом к коллективному хозяйству; центр тяжести ответственности за ведение хозяйства переместился от отдельных крестьян к руководству колхоза. «А что это значит? Это значит, что партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами, принять на себя ответственность за работу и помочь колхозникам вести свое хозяйство вперед на основе данных науки и техники». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 402 — 403.)
При капитализме коммунистическая партия выступала как организатор и вождь классовой борьбы пролетариата. Завоевывая на свою сторону широкие рабочие и крестьянские массы и руководя их борьбой, «она, как движущая сила, превращается в серьёзнейший фактор». (И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 104.) В условиях диктатуры рабочего класса, условиях социализма партия выступает как еще более могучая движущая сила, направляющая развитие всего общества. Объективная историческая необходимость, которая складывалась в прошлом как стихийный, неожиданный для людей результат их деятельности, теперь осознана и подчинена планомерной сознательной деятельности миллионов трудящихся, организуемых и направляемых коммунистической партией.
Таким образом, значение партии, как направляющей силы развития социалистического общества, обусловливается особым характером закономерностей этого общества, которое, в отличие от капиталистического общества, не может расти и развиваться стихийно.
Морально-политическое единство советского общества и направляющая роль большевистской партии
Возможности сознательного руководства развитием страны со стороны партии особенно расширяются и возрастают в условиях морально-политического единства советского общества.
В упорной борьбе против врагов социализма — эксплуататорских классов и их троцкистско-бухаринской агентуры — партия большевиков создала и укрепила союз рабочего класса и крестьянства, сплотила в одну дружную семью рабочих, крестьян, интеллигенцию, объединила в союзном многонациональном государстве все народы СССР. На основе ликвидации эксплуататорских классов и построения социализма под руководством партии Ленина — Сталина в СССР сложилось морально-политическое единство всего общества. Партия большевиков скрепляет и цементирует морально-политическое единство советского общества, обеспечивает товарищеское сотрудничество и социалистическую взаимопомощь между всеми социальными группами общества, между всеми нациями и народностями, населяющими Советскую страну.
Если в классовом, антагонистическом обществе историческое развитие является результатом столкновения множества противоречивых интересов и стремлений, вследствие чего в истории этого общества господствуют стихийные силы, то в социалистическом обществе, спаянном морально-политическим единством, историческое развитие является результатом коллективных усилий народа, сознательно направляемых партией большевиков к единой цели. В политике партии большевиков выражается единство воли всего советского народа. Объединяя вокруг себя весь народ, направляя к общей цели усилия всех трудящихся, партия большевиков обеспечивает ускоренное движение нашей страны к коммунизму.
Советский социалистический строй дает небывалые возможности, открывает безграничный простор развитию производительных сил. Но, чтобы эти возможности использовать, претворить в действительность, требуется прежде всего «наличие партии, достаточно сплоченной и единой для того, чтобы направить усилия всех лучших людей рабочего класса в одну точку, и достаточно опытной для того, чтобы не сдрейфить перед трудностями и систематически проводить в жизнь правильную, революционную, большевистскую политику». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 325.)
Вооруженная теорией марксизма-ленинизма, знанием законов развития общественной жизни, партия большевиков неразрывно связана со всем народом и пользуется полным доверием масс, ее идеи овладели сознанием масс, ее идеология стала идеологией всего советского общества. Партия стоит во главе государства и использует для руководства обществом всю мощь государственной власти.
Этим обусловливается колоссальный рост могущества большевистской партии, ее решающее воздействие на ход развития советского общества. Такой идейной и организационной мощи, какая воплощена в партии Ленина — Сталина, еще не знает история. «В мире нет и не бывало такой могучей и авторитетной партии, как наша, коммунистическая партия», — указывает товарищ Сталин. (Там же, стр. 408.)
2. Партия большевиков — вождь, организатор и воспитатель советского народа
Коммунистическая партия — политический руководитель советского народа
Руководство партии строительством коммунистического общества выражается прежде всего в том, что она дает трудящимся научную программу деятельности, определяет цель и средства ее осуществления, намечает пути и методы борьбы и строительства, вырабатывает правильную линию действий. Партия является политическим руководителем, вождем советского народа. Вдохновляемая идеями Ленина — Сталина, вооруженная верным компасом марксистско-ленинской теории, она указывает советскому народу цели борьбы и пути, ведущие к этим целям. Сила партии заключена прежде всего в ее мудрой и прозорливой политике.
Товарищ Сталин не раз указывал, что своими победами в деле социалистического строительства партия обязана в первую очередь правильности своей политической линии.
На XVII съезде ВКП(б), в 1934 г., когда Советский Союз был единственной страной пролетарской диктатуры, товарищ Сталин говорил, что только наша партия имеет правильную руководящую линию и это является ее величайшим преимуществом перед правящими партиями капиталистических стран.
«Посмотрите на окружающие страны: много ли вы найдете правящих партий, имеющих правильную линию и проводящих ее в жизнь? Собственно, таких партий нет теперь в мире, ибо все они живут без перспектив, путаются в хаосе кризиса и не видят путей для того, чтобы выбраться из трясины. Только наша партия знает, куда вести дело, и ведет его вперед с успехом. Чему обязана наша партия этим своим преимуществом? Тому, что она является партией марксистской, партией ленинской». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 484.)
Политика партии определяет направление деятельности Советского государства и имеет решающее значение для всего развития нашей страны. Политика большевистской партии представляет жизненную основу советского строя. Самое существование Советского государства, советского строя определяется правильностью политики партии. «Политика есть отношение между классами — это решает судьбу республики», — учил Ленин. (В. И. Ленин, Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 248.)
О решающем значении политики большевистской партии в жизни СССР свидетельствует вся история социалистического строительства. Судьбы социализма в нашей стране, а значит и судьбы нашей родины зависели от политики партии, от проведения ее в жизнь. Советская власть получила в наследство от старого времени отсталую технически и полунищую, разоренную страну с отдельными оазисами промышленности, тонувшими среди моря мельчайших крестьянских хозяйств. Перевести страну на рельсы современной индустрии и машинизированного социалистического сельского хозяйства — так стояла задача. Это была труднейшая задача, но партию большевиков не пугают трудности. Вооруженная ленинско-сталинской теорией, она взяла курс на построение социализма. Она убедила трудящихся в правильности своей генеральной политической линии и организовала их на осуществление программы социалистической индустриализации страны и коллективизации крестьянского хозяйства. Партия призвала трудящихся пойти на временные жертвы, проводить во всем жесткую экономию, чтобы создать первоклассную индустрию, способную реорганизовать на началах социализма всю экономику страны, в том числе и сельское хозяйство.
Сталинской политике индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства враги народа — презренные троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы — противопоставили свою политику капитуляции перед иностранным капиталом. Они отвергали программу создания тяжелой индустрии и призывали ограничиться легкой индустрией, а необходимые средства производства ввозить из-за границы. Это была политика отступления, которая неизбежно вела к поражению социализма и восстановлению капитализма, политика разоружения нашей страны перед ее врагами.
«...Надо было выбирать, — говорил впоследствии товарищ Сталин, — между двумя планами: между планом отступления, который вел и не мог не вести к поражению социализма, и планом наступления, который вел и, как знаете, уже привел к победе социализма в нашей стране». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 489.)
Судьба социализма в нашей стране, а вместе с тем и все ее будущее зависели от того, какую политику положит в основу своей деятельности партия. Партия выбрала политику наступления на капиталистические элементы и твердо пошла вперед по ленинско-сталинскому пути. Она сломила сопротивление врагов, разгромила троцкистско-бухаринских реставраторов капитализма, преодолела колебания отсталых и малодушных и привела страну к победе социализма.
Великие преобразования в жизни нашей родины, превратившие ее в могучую индустриальную и колхозную державу, — это результат осуществления политики большевистской партии.
О решающем значении политики партии в судьбах страны свидетельствует также победа Советского Союза в Великой Отечественной войне. Мудрая и дальновидная политика партии большевиков, ее неустанная забота об укреплении Советского государства, об усилении военной и экономической мощи страны сыграли решающую роль в грозный для нашей родины час. Несмотря на неблагоприятные условия, при которых СССР пришлось вступить в войну, Советский Союз в дальнейшем повернул течение войны в свою пользу и добился величайшей исторической победы. Перелом в ходе событий был достигнут прежде всего благодаря проведению мудрой сталинской политики. В своем выступлении по радио 3 июля 1941 г. товарищ Сталин показал, что, совершая внезапное и вероломное нападение на СССР, гитлеровская Германия добилась некоторого выигрышного положения для своих войск, но проиграла политически. Товарищ Сталин в оценке перспективы войны выдвинул на первое место политический фактор. Он предвидел, что военный выигрыш для Германии будет лишь кратковременным эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР явится «серьёзным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией». (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 12.)
Правильная внешняя политика Советского государства обеспечила изоляцию гитлеровской Германии и объединение всех свободолюбивых народов против их общего врага, что оказало серьезное влияние на ход войны. Внутри СССР политика партии и Советского государства обеспечила невиданное в истории сплочение народа вокруг правительства для освободительной Отечественной войны. В дни Отечественной войны партия большевиков предстала как вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фашистских захватчиков и указала народу путь к победе. Таким образом, еще раз подтвердилось, что судьбы войны решаются, в последнем счёте, правильной политикой.
Правильная политика большевистской партии как в годы войны, так и в годы мирного строительства является ключом к победе, первым условием успешного движения советского народа вперед. Своей политикой большевистская партия последовательно и целеустремленно направляет развитие нашей страны к коммунизму. В настоящее время политика большевистской партии направлена к осуществлению основной экономической задачи СССР — догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении, создать все материальные и духовные предпосылки коммунизма. Эта политика ведет к укреплению тесного сотрудничества рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, укреплению братства и дружбы народов СССР, росту военно-экономического могущества советской державы, всестороннему развитию социалистического хозяйства и преодолению пережитков капитализма в экономике и сознании людей. Вдохновляемые и направляемые политикой большевистской партии, советские люди борются за дальнейший расцвет народного хозяйства и культуры СССР.
Политика большевистской партии является великой преобразующей силой в развитии советского общества, потому что она правильно выражает потребности развития материальной жизни общества. Сила политики большевистской партии в том и состоит, что она является правильной, научно обоснованной политикой. Это значит, что она строится не на субъективных пожеланиях, а на точном учете реальных потребностей развития материальной жизни общества. Партия никогда не ставит перед народом несбыточных задач, а отражает в своей политике задачи, выдвигаемые самой жизнью, развитием общества.
Политика большевистской партии сочетает в себе трезвый учет объективных условий с величайшей активностью, революционной энергией, смелостью. Она опирается на реальные возможности, создаваемые историческим развитием, но в то же время учитывает, что эти возможности осуществляются не сами собой, а через активную деятельность масс. Так, например, обосновывая возможность победы социализма в нашей стране, товарищ Сталин отмечал, что эта возможность не могла осуществиться самотеком. Чтобы претворить ее в действительность, необходима была упорная борьба за социалистическое преобразование экономики страны, за ликвидацию капиталистических элементов, за вовлечение крестьянства, руководимого рабочим классом, в русло социалистического строительства. Великой исторической заслугой большевистской партии и явилось то, что она сумела мобилизовать энергию народных масс и полностью использовать для победы социализма все возможности и преимущества, предоставляемые советским строем. Под руководством большевистской партии рабочий класс не только завоевал государственную власть и создал новый тип государства, Советское государство, но и использовал свою политическую власть как могучий рычаг ускорения экономического развития, как средство социалистического преобразования всего общественного строя, добившись таким образом победы социализма в СССР.
Чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад, учит товарищ Сталин. Политика большевистской партии отличается дальновидностью и прозорливостью, умением предвидеть будущее, ход развития событий. А предвидеть наша партия имеет возможность потому, что она вооружена революционной теорией, теорией марксизма-ленинизма, потому, что она руководствуется знанием законов общественного развития, практическими выводами из этих законов. Политика большевистской партии — это марксистско-ленинская теория в действии.
На основе научного предвидения партия вырабатывает свою политическую линию, определяет основные задачи борьбы, намечает план строительства коммунистического общества. Тем самым партия дает народу ясность цели, что является необходимым условием мобилизации творческой энергии масс.
«Мы не можем двигаться вперёд, не зная, куда нужно двигаться, не зная цели движения, — говорил товарищ Сталин в 1926 г. — Мы не можем строить без перспектив, без уверенности, что, начав строить социалистическое хозяйство, можем его построить. Без ясных перспектив, без ясных целей партия не может руководить строительством». (И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 279.) Сила партии в том и заключается, что она вооружена этой ясностью цели и вооружает ею весь народ.
Но руководство партии строительством коммунистического общества далеко не сводится к предвидению направления и перспектив общественного развития. Партия практически руководит борьбой советского народа. А это требует от нее умения правильно решать конкретные задачи строительства коммунизма.
Руководящая роль партии проявляется решительно во всех областях жизни Советской страны. Именно поэтому так исключительно многообразен круг вопросов, которыми занимается партия и ее сталинский Центральный Комитет. Ни один крупный вопрос в жизни страны не решается без руководящих указаний партии. В партии, в ее Центральном Комитете воплощен коллективный разум народа. Товарищ Сталин говорил:
«В нашем руководящем органе, в Центральном комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки народностей Советского Союза и национальной политики. В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии». (И. В. Сталин, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, Госполитиздат, 1938, стр. 5.)
Такой состав руководящего органа партии дает ей возможность решать со знанием дела все, даже самые сложные вопросы строительства коммунизма. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, ее Центральный Комитет, являясь вождем и руководителем рабочего класса и всего советского народа, обобщает и использует в интересах строительства коммунизма богатейший опыт миллионов трудящихся. «Для того, чтобы правильно руководить, — учит товарищ Сталин, — необходимо опыт руководителей дополнить опытом партийной массы, опытом рабочего класса, опытом трудящихся, опытом так называемых «маленьких людей»». (И. В. Сталин, О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников, Госполитиздат, 1938, стр. 34.) Поэтому необходимым условием правильного руководства является умение партии укреплять связь с массами, прислушиваться к их голосу, учитывать и обобщать их опыт.
Политическая линия партии определяет общее направление ее деятельности. Но, разумеется, партия не может заранее предусмотреть все конкретные задачи, с которыми ей придется столкнуться. Жизнь богаче теории и всегда приносит много нового, что не могло быть предусмотрено раньше. В этом нет ничего удивительного, ибо историю творят не единицы, не десятки, а миллионы и сотни миллионов людей, которые всегда вносят в нее нечто новое, творческое. Чтобы руководить строительством коммунизма, партия должна внимательно изучать и оценивать это новое в явлениях жизни. Только при этом условии она может своевременно «понять смысл событий, смысл новых процессов и потом умело ими управлять в соответствии с общей тенденцией развития». (И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 37.)
Товарищ Сталин учит партию внимательно изучать явления жизни: открывать в них ростки нового, передового, прогрессивного, чтобы содействовать их развитию; открывать в зародыше назревание нежелательных, отрицательных явлений, чтобы вовремя им воспрепятствовать.
Без предвидения не может быть подлинного большевистского руководства. «Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не видеть, пока обстоятельства не уткнут нас носом в какое-либо бедствие, — это еще не значит руководить, — говорил товарищ Сталин. — Большевизм не так понимает руководство. Чтобы руководить, надо предвидеть. А предвидеть, товарищи, не всегда легко.
Одно дело, когда десяток — другой руководящих товарищей глядит и замечает недостатки в нашей работе, а рабочие массы не хотят или не могут ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут есть все шансы на то, что наверняка проглядишь, не всё заметишь. Другое дело, когда вместе с десятком — другим руководящих товарищей глядят и замечают недостатки в нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, вскрывая наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и намечая пути для улучшения дела. Тут больше будет поруки в том, что неожиданностей не будет, что отрицательные явления будут вовремя замечены и вовремя будут приняты меры для ликвидации этих явлений». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 35 — 36.)
Примером такого руководства, позволяющего вовремя пресечь назревание нежелательных, отрицательных явлений, может служить постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» и постановление Совета Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах». Этими постановлениями партия и правительство вскрыли и пресекли серьезные извращения Устава сельскохозяйственной артели, выразившиеся в раздувании личного хозяйства колхозников в ущерб общественному хозяйству, в разбазаривании и расхищении общественных земель колхозов. Что получилось бы, если бы процесс разбазаривания колхозных земель продолжался и враждебные колхозному строю частнособственнические тенденции получили бы возможность беспрепятственного развития? Тогда оказалась бы подорванной самая основа колхозного строя. В том и состоит прозорливость партии Ленина — Сталина, что она на основе внимательного и глубокого изучения явлений жизни вовремя вскрыла эту опасность и пресекла ее в зародыше, мобилизовав массу честных колхозников на борьбу с извращениями Устава сельскохозяйственной артели.
Изучение и обобщение опыта масс дает возможность открывать ростки нового, создаваемые творческим почином масс. Гениальные вожди партии Ленин и Сталин своим примером учат открывать в жизни ростки нового, прогрессивного, ориентироваться на растущее новое в своей практической работе, содействовать его развитию и его победе над старым, отжившим.
Известно, например, какую огромную роль в развитии колхозного движения играют машинно-тракторные станции. Первая машинно-тракторная станция родилась в результате творческого почина снизу, по инициативе работников совхоза имени Тараса Шевченко, организовавших в 1927 г. тракторную колонну для помощи бедняцко-середняцким крестьянским хозяйствам. В этом почине товарищ Сталин с гениальной прозорливостью открыл зародыш новой формы государственного руководства колхозным движением, новой формы производственной смычки между социалистической индустрией и сельским хозяйством. С трибуны XV съезда ВКП(б) товарищ Сталин призвал множить опыт шевченковцев. Предвидение товарища Сталина, оценившего в зародыше значение этого почина, сыграло решающую роль в развитии МТС, которые стали могучим рычагом социалистической реконструкции сельского хозяйства.
Партия помогает массам осознать историческое значение их почина, раскрывает перед ними перспективы дальнейшего развития. Силой научного предвидения партия как политический руководитель освещает народу путь борьбы за коммунизм.
Партия как организатор советского народа
Иметь правильную политику, учит товарищ Сталин, — это первое и самое важное дело, но этого еще недостаточно для завоевания победы. Чтобы добиться победы, необходимо осуществить эту политику, претворить ее в жизнь. А эту задачу партия не может выполнить только своими силами, без поддержки масс. Ленин высмеял вздорное представление, будто можно построить коммунизм руками одних коммунистов. Сила партии в том, что она умеет организовать массы для осуществления идеалов коммунизма, поднять миллионы трудящихся на борьбу за намеченные ею цели.
Когда на совещании металлургов в Кремле в 1934 г. один из видных советских ученых, академик Бардин, заявил, что победа советской металлургии завоевана партией, товарищ Сталин поправил его:
«Вы неправы, товарищ Бардин, — начал свою речь товарищ Сталин, — партия не могла одна провести работу, о которой вы говорили». («Встречи с товарищем Сталиным», Госполитиздат, 1939, стр. 50.) Товарищ Сталин провел параллель между победами металлургов и великими победами Октябрьской социалистической революции: «Вместе с партией в этой работе участвовали и беспартийные и старые специалисты, такие, как вы. Партия одна не могла бы сделать революцию в октябре 1917 года. В революции принимало участие всего 130 тысяч членов партии. В чем состоит заслуга партии? Партия сумела организовать, сумела заставить работать всех и сумела давать правильные указания в работе». («Встречи с товарищем Сталиным», Госполитиздат, 1939, стр. 51.)
Партия является не только политическим вождем, но и организатором масс. Она вносит единство воли в многомиллионную армию трудящихся и организует их на борьбу. Ее значение в строительстве коммунистического общества определяется тем, что она умеет окружить себя широким слоем беспартийного актива, умеет объединять усилия всей многомиллионной армии строителей коммунизма и направлять их к одной цели. Десятки миллионов людей объединяются вокруг коммунистической партии и по ее указаниям, по ее призыву строят новое общество.
Небывалый размах организаторской работы партии большевиков определяется величием и глубиной задач социалистической революции. «Вместе с основательностью исторического действия будет, следовательно, расти и объем массы, делом которой оно является», — указывали Маркс и Энгельс. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 105.) Это изречение Маркса и Энгельса Ленин считал одним из самых глубоких и самых важных положений марксизма. Развивая это положение, Ленин писал: «Чем шире и чем глубже происходящий в обществе переворот, тем многочисленнее должно быть число людей, которые этот переворот совершают, которые являются творцами этого переворота в подлинном смысле слова». (В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 397.) Социалистическая революция является глубочайшим общественным переворотом, она преобразует общество до самого его основания. И чем глубже плуг социалистической революции вспахивает общественную почву, тем более ширится круг людей, непосредственно участвующих в сознательном историческом творчестве.
В эпоху социализма миллионы и десятки миллионов становятся творцами истории. Партия руководит этими миллионными массами, поднимая их готовность к борьбе, сплачивая их вокруг задач строительства коммунизма. Партия имеет возможность объединять массы, ибо ее политика отвечает их коренным интересам и активно поддерживается ими. Большевистская партия, Советское государство не имеют других интересов, кроме интересов народа. Вся деятельность большевистской партии — это беззаветное служение делу народа. Вот почему она располагает таким могучим источником сил, какого не имеет и не может иметь ни одна из буржуазных партий. Политика большевистской партии опирается на активность и самодеятельность народных масс, которые видят в ней свою политику и, не щадя сил, проводят ее в жизнь.
Организаторская мощь партии большевиков, ее способность объединять и поднимать весь трудовой народ на решение важнейших политических задач объясняются также сплоченностью и организованностью самой партии. Тем и сильна партия большевиков, что, объединяя в своих рядах сотни тысяч и миллионы членов, она действует, как один человек.
Партия большевиков представляет собой руководящее ядро всех организаций Советского Союза, как государственных, так и общественных. Через своих членов, работающих в этих организациях, партия направляет их деятельность к единой цели.
История СССР ярко показывает великое значение большевистской партии как силы, организующей советский народ. Объясняя причины победы Советской страны над объединенными силами интервентов и белогвардейцев, Ленин говорил: «Только благодаря тому, что партия была на-страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан Ц. К., как один человек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двухкратный, трехкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить». (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, изд. 3, стр. 96.)
В годы Великой Отечественной войны, так же как и в годы гражданской войны, организаторская работа партии имела неоценимое значение для завоевания победы. «Организаторская работа партии, — говорил товарищ Сталин, — соединила воедино и направила к общей цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы и средства делу разгрома врага». (И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 119.) Коммунисты цементировали ряды Советской Армии, поднимая боеспособность ее частей и подразделений. Коммунисты были организаторами партизанского движения в тылу врага. Они организовали всенародную помощь фронту в советском тылу. На самые трудные и решающие участки — и в тылу и на фронте — партия ставила своих сынов, и они везде добивались успеха, вносили в массы дух сплоченности и дисциплины, завоевывали победу.
В соответствии с политическими задачами партия большевиков распределяет свои силы, расставляет кадры, обеспечивая коммунистическое влияние на всех, и прежде всего на самых решающих, участках.
Правильную политическую линию партия большевиков подкрепляет громадной организаторской работой — этим она и добивается успеха. Победа никогда не приходит сама, ее завоевывают. Она завоевывается путем упорной и настойчивой борьбы за осуществление линии партии.
«После того, как дана правильная линия, — учит товарищ Сталин, — после того, как дано правильное решение вопроса, успех дела зависит от организационной работы, от организации борьбы за проведение в жизнь линии партии, от правильного подбора людей, от проверки исполнения решений руководящих органов. Без этого правильная линия партии и правильные решения рискуют потерпеть серьезный ущерб. Более того: после того, как дана правильная политическая линия, организационная работа решает все, в том числе и судьбу самой политической линии, — ее выполнение, или ее провал». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 476 — 477.)
Партия как воспитатель советского народа
С организаторской деятельностью большевистской партии неразрывно связана ее воспитательная деятельность. Для того чтобы организовать массы на выполнение тех или иных политических задач, необходимо прежде всего убедить их в правильности политики партии. Только на основе такого убеждения партия может обеспечить себе поддержку масс, их готовность к решительной борьбе. Вот почему товарищ Сталин указывает, что партия должна «уметь убеждать массы в правильности политики партии, выдвигать и проводить такие лозунги, которые подводят массы к позициям партии и облегчают им распознать на своём собственном опыте правильность политики партии, подымать массы до уровня сознания партии...». (И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 52.)
Подымать массы до уровня сознания партии — в этом и состоит важнейшая воспитательная задача коммунистической партии. Партия призвана вносить социалистическое сознание в массы рабочего класса, озарять светом революционной теории стихийное рабочее движение, поднимая его до степени сознательной классовой борьбы. Такую задачу ставили перед партией Ленин и Сталин еще в те годы, когда только что создавали ее. Партия представляет собой высшее воплощение коммунистической сознательности. Она является передовым, сознательным отрядом рабочего класса; она объединяет в своих рядах наиболее сознательных и закаленных борцов за коммунизм.
Великая преобразовательница общества, партия большевиков коренным образом преобразила и сознание народных масс. Социалистическое преобразование страны, изменившее условия материальной жизни миллионов людей, громадная воспитательная работа партии большевиков привели к тому, что глубоко изменился духовный облик советского народа. Марксизм-ленинизм стал всенародной идеологией. Поднимая массы на решение грандиозных исторических задач строительства коммунизма, осуществляя руководство ими в этой борьбе, партия большевиков воспитывала и воспитывает весь народ в духе животворного, советского патриотизма, укрепляет дружбу народов СССР, развивает у них сознание советской национальной гордости. Новые, советские люди, активные и сознательные строители коммунизма — это величайшее завоевание нашей партии. Замечательные черты советского человека — его беззаветная преданность социалистической родине, пламенный советский патриотизм, несокрушимая уверенность в победе коммунизма, творческая инициатива и настойчивость в достижении цели, стойкость и уменье не отступать перед трудностями — восприняты им у партии большевиков.
Значение воспитательной работы партии особенно возросло в результате победы социализма. Дальнейшее движение Советского Союза вперед, к коммунизму, с необходимостью требует большевистского наступления на пережитки капитализма в сознании советских людей. От успехов в области коммунистического воспитания масс, от преодоления пережитков капитализма в их сознании во многом зависят темпы нашего дальнейшего движения вперед. На XVIII съезде ВКП(б) т. Молотов говорил:
«У нас создано столько предпосылок, столько возможностей для дальнейшего подъема и полного расцвета нашего общества, что теперь главное у нас состоит в коммунистически-сознательном отношении к своему труду и, особенно, в успешности нашей большевистской работы по идейному воспитанию разросшихся кадров советской интеллигенции.
Пришло время, когда вперед выдвигаются задачи воспитательного характера, задачи коммунистического воспитания трудящихся». («XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет», стр. 315.)
Партия большевиков осуществляет коммунистическое воспитание трудящихся, используя для этого и аппарат государственной власти и многочисленные общественные организации (профсоюзы, комсомол, культурно-просветительные общества и т. д.). Благодаря руководящему воздействию партии на службу коммунистическому воспитанию поставлены литература, театр, кино и другие виды искусства, печать, радио и т. д.
Воспитательная деятельность большевистской партии имеет громадное значение в развитии социалистического общества, ибо от коммунистической сознательности зависит рост творческой активности масс, без которой немыслимо строительство коммунизма. Если капиталистическое общество может существовать, лишь подавляя и принижая активность и сознание масс, а рост сознательности трудящихся происходит там вопреки желанию и противодействию правящих классов, то социалистическое общество, напротив, не может существовать и развиваться без постоянного повышения сознательности масс и их творческого участия в строительстве новой жизни. Каждый шаг вперед в деле социалистического преобразования СССР знаменовал собой вместе с тем новую ступень в подъеме сознательности масс, в развитии их творческой инициативы, их сознательного почина.
Во все возрастающей сознательности масс — источник неиссякаемых творческих сил социалистического общества. Во всех предшествовавших общественных формациях громадное большинство людей, поглощенных своими будничными заботами, даже не задумывалось о том, как и куда идет общественное развитие. В социалистическом обществе, напротив, благодаря руководству коммунистической партии громадное большинство населения сознает перспективы общественного развития, активно борется за их осуществление. Этим в значительной мере и обусловливается невиданное ускорение темпов исторического развития при социализме. Мы видим, таким образом, воочию, как осуществляется в СССР гениальное предвидение Ленина, который еще накануне Октября писал, что «только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем всего населения, происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной жизни». (В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 443.)
Великим организатором творческой активности масс является партия большевиков — руководящая и направляющая сила социалистического государства. Призывы партии, задачи, которые она ставит, находят горячий отклик в народе и вызывают широкую инициативу и творческий почин масс, что ведет к ускорению движения советского общества вперед, к коммунизму.
3. Строительство коммунизма и дальнейшее укрепление партии
Усиление идейной и организационной сплоченности партии
Роль коммунистической партии как руководящей и направляющей силы советского общества возрастает по мере продвижения СССР вперед, к коммунизму. Это требует дальнейшего усиления идейной и организационной сплоченности партии.
История ВКП(б) учит, что одним из решающих условий всемирно-исторических побед нашей партии было очищение ее рядов от оппортунистов, капитулянтов, предателей. На протяжении всей своей истории партия большевиков вела неустанную борьбу с различного рода оппортунистическими течениями и группами в собственных рядах. Разгром всех капитулянтских течений и групп был необходимым условием победы над классовым врагом.
«Не разбив «экономистов» и меньшевиков, мы не смогли бы построить партию и повести рабочий класс на пролетарскую революцию.
Не разбив троцкистов и бухаринцев, мы не смогли бы подготовить условия, необходимые для построения социализма.
Не разбив национал-уклонистов всех и всяких мастей, мы не смогли бы воспитать народ в духе интернационализма, не смогли бы отстоять знамя великой дружбы народов СССР, не смогли бы построить Союз Советских Социалистических Республик». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 344.)
В борьбе с этими капитулянтскими группами партия отстояла единство своих рядов и приобрела закалку, необходимую для того, чтобы выполнить свою роль организатора и руководителя пролетарской революции, строительства социалистического общества.
Разъясняя значение непримиримой борьбы большевиков со всеми и всякими оппортунистическими течениями и группами, товарищ Сталин указывал, что нельзя допускать, чтобы в руководящем штабе рабочего класса сидели маловеры, оппортунисты, капитулянты, предатели, ибо это значило бы попасть в положение людей, обстреливаемых и с фронта и с тыла, и наверняка потерпеть поражение. «Крепости легче всего берутся изнутри. Чтобы добиться победы, нужно, прежде всего, очистить партию рабочего класса, его руководящий штаб, его передовую крепость — от капитулянтов, от дезертиров, от штрейкбрехеров, от предателей». (Там же.)
Трагическая судьба югославского народа, преданного троцкистско-фашистской кликой Тито, показывает, что ожидает рабочий класс, в руководящий штаб которого проникли предатели, шпионы и убийцы. Иуда Тито и его приспешники, пробравшись к власти, ликвидировали все демократические завоевания, приобретенные югославским народом в результате освобождения его Советским Союзом от немецко-фашистской оккупации. В угоду англо-американским империалистам клика Тито установила в Югославии кровавый террористический режим фашистско-гестаповского типа.
Такую же участь готовили и нашей стране презренные троцкистско-бухаринские предатели. Но эти ничтожные лакеи фашистов, эти белогвардейские пигмеи явно переоценили свои силы. Великая партия большевиков смела предателей со своего пути. Благодаря бдительности и прозорливости ленинско-сталинского Центрального Комитета ВКП(б) осиные гнезда врагов народа были своевременно раздавлены. Очистив свои ряды от капитулянтов и дезертиров, штрейкбрехеров и предателей, партия большевиков еще более укрепила свою мощь.
Идейная и организационная мощь большевистской партии выкована долгими годами последовательной и непримиримой борьбы с оппортунистическими элементами. Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов, учит товарищ Сталин.
Обобщая опыт развития ВКП(б), товарищ Сталин указывал в 1926 г., что ее история есть история принципиальной борьбы большевиков за ленинизм, с антибольшевистскими течениями и группами.
«Выходит, — говорил товарищ Сталин, — что ВКП(б) росла и крепла через преодоление внутрипартийных противоречий.
Выходит, что преодоление внутрипартийных разногласий путём борьбы является законом развития нашей партии». (И. В. Сталин, Соч., т. 9, стр. 7 — 8.)
Товарищ Сталин указывал, что этот закон является законом развития для всех сколько-нибудь больших пролетарских партий.
Единство партийных рядов является основным условием боеспособности партии. Но большевики никогда не были сторонниками формального единства, основанного на допущении и примирении различных течений внутри партии. Затушевывание противоречий и примирение противоположных принципов гибельно для пролетарской партии, оно способно привести лишь к ее идейному перерождению. Единство коммунистической партии возможно только на принципиальной основе, на основе преодоления возникающих внутри партии разногласий путем принципиальной борьбы за последовательную ленинско-сталинскую теорию и политику.
Источники, порождавшие в прошлом внутрипартийные разногласия в ВКП(б), коренились в самих условиях классовой борьбы. Партия рабочего класса живет и действует не в безвоздушном пространстве. Она является частью рабочего класса, а рабочий класс не отгорожен от всех других классов, постоянно испытывает давление со стороны буржуазии и мелкобуржуазных слоев общества. Этому давлению поддаются наименее устойчивые слои пролетариата — недавние выходцы из мелкой буржуазии и те рабочие, которые по условиям своей жизни близки к мелкой буржуазии. Разнородность состава пролетариата приводит к тому, что в его среде оказываются слои рабочих, обладающих разными привычками, настроениями, взглядами. Эти различные настроения и взгляды отражаются и в партии, а давление буржуазии неминуемо обостряет эти разногласия и приводит к борьбе течений внутри партии. Вот почему, как указывал товарищ Сталин, «в условиях капитализма и вообще в условиях наличия антагонистических классов внутрипартийные противоречия и разногласия являются неизбежностью», а «развитие и укрепление пролетарских партий при указанных условиях может происходить лишь в порядке преодоления этих противоречий». (И. В. Сталин, Об учебнике истории ВКП(б), Сборник «К изучению истории», Госполитиздат, 1938, стр. 29. Подчеркнуто мной. — Г. Г.)
Из подчеркнутых слов товарища Сталина видно, что он не рассматривает сформулированный выше закон развития партии как вечный закон, действующий в течение всего времени существования партии. Этот закон действует при определенных исторических условиях, а именно «в условиях капитализма и вообще в условиях наличия антагонистических классов». Этих условий в СССР уже нет. В результате победы социализма в СССР ликвидированы все эксплуататорские классы, нет больше антагонистических классов, установлено морально-политическое единство общества. Поэтому в СССР исчезли питательные источники, порождавшие оппортунистические уклоны. С победой социализма неизмеримо возросло и укрепилось единство партии.
Следовательно, в условиях социализма изменились закономерности развития партии, так же как изменились и закономерности развития всего советского общества, движущей силой которого не является больше классовая борьба.
Это, конечно, не означает, что в партии не могли больше возникать враждебные группы, не означает невозможности проникновения враждебных элементов в ее ряды. Пока есть капиталистическое окружение, пока существуют пережитки капитализма в экономике и сознании людей, коммунистическая партия не гарантирована от проникновения в ее ряды враждебных элементов. Поэтому она всегда и повсюду должна проявлять высочайшую бдительность.
Критика и самокритика как средство укрепления коммунистической партии
В развитии социалистического общества выявляются и преодолеваются противоречия между новым и старым, между тем, что развивается и растет, и тем, что отживает свое время. Эти противоречия выражаются прежде всего в борьбе социалистического начала с пережитками капиталистического, поддерживаемого капиталистическим окружением. Противоречия эти отражаются и на развитии нашей партии.
«Наша партия, — говорил на XV съезде ВКП(б) товарищ Сталин, — есть живой организм. Как и во всяком организме, в ней происходит обмен веществ: старое, отживающее, — выпадает, новое, растущее, — живёт и развивается. Отходят одни, и вверху и внизу. Растут новые, и вверху и внизу, ведя дело вперёд. Так росла наша партия. Так будет она расти впредь». (И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 371.)
Так развивается наша партия и теперь, в условиях социализма, хотя борьба между старым и новым происходит уже в иных формах и имеет иное содержание, чем раньше. И в новых условиях на базе монолитной сплоченности своих рядов партия продолжает очищать себя от скверны, от всего враждебного, чуждого, отжившего, застойного.
Важнейшим средством укрепления партии, повышения идейного уровня, дисциплины и сплоченности ее рядов является критика и самокритика. Методом критики и самокритики наша партия пользуется с самого своего зарождения, он неразрывно связан с самой природой большевизма. Но особое значение приобрела критика и самокритика, после того как ВКП(б) стала правящей партией, после того как она одержала победу над всеми антиленинскими партиями, группировками и течениями. Критика и самокритика является важнейшей движущей силой развития партии, она помогает партии вскрывать и разрешать противоречия, возникающие в ее развитии, перестраивать содержание, формы и методы своей работы в соответствии с новыми задачами, дает возможность очищать организм партии от всего застойного, негодного, дает возможность укреплять и расширять связи партии с массами.
При помощи критики и самокритики партия воспитывает свои кадры, прививает им большевистскую принципиальность, борется с чуждыми большевизму тенденциями, с зазнайством, самоуспокоенностью, стремлением почить на лаврах. Товарищ Сталин учит нас безбоязненно проверять себя, анализировать свою работу, мужественно критиковать свои недостатки и ошибки и исправлять их.
Руководствуясь марксистским диалектическим методом, партия смотрит на организационные формы не как на абсолютные, раз навсегда установленные и пригодные для всех условий. Наоборот, как указал X съезд ВКП(б) в своей резолюции «О партийном строительстве», «форма организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают». («ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, изд. 6, стр. 356.) Поэтому с изменением исторической обстановки, с изменением содержания партийной работы должны изменяться и формы партийного строительства.
Boвремя вскрывать и разрешать противоречия между формами организации и содержанием партийной работы, перестраивая форму организации в соответствии с новыми назревшими задачами, преодолевая все косное, отживающее, что мешает двигаться вперед, — одна из задач руководства партии.
Новая полоса развития, в которую вступил Советский Союз в результате победы социализма, — полоса завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму, — выдвинула перед партией грандиозные задачи. В соответствии с этими задачами партия перестроила свои ряды, изменила свои организационные формы. Так, с победой социализма отпала необходимость в установлении различных категорий при приеме в партию в зависимости от социального положения вступающих. Старые нормы по приему в партию, существовавшие до XVIII съезда, пришли в противоречие с новыми условиями работы партии, стали, как отмечалось в докладе товарища Жданова, тормозом «при приеме в партию действительно передовых рабочих, крестьян, интеллигентов... За устаревшие нормы цепляются отсталые элементы, которые не хотят, чтобы выдвигались новые, молодые силы». («XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет», стр. 515.)
Острым оружием критики и самокритики партия вскрыла это противоречие. Новый Устав ВКП(б), принятый XVIII съездом ВКП(б), привел условия приема в партию в соответствие с изменившейся классовой структурой советского общества: установлены единые условия приема для всех вступающих в партию, независимо от их принадлежности к рабочему классу, крестьянству или интеллигенции. Вместе с тем XVIII съезд ВКП(б) подчеркнул задачу — систематически улучшать состав партии, принимая в ее ряды лишь проверенных и преданных делу коммунизма товарищей.
В обстановке постепенного перехода от социализма к коммунизму обнаружилось и другое противоречие в развитии партии — противоречие между новыми задачами партии и идейным вооружением ее кадров. Новая обстановка поставила во весь рост задачу идейного вооружения кадров. Товарищ Сталин показал путь преодоления несоответствия между возросшими задачами партии в условиях перехода от социализма к коммунизму и недостаточной идеологической подготовленностью ее кадров. Чтобы осуществить задачу коммунистического воспитания трудящихся, чтобы успешно бороться с пережитками капитализма в сознании людей, необходимо вооружить наши кадры передовой идеологией — марксизмом-ленинизмом.
Безбоязненно вскрывая и преодолевая свои недостатки и слабости при помощи смелой и принципиальной критики и самокритики, партия большевиков совершенствует свое идейное и организационное вооружение, укрепляет свои ряды.
Связь с массами — источник силы партии
Важнейшим источником силы партии является ее неразрывная связь с трудящимися массами, с народом. Товарищ Сталин сравнивает партию большевиков с героем греческой мифологии Антеем, сыном Геи — богини земли: сила Антея состояла в том, что он сохранял привязанность к матери, вскормившей и воспитавшей его. Большевики, «так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 346.)
Связь с массами — вот ключ непобедимости большевистского руководства. Товарищ Сталин учит:
«Можно признать как правило, что пока большевики сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимыми. И наоборот, стоит большевикам оторваться от масс и потерять связь с ними, стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они лишились всякой силы и превратились в пустышку». (И. В. Сталин, О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников, стр. 35.)
На всем протяжении своего многолетнего пути партия большевиков выходила победительницей из всех испытаний, потому что пользовалась поддержкой масс, потому что черпала новые и новые подкрепления из чудесного, неиссякаемого родника народных сил.
Самым верным показателем связи партии с массами является рост ее рядов. Характерно, что в периоды наиболее тяжелых испытаний для советского народа особенно увеличивался приток заявлений о приеме в ряды ВКП(б), особенно сильно проявлялось стремление лучших людей народа вступить в партию Ленина — Сталина, связать с нею свою судьбу. В годы Великой Отечественной войны рост партии был намного выше, чем в довоенные годы. За годы войны в кандидаты ВКП(б) вступило в два с половиной раза больше, чем за соответствующий период до войны. Нередко заявления о приеме в партию писались бойцами в окопах перед боем, на стоянках партизанских отрядов и т. д.
Советские люди привыкли видеть в коммунистах выразителей своих дум и чаяний. Они знают, что коммунисты — верные сыны народа, смелые, самоотверженные люди, которые всегда первыми бросаются в бой за интересы трудящихся, не пожалеют сил и даже жизни ради победы. Народ знает, что коммунисты — это идейные, сознательные люди, которые живут и борются во имя интересов народа. В годы Великой Отечественной войны советские люди неизменно верили коммунистам и относились к ним, как к своим руководителям.
Не было еще в истории и нет другой партии, которой народ верил бы так, как он верит партии большевиков. Это доверие народа партия заслужила своей беззаветной, героической борьбой, кровью тысяч и тысяч большевиков, отдавших жизнь за дело народа. Партия заслужила доверие народа своим мужеством и бесстрашием в бою, своей беспощадностью к врагам народа, своей любовью и преданностью трудящимся, ясностью своего ума и мудростью своего руководства.
Ценить это доверие народа, беречь его как высшее достояние партии — нет более высокого долга для коммуниста. Вот почему товарищ Сталин учит коммунистов не отгораживаться от беспартийных, не кичиться своим высоким званием, чутко прислушиваться к голосу масс.
«Мы, большевики, — говорит товарищ Сталин, — не имели бы тех успехов, которые имеем теперь, если бы не умели завоевать на сторону партии доверие миллионов беспартийных рабочих и крестьян. А что для этого требуется? Для этого требуется, чтобы партийные не отгораживались от беспартийных, чтобы партийные не замыкались в свою партийную скорлупу, чтобы они не кичились своей партийностью, а прислушивались к голосу беспартийных, чтобы они не только учили беспартийных, но и учились у них». (И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 419.)
Победа социализма в СССР привела к тому, что вокруг коммунистической партии вырос широкий слой непартийных большевиков — людей, которые не состоят в рядах партии, но по своему духу являются большевиками. Об этом говорил товарищ Сталин еще в 1935 г. на встрече с участниками первомайского парада в Москве. Большевик — это тот, кто предан до конца делу коммунизма. Такими являются не только коммунисты, их много и среди непартийных. «Часто такие люди, такие товарищи, такие бойцы стоят даже выше многих и многих членов партии. Они верны ей до гроба». («Известия» от 4 мая 1935 г.)
Миллионы беспартийных большевиков, окружающих теперь нашу партию и идущих рука об руку с партийными большевиками, — это величайшее завоевание, величайший источник силы нашей партии. Благодаря этому изменились взаимоотношения между партийными и беспартийными в нашей стране. Были времена, когда коммунисты относились к беспартийным и беспартийности с некоторым недоверием. Это объяснялось тем, что флагом беспартийности тогда прикрывались различные буржуазные группы, которым было невыгодно выступать без маски. Теперь у нас другие времена, указывал товарищ Сталин в речи перед избирателями 9 февраля 1946 г. «Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским общественным строем. Этот же барьер объединяет беспартийных с коммунистами в один общий коллектив советских людей... они вместе боролись за укрепление могущества нашей страны, вместе воевали и проливали кровь на фронтах во имя свободы и величия нашей Родины, вместе ковали и выковали победу над врагами нашей страны». (И. В. Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., Госполитиздат, 1949, стр. 31.) И партийные и беспартийные советские люди творят ныне одно общее дело. В этом смысле, как отмечал товарищ Сталин, разница между ними лишь формальная.
С победой социализма коммунистическая партия сплотила вокруг себя весь советский народ. В ней все трудящиеся СССР видят свою родную партию, своего признанного вождя и руководителя. В настоящих условиях, когда советское общество свободно от классовых столкновений и представляет картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, коммунистическая партия представляет интересы единого советского народа. Она является, как сказано в Конституции СССР, «передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя».
Отсюда, однако, нельзя сделать вывода ни об изменении классовой природы нашей партии, ни о том, что снимается роль партии как авангарда рабочего класса. Партия большевиков сложилась и выросла как передовой отряд рабочего класса. И в нынешних условиях коммунистическая партия опирается в первую очередь на рабочий класс и питается пополнением прежде всего из его среды. Рабочий класс и в условиях победившего социализма остается самым передовым классом, который осуществляет свою диктатуру (государственное руководство обществом). Но с победой социализма в нашей стране расширилась и укрепилась база диктатуры рабочего класса, достигнуто морально-политическое единство общества. Именно поэтому коммунистическая партия, оставаясь по своей классовой природе передовым отрядом рабочего класса, объединила под своим знаменем весь советский народ.
Коммунистическая партия ведет народ к великой цели — построению коммунистического общества. На пути к этой цели предстоит гигантски развить производительные силы страны, уничтожить противоположность между городом и деревней, поднять культурно-технический уровень рабочих до уровня инженерно-технических работников, преодолеть пережитки капитализма в сознании людей, укрепить социалистическое государство. Всей этой грандиозной работой руководит коммунистическая партия — вождь и учитель народа, мозг и сердце коммунистического строительства. Роль и значение партии как самого сознательного, передового, стойкого отряда трудящихся еще более возрастает в условиях завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Дальнейшее укрепление партии, повышение ее идейной и организационной мощи — необходимое условие победы коммунизма.
Создание, развитие и укрепление большевистской партии неразрывно связано с деятельностью ее великих вождей — Ленина и Сталина. Ленин и Сталин строили и крепили большевистскую партию, закаляли ее в упорной борьбе со всеми врагами рабочего класса. Их идеи легли в основу программы большевистской партии, их гений указывал партии правильные пути на всех крутых поворотах истории. Под руководством Ленина и Сталина выросла и закалилась железная когорта большевиков, которых Сталин определяет как людей особого склада, не боящихся трудностей и преград. После смерти Ленина вокруг товарища Сталина сплотилось руководящее ядро нашей партии, которое отстояло великое знамя Ленина и обеспечило успешную борьбу за осуществление заветов Ленина.
Более трех десятилетий назад, в канун Великой Октябрьской социалистической революции, Ленин охарактеризовал партию большевиков как «ум, честь и совесть нашей эпохи». Вся героическая летопись большевизма — яркое подтверждение этих ленинских слов. Партия большевиков вывела народы нашей страны на путь свободной социалистической жизни, партия большевиков стала надеждой и воплощением чаяний сотен миллионов трудящихся во всех частях света.
Опыт героической партии Ленина — Сталина, ее идейное богатство, ее стратегия и тактика стали достоянием международного коммунистического движения. В зарубежных странах выросли и окрепли массовые коммунистические и рабочие партии, созданные по образу и подобию великой партии большевиков, партии нового типа. На примере партии Ленина — Сталина учатся они бороться и побеждать, вести за собой массы и сплачивать их в борьбе за жизненные интересы народов. Практическим опытом доказана глубочайшая мудрость положений Ленина и Сталина о великом значении большевизма как образца стратегии и тактики для пролетарских партий всех стран.
В большевистской партии народы мира видят залог осуществления своих лучших надежд, яркий светоч, озаряющий путь к коммунизму. Имя товарища Сталина, вождя большевистской партии, гениального преемника и продолжателя дела Ленина, стало для трудящихся всего мира символом победоносной борьбы за освобождение от капиталистического рабства, от национально-колониального гнета, символом нового, свободного, коммунистического общества, созидаемого в Советской стране.
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 535. ↩︎
И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 54 — 55. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 40. ↩︎
П. Гольбах, Система природы, Соцэкгиз, 1940, стр. 147. ↩︎
За содействием в организации социалистических фаланстеров Фурье обращался к Наполеону, которого он называл новым Геркулесом, призванным водворить гармонию на развалинах варварства, к министрам Людовика XVIII, к банкиру Ротшильду. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 106. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 40. ↩︎
В. Г. Белинский, Избранные философские сочинения, т. I, Госполитиздат, 1948, стр. 399. ↩︎
Н. Г. Чернышевский, Избранные философские сочинения, т. II, Госполитиздат, 1950, стр. 718. ↩︎
Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. V, Спб. 1906, стр. 336. ↩︎
Н. Г. Чернышевский, Избранные философские сочинения, 1938, стр. 44. ↩︎
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 132. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 314. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 373 — 374. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 366. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 19, изд. 4, стр. 5. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 544. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 1, изд. 4, стр. 124 — 125. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 545. ↩︎
И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 5 — 6. ↩︎
Там же, стр. 6. ↩︎
Там же, стр. 10 — 11. ↩︎
И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 41. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. 1, стр. 322. ↩︎
В. И. Ленин, Цит. по газете «Культура и жизнь» от 21 января 1949 г. ↩︎
Немецкий историк Эдуард Мейер писал: «Давно занимаясь историей, я не нашел ни одного исторического закона и не видел, чтобы кто-нибудь другой нашел таковой». ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 410. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 239. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 14, изд. 4, стр. 314. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 9, стр. 165 — 166. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, стр. 172. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 7 — 8. Подчеркнуто мной. — Ф. К. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 161 — 162. ↩︎
Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 107. ↩︎
Там же, стр. 263. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I. Послесловие ко второму изданию, 1949, стр. 13. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 244. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 122. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 13, изд. 4, стр. 21 — 22. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 541. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 541. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 343. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 1, изд. 4, стр. 380 — 381. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1949, стр. 517. ↩︎
Там же. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 548-549. ↩︎
Это предвидение товарища Сталина полностью оправдалось. Теперь СССР обеспечен и каучуком. Если ещё в 1928 г. Ввозилось 100 % каучука, потреблявшегося в стране, то уже в 1937 г. 76,1 % каучука производилось в СССР (см. Справочник «Страны мира», 1946, стр. 140) ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 324. ↩︎
Пальм Датт, Индия сегодня, Государственное издательство иностранной литературы, М. 1948, стр. 22. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 622 ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 549-550. ↩︎
И. В. Сталин, Речь на совещании передовых комбайнёров и комбайнёрок с членами ЦК ВКП(б) и правительства, 1947, стр. 172. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 172. ↩︎
См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 11. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 49. ↩︎
Там же, стр. 184-185. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 185. ↩︎
Там же, стр. 187. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 187. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 550. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 190. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 429. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 27, стр. 695. ↩︎
См. И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 136. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 554. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 14, изд. 4, стр. 309. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 2, 1949, стр. 32. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 570. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, стр. 603. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 554. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 285. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии, Госполитиздат, 1950, стр. 35-36. ↩︎
См К. Маркс, Капитал, т. 1, стр. 492 ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 1, 1949, стр. 492. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избраные письма, 1947, стр. 469-470 ↩︎
Уэнделл Бердж, Международные катели, Государственное издательство иностранной литературы, 1947, стр. 53-5. ↩︎
Там же, стр. 45. ↩︎
К. Маркс, К критике политической экономии, Введение, 1949, стр. 204. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т.1, 1949, стр. 390. ↩︎
В. И. Ленин и И. В. Сталин, О социалистическом соревновании, 1941, стр. 192. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 552-553. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 364. ↩︎
Один из реакционнейших апостолов капитализма — английский генерал Фуллер в своих статьях «Влияние вооружений на мировою историю», помещенных в органе американских пушечных королей «Арми орднанс» в 1944—1945 гг., с откровенным цинизмом пишет о «благодетельном» влиянии империалистических войн:
«Теперь зависимость промышленности от войны стала более жизненной для нашей экономической системы, чем зависимость войны от промышленности. И поскольку война является единственным корректором (исправителем) перепроизводства в экономике, где господствует недопотребление, военная организация целых наций в мирное время является необходимой не только для полноты подготовки к войне, но и, главное, для обеспечения внутреннего мира... Машинная техника приводит к безработице; безработица увеличивает военную мощь; военная мощь требует врага для того, чтобы оправдать себя; политика создает врага; отсюда автоматически следует война, которая на время разрешает проблемы безработицы». Взгляды Фуллера на войну совпадают с идеологией гитлеризма, фашизма и полностью отвечают агрессивной политике американских монополий и реакционных правительств США и Англии. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 561. ↩︎
Там же, стр. 560. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 552. ↩︎
Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 137-138 ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 70. ↩︎
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1949, стр. 14. ↩︎
И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 46 ↩︎
Н. Н. Миклухо-Маклай, Путешествия, изд. «Молодая гвардия», 1947, стр. 141—142. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 186. ↩︎
Н. Н. Миклухо-Маклай, Путешествия, стр. 126— 127. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 177. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 340. ↩︎
См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IX, стр. 278—279. ↩︎
См. Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 182. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 240. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 1, изд. 4, стр. 136. ↩︎
«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 1, Гиз, М. 1930, стр. 272. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 295. ↩︎
См. К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 374—375. ↩︎
См. К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 241. ↩︎
Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 169. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 450. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 127. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 412. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 556. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 125. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. III, 1949, стр. 807—808. ↩︎
См. К. Маркс, Капитал, т. III, 1949, стр. 804. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 368. Древнеримский патриций Менений Агриппа, оправдывая разделение общества на классы, уподоблял трудящихся рукам и другим органам тела, а господствующие классы — желудку. — Ф. К. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 376. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 387—388. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 765. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 270-271. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, 1950, стр. 37—38. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 401. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, 1949, стр. 428—429. ↩︎
Там же, стр. 766. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 252—253. ↩︎
Там же, стр. 184. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 188. ↩︎
Там же, стр. 202. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 263. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 263. ↩︎
Там же, стр. 264. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 22, изд. 4, стр. 193—194. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 9, стр. 106. ↩︎
Там же, стр. 107. ↩︎
Там же, стр. 108— 109. ↩︎
И. В. Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., Госполитиздат, 1949, стр. 14—15. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 246—247. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 557—558. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 430 ↩︎
В.И.Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 333. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. 2, 1948, стр. 23. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 21. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 487. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 24, изд. 3, стр. 508. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 26, изд. 3, стр. 46, 47. ↩︎
Троцкистско-фашистская клика Тито – Ранковича в Югославии ныне так же проповедует кулацкую «теорию» врастания кулачества и городской буржуазии в социализм. Этот титовский «социализм» представляет собой одну из разновидностей палаческого фашистского режима, подобного тому, который был в гитлеровской Германии и фашистской Италии. ↩︎
В. И. Ленин, Соч. т. 27, изд. 3, стр. 349. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 355. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 248. ↩︎
И. В. Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., стр. 24 – 25. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 24, изд. 3, стр. 540. ↩︎
Там же, стр. 579. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 305 – 306. ↩︎
«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 291 – 292. ↩︎
И. В. Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., стр. 26. ↩︎
«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 295. ↩︎
И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 29. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 575. ↩︎
«Правда», 20 декабря 1949 г. ↩︎
Сборник «Советская техника за двадцать пять лет», изд. Академии Наук СССР, 1945, стр. 55. ↩︎
«Делегация шотландских горняков о своём пребывании в Советском Союзе», Профиздат, 1950, стр. 11. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 496. ↩︎
Сборник «На высоких скоростях», Профиздат, 1949, стр. 29. ↩︎
Там же, стр. 45. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 390. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. 3, 1949, стр. 273. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, ст. 558. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 119. ↩︎
А. Бусыгин, Жизнь моя и моих друзей, Профиздат, 1939, стр. 74-75. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 367. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 314. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 110 – 111. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 501. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 494 – 495. ↩︎
Там же, стр. 496. ↩︎
В. М. Молотов, Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции, Госполитиздат, 1947, стр. 27. ↩︎
Сборник «Наука в тупике», Соцэкгиз, 1938, стр. 43. ↩︎
О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР», Госполитиздат, 1948, стр. 3 – 4. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 41. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1947, стр. 63. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 353. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 388. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 339. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 514 — 515. ↩︎
Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат, 1949, стр. 169. ↩︎
Это название объяснялось тем, что они должны были отдавать владельцу земли пять шестых урожая. — Г. Г. ↩︎
Аристотель, Афинская полития, Соцэкгиз, 1936, стр. 29 — 30. ↩︎
Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 152. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 188. ↩︎
См. М. Ковалевский, Современный обычай и древний закон, М. 1896, т. I, стр. 127. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 240. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 307. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, Госполитиздат, 1950, стр. 32. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10, стр. 607. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 142. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 6, изд. 4, стр. 97. ↩︎
Цифры взяты из книги Ф. Ландберга «60 семейств Америки», 1948, стр. X. ↩︎
Нормой прибавочной стоимости Маркс называет отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, или, иными словами, отношение прибавочного труда к необходимому труду. Норма прибавочной стоимости есть, по словам Маркса, «точное выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом». (К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 224.) ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 650. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 18, изд. 4, стр. 405. ↩︎
См. Ю. Кучинский, История условий труда в США с 1789 по 1947 г., Государственное издательство иностранной литературы, М. 1948, стр. 385. ↩︎
К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, Партиздат, 1936, стр. 195. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 6, изд. 4, стр. 97. ↩︎
Цит. по газете «За прочный мир, за народную демократию!», 16 сентября 1949 г. ↩︎
С такими утверждениями выступил К. Реннер в своей брошюре «Новый мир и социализм», изданной в Вене в 1946 г. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10, стр. 605. ↩︎
Там же, стр. 611. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 6, изд. 4, стр. 176. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 17, изд. 4, стр. 201. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 128. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 19, изд. 4, стр. 97 — 98. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, 1950, стр. 43. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 344. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 162. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, изд. 3, стр. 646. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 6, изд. 4, стр. 235. ↩︎
До какой степени предательства дошли реакционные профсоюзные вожаки, свидетельствует заключенная в мае 1950 г. сделка между председателем профсоюза рабочих автомобильной промышленности Уолтером Рейтером и компанией «Дженерал моторс». По этому соглашению вожаки профсоюза, получив подачку от компании «Дженерал моторс», обязались в течение пяти лет не проводить забастовок на ее автомобильных заводах. Таким образом, рабочие заводов «Дженерал моторс» запроданы своим хозяевам без права протестовать на срок в пять лет. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 11, изд. 4, стр. 54. ↩︎
Г. Кунов, Марксова теория исторического процесса, общества и государства, т. II, М. — Л. 1930, стр. 57, 58. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 18, изд. 4, стр. 29. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 19, изд. 4, стр. 7 — 8. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 18, изд. 4, стр. 373 — 374. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 63. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 180. ↩︎
«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 135. ↩︎
Там же, стр. 137. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 6, изд. 4, стр. 459. ↩︎
И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 46. ↩︎
«Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года», Госполитиздат, 1948, стр. 6. ↩︎
Данные о стачечном движении в США см. в сборнике «Труд и капитал в США» (Издательство иностранной литературы, М. 1949, стр. 126) и «Факты о положении трудящихся в США (1947 — 1948 гг.)» (Издательство иностранной литературы, М. 1949, стр. 126). ↩︎
«Архив Маркса и Энгельса», т. III (VIII), 1934, стр. 381 — 383. ↩︎
Там же, стр. 383. ↩︎
Американский генеральный штаб ↩︎
«Совещание Информационного бюро коммунистических партий в Венгрии во второй половине ноября 1949 года», Госполитиздат, 1949, стр. 14. ↩︎
И. В. Сталин, Интервью с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля 13 марта 1946 года, стр. 12. ↩︎
«Совещание Информационного бюро коммунистических партий в Венгрии во второй половине ноября 1949 года», стр. 17. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 579. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1948, стр. 141. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 358. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 20, изд. 4, стр. 128. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 186. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 359. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 541. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 303-304 ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 358. ↩︎
И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7. ↩︎
См. В. И. Ленин, Соч., т. 1, изд. 4, стр. 399. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 302-303. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 303. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 303. ↩︎
И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 604. ↩︎
К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 741. ↩︎
Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 264. ↩︎
См. «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 121. ↩︎
Odegard Peter, The American Public Mind, p. 100. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 4, стр. 72. ↩︎
Там же, стр. 442. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т, 1, 1948, стр. 322. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 375. ↩︎
В. И. Ленин, Соч., т. 29, изд. 4, стр. 442. ↩︎