Избранные философские сочинения
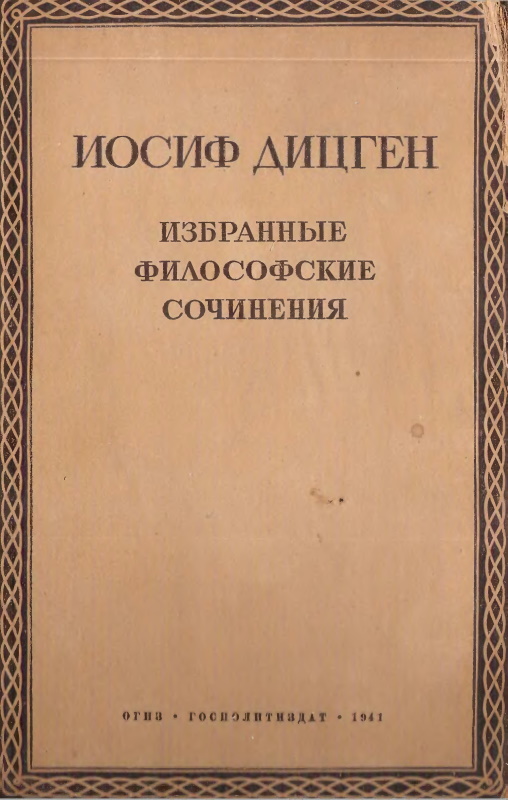
От редакции
В основу настоящего издания положены переводы 1908 г. Текст сверил с немецким оригиналом П. Г. Дауге.
К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицгена
В. И. Ленин
Двадцать пять лет тому назад, в 1888 году, скончался рабочий-кожевник Иосиф Дицген, один из выдающихся социал-демократических писателей-философов Германии.
Иосифу Дицгену принадлежат сочинения (переведенные большей частью и на русский язык): «Сущность головной работы» (вышло в свет в 1869 году), «Экскурсия социалиста в область теории познания», «Аквизит философии» и др. Самую верную оценку Дицгена и его места в истории философии и рабочего движения дал Маркс еще 5-го декабря 1868 года в письме к Кугельману:
«Уже давно — писал Маркс — Дицген прислал мне отрывок рукописи о «Способности мышления», который, несмотря на некоторую путаницу в понятиях и на слишком частые повторения, содержит в себе много превосходных и, как продукт самостоятельного мышления рабочего, достойных изумления мыслей».
Вот значение Дицгена: рабочий, самостоятельно пришедший к диалектическому материализму, т. е. к философии Маркса. Чрезвычайно ценно для характеристики рабочего Дицгена то, что он не считал себя основателем школы.
Иосиф Дицген говорил о Марксе, как главе направления, еще в 1873 году, когда немногие понимали Маркса. И. Дицген подчеркивал, что Маркс и Энгельс «обладали необходимой философской школой». И в 1886 году, много спустя после появления «Анти-Дюринга» Энгельса, одного из главных философских произведений марксизма, Дицген писал о Марксе и Энгельсе, как о «признанных основателях» направления.
Это надо иметь в виду, чтобы оценить всяких последователей буржуазной философии, т. е. идеализма и агностицизма (в том числе и «махизма»), которые пробуют уцепиться как раз за «некоторую путаницу» у И. Дицгена. И. Дицген сам осмеял бы и оттолкнул таких поклонников.
Чтобы стать сознательными, рабочие должны читать И. Дицгена, но не забывать ни на минуту, что он дает не всегда верное изложение учения Маркса и Энгельса, у которых только и можно учиться философии.
И. Дицген писал в такую эпоху, когда всего шире был распространен опрощенный, опошленный материализм. Поэтому И. Дицген особенно напирал на исторические изменения материализма, на диалектический характер материализма, то есть на необходимость стоять на точке зрения развития, понимать относительность каждого человеческого познания, понимать всестороннюю связь и взаимозависимость всех явлений мира, доводить материализм естественно-исторический до материалистического взгляда на историю.
Напирая на относительность человеческого познания, И. Дицген часто впадает в путаницу, делая неправильные уступки идеализму и агностицизму. Идеализм в философии есть более или менее ухищренная защита поповщины, учения, ставящего веру выше науки или рядом с наукой или вообще отводящего место вере. Агностицизм (от греческих слов «а» — не и «гносис» — знание) есть колебание между материализмом и идеализмом, т. е. на практике колебание между материалистической наукой и поповщиной. К агностикам принадлежат сторонники Канта (кантианцы), Юма (позитивисты, реалисты и пр.) и современные «махисты». Поэтому некоторые из самых реакционных философов буржуазии, отъявленные мракобесы и прямые защитники поповщины, пробовали «использовать» ошибки И. Дицгена.
Но, в общем и целом, И. Дицген — материалист. Дицген — враг поповщины и агностицизма. «С прежними материалистами — писал И. Дицген — общего у нас только то, что мы признали материю предпосылкой или первоосновой идеи». Это «только» и есть суть философского материализма.
«Материалистическая теория познания — писал И. Дицген — сводится к признанию того, что человеческий орган познания не испускает никакого метафизического света, а есть кусок природы, отражающий другие куски природы». Это и есть материалистическая теория отражения в познании человека вечно движущейся и изменяющейся материи, — теория, вызывающая ненависть и ужас, клеветы и извращения всей казенной, профессорской философии. И с какой глубокой страстью истинного революционера бичевал и клеймил И. Дицген «дипломированных лакеев поповщины» профессоров-идеалистов, реалистов и т. п.! «Из всех партий» — справедливо писал И. Дицген про философские «партии», т. е. про материализм и идеализм — «самая гнусная есть партия середины».
К этой «гнусной партии» принадлежит редакция «Луча» и г. С. Семковский («Луч» № 92). Редакция дала «оговорочку»: «не разделяем-де обще-философской точки зрения», но изложение Дицгена «правильно и ясно».
Это — вопиющая неправда. Г-н Семковский безбожно переврал и исказил И. Дицгена, выхватив у него как раз «путаницу» и умолчав о марксовой оценке Дицгена. А между тем и Плеханов, самый знающий по философии марксизма социалист, и лучшие марксисты в Европе вполне признали эту оценку. Г-н Семковский извращает и философский материализм, и Дицгена, говоря вздор и по вопросу «один или два мира» (это будто бы «коренной вопрос»! Поучитесь-ка, любезный, прочтите хоть «Людвига Фейербаха» Энгельса) — и по вопросу о мире и явлениях (Дицген будто бы сводил действительный мир только к явлениям; это — поповская и профессорская клевета на И. Дицгена).
Но всех извращений у г. Семковского не перечесть. Пусть знают рабочие, интересующиеся марксизмом, что редакция «Луча» есть союз ликвидаторов марксизма. Одни ликвидируют подполье, т. е. партию пролетариата (Маевский, Седов, Ф. Д. и т. д.), другие — идею гегемонии пролетариата (Потресов, Кольцов и др.), третьи — философский материализм Маркса (г. Семковский и К°), четвертые — интернационализм пролетарского социализма (бундовцы, Косовский, Медем и пр. — сторонники «культурно-национальной автономии»), пятые — экономическую теорию Маркса (г. Маслов с его теорией ренты и «новой» социологией) и так далее и тому подобное.
Вопиющее извращение марксизма г. Семковским и прикрывающей его редакцией — только один из наиболее ярких образчиков «деятельности» этого литераторского «союза ликвидаторов»[1].
Раздел первый
Сущность головной работы человека
Предисловие
Здесь вполне уместно обратиться к благосклонным читателям, а также и к неблагосклонным критикам с некоторыми пояснительными замечаниями, касающимися личного отношения автора к своему произведению. Первый упрек по моему адресу, который я заранее предвижу, — это недостаток в учености, недостаток, который обнаруживается не непосредственно в самом произведении, а скорее чувствуется между строк. Как ты смеешь, спрашиваю я себя, предлагать вниманию публики работу по предмету, над которым трудились такие герои науки, как, например, Аристотель, Кант, Фихте, Гегель и другие, предварительно, не изучив основательно все произведения своих знаменитых предшественников? В лучшем случае разве ты не будешь повторять давно уже до тебя сказанное?
Я отвечаю: семя, посеянное философией на ниве науки, давно уже взошло и принесло свой плод. Все, с чем знакомит нас история, исторически развивается, движется, растет и исчезает, чтобы продолжать жить вечно в новой форме. Непосредственное, оригинальное произведение имеет смысл только в связи с отношениями и условиями времени, продуктом которых оно является, — в конце же концов оно становится пустой скорлупой, из которой ядро вынуто историей. Все, что наука в прошлом дала положительного, не живет более в том виде, в каком оно вышло из рук своего творца; оно перестало быть одним лишь духом: оно облеклось в плоть и кровь в современной науке. Например, чтобы изучить законы физики и открыть в этой области что-нибудь новое, вовсе не нужно обязательно быть знакомым с историей этой науки и изучать открытые уже законы по первоисточникам. Напротив, историческое исследование могло бы только тормозить решение известной физической проблемы, так как концентрированная сила по необходимости дает более благоприятные результаты, чем сила раздробленная. В этом смысле мне пошло на пользу то, что у меня нехватало знаний в других областях, так как именно поэтому я тем решительнее посвятил себя изучению своего специального предмета. Я приложил все старания, чтобы овладеть этим предметом и изучить все, что было о нем известно в мое время. Я внутри себя пережил заново историю философии, поскольку я с ранних, юношеских лет почувствовал умозрительную потребность в разработке стройного, систематического миросозерцания и в конце концов нашел удовлетворение в индуктивном познании мыслительной способности человека.
И не способность мышления в ее разнообразных проявлениях, не различные формы этой способности, а ее всеобщая форма, ее родовая сущность — вот что меня привлекло и что составляет цель моего изложения. Мой предмет поэтому чрезвычайно прост и специален, столь абсолютно прост, что пространное изложение его было для меня очень трудно и постоянные повторения были почти неизбежны. В то же время вопрос о сущности духа — это популярная тема, которой занимались не только философы-специалисты, но и наука вообще. Поэтому необходимо также знать то, что дала для изучения этого вопроса история науки, вообще необходимо быть в курсе современных научных взглядов. Что касается данного источника, то я могу считать свои знания вполне достаточными.
Несмотря на то что я являюсь в данном случае автором, я могу все-таки открыто заявить, что я не профессор философии и по профессии ремесленник. Тем, кто по этому поводу мог бы напомнить мне старое изречение: «не в свои сани не садись», я отвечу словами Карла Маркса: «Ваша до nec plus ultra тривиальная мудрость сделалась поразительной глупостью в тот момент, когда часовых дел мастер Уатт изобрел паровую машину, парикмахер Аркрайт — прядильную машину и ювелирный мастер Фультон — пароход». Не желая причислять себя к этим великим людям, я все-таки могу их иметь в виду как достойный подражания пример. Кроме того, и характер моего изложения носит на себе особый отпечаток сословия — класса, к которому я имею если не честь, то, по крайней мере, удовольствие принадлежать.
В этом произведении я рассматриваю способность мышления как орган всеобщего. Настоящим носителем этого органа является только угнетаемое четвертое, именно рабочее сословие, так как особые классовые интересы господствующих сословий мешают им признать всеобщее. Эта ограниченность прежде всего относится к миру человеческих отношений. Но так как эти отношения являются теперь не общечеловеческими, а классовыми отношениями, то и взгляд на вещи должен определяться этой ограниченной точкой зрения. В отношении субъекта объективное познание предполагает теоретическую свободу. Ведь прежде чем Коперник увидел, что земля движется, а солнце стоит, он должен был отрешиться от своей земной точки зрения. Так как для способности мышления предметом являются все отношения, то ей необходимо отвлечься от всего, чтобы понять самое себя в чистом, настоящем виде. Так как мы все понимаем только посредством мышления, мы должны поэтому отрешиться от всего, чтобы познать мысль в чистом виде, мышление вообще. Подобная задача была слишком трудна, пока человек был связан ограниченной классовой точкой зрения. Только при достигшем известной ступени прогрессе исторического развития, поскольку оно стремится уничтожить последние остатки господства и рабства, можно обойтись без предрассудков, чтобы понять суждение вообще, способность познания, умственный труд в подлинном и разоблаченном виде. Только историческое развитие, в результате которого и может пробудиться стремление к непосредственной общей свободе масс, — а для этого необходим еще целый ряд безусловно игнорируемых исторических предпосылок, — только новая эра четвертого сословия освободится от веры в призраки, чтобы разоблачить последнего виновника чертовщины, разоблачить чистый дух. Человек четвертого сословия становится наконец «чистым» человеком. Его интересы не являются уже более классовыми интересами, но интересами масс, интересами человечества. Во все времена интересы масс были связаны с интересами господствующего класса, человечество неуклонно «шло вперед» не только вопреки, но как раз именно посредством постоянного угнетения этих масс — то еврейскими патриархами, то азиатскими завоевателями, античными рабовладельцами, феодальными баронами, цеховыми мастерами и особенно современными капиталистами и еще к тому же капиталистическими самодержцами. Но такому положению вещей скоро конец. Классовые отношения в прошлом были необходимы для всеобщего развития. В настоящее время развитие достигло той стадии, когда массы приходят к самосознанию. До настоящего времени человечество развивалось посредством классовых противоречий. Оно настолько выросло, что желает теперь развиваться непосредственно. Классовые противоречия были явлениями человечества. Рабочее сословие желает уничтожить классовые противоречия, чтобы человечество стало истиной.
Подобно тому как реформация обусловливалась фактическими отношениями XVI столетия, так и обоснование теории головной работы человека, равно как и открытие электрического телеграфа, обусловливалось фактическими отношениями XIX столетия. В этом смысле содержание этого небольшого произведения является не индивидуальным продуктом, но порождением истории. Я чувствую себя — употребляя мистический термин — лишь органом идеи. Мне принадлежит здесь только изложение, к которому я прошу отнестись снисходительно. Я прошу читателя направить свою критику не против неудачной формы изложения, не против того, что и как я говорю, но против того, что я желаю сказать. Я прошу не перетолковывать меня, придираясь к словам, но искать внутренний, общий смысл того, что я говорю. Пусть мне не удалось с успехом развить идеи, пусть поэтому моему голосу будет суждено заглохнуть на нашем переполненном книжном рынке, — дело, в которое я верю, найдет, несомненно, более талантливого представителя.
Иосиф Дицген, кожевник. Зигбург, 15 мая 1869 г.
1. Введение
Сущность и общее выражение всей деятельности науки есть систематизирование. Наука ставит себе целью привести для нашей головы объекты мира в порядок и систему. Научное познание какого-либо языка, например, требует, чтобы мы расчленили его по частям в известном порядке, по общим классам и правилам. Агрономия не только хочет, чтобы картофель взошел; она хочет установить систематический порядок для его разведения, знание которого давало бы нам возможность разводить его с предвидением успеха. Практический результат всякой теории в том и состоит, что она знакомит нас с системой, с методом ее объектов и дает нам возможность действовать в жизни с предвидением успеха. Опыт, правда, является предпосылкой к этому, но одного его недостаточно. Только теория, развитая на основании опыта, только наука освобождает нас от игры случая. Вместе с сознанием она нам дает господство над предметом, и мы с безусловной уверенностью начинаем его применять.
Отдельный человек не может знать всего. Подобно тому, как недостаточно ловкости и силы его рук, чтобы производить все ему необходимое, точно так же голова его недостаточно способна, чтобы знать все, что нужно. Вера человеку необходима. Однако только вера в то, что другие знают. Наука, так же как и материальное производство, есть дело общественное: «один за всех и все за одного».
Но ведь есть телесные потребности, которые каждый может и должен удовлетворять лишь сам; точно так же имеются научные объекты, знание которых требуется от всех и которые поэтому не могут быть отнесены к одной какой-либо специальной науке.
Таким предметом является человеческая способность мышления: познание, понимание, теорию познания нельзя доверять отдельному цеху. Совершенно правильно говорит Лассаль: «Самое мышление стало в наш век разделения труда особым ремеслом, и в самые жалкие руки попало это ремесло: в руки наших газет». Это заставляет нас не допускать в дальнейшем подобного обслуживания, не давать больше общественному мнению вводить нас в заблуждение, а, напротив, принуждает нас самим взяться за дело мышления. Отдельные предметы знания, или науки, мы можем предоставлять специалистам, но мышление вообще есть дело общее, от которого никто не может быть освобожден.
Если бы мы сумели поставить работу мышления на научный фундамент, найти для нее теорию, если бы мы сумели открыть тот способ, при помощи которого наш разум вообще вырабатывает познания, или найти тот метод, согласно которому созидается научная истина, то мы как в области знания, так и в способности суждения об общем приобрели бы ту же самую уверенность в успехе, которую в отдельных дисциплинах наука приобрела уже давным-давно.
Кант говорит: «Если различным людям, работающим в одной и той же области, не удается столковаться относительно того, как разрешить общую им задачу, то мы можем быть вполне убеждены, что в подобных случаях данное исследование еще далеко не попало на верный научный путь, а пока только бродит впотьмах».
Если мы в настоящее время ближе присмотримся к наукам, то мы среди них найдем такие, преимущественно естественные науки, которые соответствуют предъявляемому Кантом требованию и которые, отдавая себе в том полный отчет, не теряясь ни в каких противоречиях, остаются при раз добытом познании и развивают его дальше. «Там, — по словам Либиха, — знают, что есть факт, вывод, правило, закон. Для всего имеются пробные камни, которые применяются каждым раньше, чем пустить плоды своей работы в обращение. Адвокатское отстаивание какого-либо взгляда или намерение заставить кого-нибудь поверить в нечто недоказанное разбиваются моментально о научную мораль».
Напротив, в других областях, там, где мы удаляемся от конкретных, материальных вещей и переходим к абстрактным, так называемым философским предметам, в вопросах общего миро- и жизнепонимания, в вопросах о начале и конце всего существующего, о сущности и кажущихся свойствах вещей, в вопросах о причине или следствии, о силе или материи, о власти или праве, в вопросах житейской мудрости, в морали, религии и политике — мы вместо «убедительного фактического материала» всегда встречаем лишь «приемы адвокатов», нигде не видим надежного знания, а повсюду лишь случайное столкновение противоречивых мнений.
Более того: как раз корифеи естественных наук своим разногласием при разборе подобных тем обнаруживают полную философскую неспособность. А из этого вытекает, что научно обоснованная мораль — пробный камень, который якобы имеется в нашем распоряжении для четкого разграничения между знанием и мнением, — покоится лишь на инстинктивной практике, а не на сознательно усвоенном познании, не на подлинной теории. Хотя и наше время отличается ревностным отношением к науке, тем не менее царящее повсюду разногласие доказывает, что и наука не умеет пользоваться знанием с предвидением успеха. Откуда же иначе все эти недоразумения? Кто понимает, что такое понимание, не впадает в заблуждения. Только безусловная точность астрономических вычислений свидетельствует об их научности. Кто умеет вычислять, знает, по крайней мере, как проверить, правильны или неправильны его вычисления. Точно так же общее понимание мыслительного процесса должно дать нам в руки пробный камень, при помощи которого мы сумели бы вообще отличать понятое в целом и с несомненностью от ложно понятого, знание от предположения, истину от заблуждения. Заблуждаться свойственно человеку, но не науке. Но так как наука есть дело человеческое, то, пожалуй, заблуждения будут встречаться вечно, но понимание процесса мышления должно нас освободить от необходимости выдавать их за научные истины или даже вообще признавать их таковыми: ведь избавляет же нас знакомство с математикой от неверных вычислений. Утверждение: кто так же хорошо знает общее правило, разграничивающее истину и заблуждение, как правила грамматики, отличающие имя существительное от глагола, тот как здесь, так и там будет различать с одинаковой верностью, — это утверждение, может быть, покажется несколько парадоксальным, тем не менее оно правильно. Ученые и книжники всех времен смущали друг друга вопросом: что есть истина? Этот вопрос уже целые столетия является существенной проблемой преимущественно философии. Он находит, наконец, подобно самой философии, свое разрешение в познании мыслительной способности людей. Другими словами: вопрос о признаках истины вообще совпадает с вопросом о различии между истиной и заблуждением. Философия и есть та наука, которая потрудилась в этом направлении: она, разрешив эту проблему, нашла, наконец, при помощи ясного познания мыслительного процесса, свое собственное разрешение. Краткий очерк сущности и развития философии может поэтому послужить введением к нашей теме.
Термин «философия» употребляется в различных значениях, и поэтому я прошу иметь в виду, что здесь идет речь лишь о так называемой спекулятивной философии. Мы не считаем нужным подтверждать все наши слова частыми цитатами и ссылками на источники, так как все нами сказанное так очевидно, так мало может вызвать какие бы то ни было возражения, что великолепно можно обойтись без ученого балласта.
Если применить упомянутый критерий Канта, то спекулятивная философия является скорее ареной борьбы различных мнений, чем наукой. Ее светила, ее классические представители не могут дать вполне единогласного ответа даже на вопрос: что такое философия, чего она хочет? Не желая увеличивать число существующих относительно этого мнений еще одним, нашим собственным мнением, мы будем признавать философией все то, что носит это название, и постараемся отыскать в этой богатой многотомными сочинениями библиотеке то, что обще этим последним, не отвлекаясь в сторону частностями, не имеющими серьезного значения.
Руководствуясь этим эмпирическим критерием, мы прежде всего находим, что первоначально философия не является особенной, отдельной наукой рядом с другими или в ряду других наук, а есть скорее родовое название для знания вообще, понятие, обнимающее собой всю совокупность знания, подобно тому как понятие искусства обнимает собой различные виды искусства. Всякий, кто выбирал специальным предметом занятий знание, головную работу, всякий мыслитель, независимо от содержания его, мыслей, первоначально был философом.
Однако по мере того, как, постоянно развиваясь, человеческое знание обогащалось и отдельные специальности отделялись от «mater sapientiae»[2] особенно со времени возникновения естественных наук, философию начали характеризовать не столько по ее содержанию, сколько по форме. Все другие науки отличаются своим особым предметом исследования, философия же, напротив, своим, ей одной присущим, методом. Она, правда, тоже имеет свой предмет исследования, также преследует особую цель: она хочет понять общее, мир как целое, космос. Но не этот предмет, не эта цель характеризует ее, а только тот способ, которым она эту цель преследует.
Все другие науки имеют своим объектом исследования отдельные вещи или предметы, и если они и занимаются общим, космосом, то всегда лишь в отношении к тем отдельным частям или моментам, из которых состоит вселенная. В своем введении к «Космосу» Александр фон Гумбольдт говорит, что в данном сочинении он ограничивается одним лишь эмпирическим рассмотрением, физическим исследованием, которое, исходя из разнообразного, хочет познавать единообразное, или единство. Таким образом, индуктивные науки вообще доходят до общих выводов или познавания лишь на основе изучения единичного,. своеобразного, чувственно данного. Они поэтому говорят о себе: «Наши выводы покоятся на фактах». Спекулятивная философия поступает как раз наоборот. Даже там, где предметом ее исследования является особый объект, она не рассматривает его, как нечто своеобразное. Откровения чувств, физический опыт, приобретенный при помощи глаз и ушей, рук и головы, спекулятивная философия отвергает как обманчивое явление; она ограничивается «чистым», отвлеченным от всяких предпосылок мышлением, чтобы, идя совершенно противоположным путем, познавать многообразие вселенной при помощи единства человеческого разума. В вопросе, например, который нас сейчас занимает, — в вопросе о том, что такое философия, — она опирается не на свой реальный фактический состав, не на пыльные средневековые фолианты, не на обширные или краткие свои трактаты, чтобы дойти до интересующего нас понятия. Наоборот, спекулятивный философ истинное понятие философии ищет внутри самого себя, в глубинах своего духа, и, только пользуясь найденным уже критерием, он признает чувственно данные объекты правильными или неправильными. Исследованием чувственных объектов спекулятивный метод никогда не занимался, если только не считать философией всякое ненаучное воззрение на природу, наполняющее мир порождениями собственной фантазии. Вначале научная спекуляция также попыталась объяснить движение солнц и миров. Но с тех пор, как индуктивная астрономия с гораздо большим успехом разрабатывает эти области, спекуляция довольствуется всего лишь рассмотрением более отвлеченных тем. Здесь, как и всюду, она характеризуется тем, что делает свои выводы, исходя из идеи, или понятия.
Для эмпирической науки, для индуктивного метода на первом плане стоит многообразие опыта, на втором — мышление. Спекулятивная философия, наоборот, хочет без помощи опыта дойти до научной истины. Философское познание не должно опираться на преходящие факты, а должно быть абсолютным, возвышающимся над пространством и временем. Спекулятивная философия не желает быть физической наукой, она желает быть метафизикой. Ее задача состоит в том, чтобы только из разума, без помощи опыта, найти систему, логику или наукоучение, при помощи которых можно было бы логически и систематически выводить то, что достойно знания, подобно тому как грамматически, имея корень данного слова, мы можем образовать различные его формы. Физические науки исходят из предпосылки, что наша способность познания, применяя известное сравнение, похожа на кусок мягкого воска, который получает свои отпечатки от внешнего мира, или на чистую доску, на которую опыт наносит знаки. Метафизическая философия, напротив, предполагает прирожденные идеи, которые при помощи мышления следует черпать и воспроизводить из глубины духа.
Разница между спекулятивной и индуктивной наукой покоится на различии между фантазией и здравым человеческим рассудком. Последний создает свои понятия при помощи внешнего мира, при помощи опыта, в то время как фантазия создает свой продукт из глубин своего духа, совершенно самостоятельно, из себя. Однако лишь с первого взгляда этот процесс может показаться односторонним. Как живописец не в состоянии изобрести сверхчувственные образы, сверхчувственные формы, точно так же мыслитель не в состоянии мыслить вне опыта лежащие, сверхчувственные мысли. Как фантазия из сочетания человека и птицы создает ангела, из рыбы и женщины — сирену, точно так же все остальные продукты фантазии лишь по видимости созданы ею самой, на самом же деле являются лишь произвольным сочетанием известных впечатлений внешнего мира. Рассудок, разум руководствуется числом, порядком, временем и мерой опыта; фантазия же, не связанная ими, воспроизводит воспринятое в произвольной форме.
Издавна жажда знания, даже тогда, когда индуктивное знание не было возможно вследствие недостатка опыта и наблюдений, побуждала людей объяснять явления природы и жизни из человеческого духа, т. е. спекулятивно. Пытались дополнить опыт спекуляцией. В последующую эпоху, которая могла опереться на более богатый опытный материал, каждый раз обыкновенно признавали предыдущую спекулятивную систему заблуждением. И тем не менее потребовалось повторение в продолжение целых тысячелетий этого акта разочарования, с одной стороны, и многочисленнейших блестящих успехов индуктивного метода, — с другой, прежде чем смогли оставить это спекулятивное дилетантство.
Конечно, и фантазия является положительной способностью, и нередко спекулятивное, основанное на аналогии предугадывание предшествует опытному индуктивному познанию. Тем не менее мы ясно должны сознавать, что и в какой степени является догадкой и что и в какой степени — наукой. Сознательное предугадывание побуждает нас к научному исследованию, в то время как мнимая научность окончательно закрывает дверь индуктивному исследованию. Выработка ясного сознания относительно различия между спекуляцией и знанием есть исторический процесс, начало и конец которого совпадают с началом и концом спекулятивной философии.
В древности здравый человеческий рассудок действовал совместно и неразобщенно с фантазией, индуктивный метод — со спекулятивным. Разобщение начинается только с познанием разнообразных ошибок, которым до новейшего времени была подвержена наша неразвитая способность суждения. Вместо того, чтобы приписать допущенные ошибки недостаточности понимания, причину их усматривали в несовершенстве наших чувств, называли чувства обманщиками, а чувственное явление — не истинным. Кто не знаком со старинными сетованиями на ненадежность чувств? Ложное понимание природы и явлений послужило прежде всего причиной окончательного разрыва с чувственностью. Считали себя обманутыми, в то время как сами себя обманывали. Раздражение, вызванное этим, превратилось в полное презрение к чувственному миру. Подобно тому как до этого без всякой критики доверчиво считали кажущееся истиной, теперь стали под влиянием сомнения совершенно некритически не доверять чувственной истине. Исследование отвернулось от природы, от опыта, и приступило к своей спекулятивной философской работе, опираясь на чистое мышление.
Но нет! Наука никогда не давала настолько совлечь себя с пути здравого человеческого рассудка, отвлечь себя от истины чувственного мира. Вскоре за него вступились естественные науки, и их блестящие успехи придали индуктивному методу сознание плодотворности; в то же самое время философия, со своей стороны, отыскивала систему, при помощи которой удалось бы раскрыть все то великое, общее, что достойно знания, без детального исследования, без чувственного опыта и наблюдения, при помощи одного только разума.
Таких спекулятивных систем теперь у нас более чем достаточно. Если мы к ним приложим упомянутый критерий единодушия, то мы найдем, что характерным их признаком является то, что ни одна не сходится с другими. И история спекулятивной философии в соответствии с этим состоит не в постепенном накоплении знаний, подобно истории других наук, а из ряда неудавшихся попыток разгадать всеобщие загадки природы и жизни при помощи одной лишь мыслительной способности, без привлечения предметного знания или соответствующего опыта. Самая смелая попытка, самое искусное построение было сделано Гегелем в начале XIX столетия; если позволено будет повторить ходячую фразу, то он в научном мире достиг такой же славы, как Наполеон в политическом. Но и гегелевская философия не выдержала своего испытания. «Она, — по словам Гайма («Гегель и его время»), — была устранена развитием мира и живой историей».
В результате получилось то, что философия сама расписалась в собственной несостоятельности. Мы, однако, не станем отрицать, что в основе работы, занимавшей в течение целых тысячелетий наилучшие умы, лежит нечто положительное. И на самом деле, философия имеет свою историю — историю не только в смысле смены неудавшихся попыток, но и в смысле живого развития. Но не предмет, не искомая логическая система мира развивается с ней, а ее метод.
Всякая положительная наука обладает чувственным объектом, данным извне началом, предпосылкой, на которую она опирается. В основе всякой эмпирической науки лежит чувственный материал, данный предмет, вследствие чего ее знание не есть знание независимое, чистое. Метафизическая философия ищет чистого, абсолютного знания. Она хочет познавать без материала, без опыта, из «чистого» разума. Она порождение воодушевленного сознания исключительного превосходства знания или науки над эмпирическим, чувственным опытом. Она поэтому хочет совершенно и всецело выйти за пределы опыта, стремится к абсолютному, чистому познанию. Ее предметом является истина, однако не специфическая истина, не истина той или другой вещи, а истина вообще, истина «в себе». Спекулятивные системы ищут не опирающееся ни на какие предпосылки начало, не поддающуюся никакому сомнению, самодовлеющую точку зрения; для того, чтобы возможно было таким образом вообще ближе определять несомненное. Спекулятивные системы являются в своем собственном сознании совершенными, законченными в самих себе обоснованными системами. Каждая спекулятивная система терпела крушение, поскольку позднее обнаруживалось, что ее цельность, самообоснованность, беспредпосылочность были лишь кажущимися, что и она, подобно другим познаниям, поддалась эмпирическому влиянию извне, что она не есть философская система, а лишь относительное эмпирическое познание. Спекуляция мало-помалу превратилась в науку о том, что знание само по себе или в общем не чисто, что орган философии, познавательная способность, не может начаться без данного начала, что наука не абсолютна, а лишь постольку превосходит опыт, поскольку она может организовать многочисленные опыты, что таким образом всеобщее, объективное познание, или истина «в себе», лишь постольку может быть предметом философии, поскольку из данных отдельных познаний или истин возможно познавать, характеризовать познание или истину вообще. Коротко говоря, философия сводится к нефилософской науке об эмпирической познавательной способности, к критике разума.
Из приобретенного опытным путем знания о различии между кажущимся и истиной исходит новейшая, сознательная спекуляция. Она отрицает всякое чувственное явление, чтобы, не обманываясь кажущимся, найти истину при помощи мышления. Всякий последующий философ всегда приходит к заключению, что добытые таким путем истины его предшественников являются не тем, чем они претендуют быть, и что все их положительное содержание сводится к тому, что они способствовали развитию науки о познавательной способности, о мыслительном процессе. Отрицая чувственность, стремясь отделить мышление от всего чувственно данного, от его естественной оболочки, философия, больше чем какая-либо другая наука, выявила структуру духа. Итак, чем старше она становилась, чем более она развивалась в потоке истории, тем более яркую, классическую форму принимало ее творческое ядро. После создания ряда крупных фантастических измышлений она растворилась в положительном познании, что чистое, философское, отвлекающееся от всякого данного содержания мышление также создаст мышление без содержания, мысли без действительности, т. е. те же измышления. Процесс спекулятивных иллюзий и научного разоблачения этих иллюзий продолжался до новейшего времени, пока, наконец, не начинается разрешение всей проблемы, распадение спекулятивной философии, выразившееся в словах Фейербаха: «Моя философия не есть философия».
Весь смысл спекулятивной работы сводится к познанию рассудка, разума, духа, к разоблачению тех таинственных операций, которые мы называем мышлением.
Таинственность, которой был окутан процесс создания истин познания, незнание того факта, что всякое мышление нуждается в объекте, в предпосылке, являлись причиной того спекулятивного заблуждения, которое мы встречаем в истории философии. Та же таинственность и в настоящее время является причиной тех многочисленных спекулятивных заблуждений и противоречий, которые, между прочим, попадаются нам в выступлениях и сочинениях наших естествоиспытателей. Знание и познавание сделали у них большие успехи, однако лишь постольку, поскольку они имеют дело с вполне доступными предметами. При любой же теме другого, именно абстрактного, характера мы вместо «убедительных фактов» встречаем «адвокатские приемы»; что такое факт, вывод, правило, истина, они знают лишь инстинктивно, в применении к частному случаю, но не в общем, не сознательно, не теоретически. Естественно-научные успехи научили пользоваться инструментом знания, духом, инстинктивно. Недостает, однако, систематического познания, дающего возможность действовать с предвидением успеха, недостает понимания работы спекулятивной философии.
Наша задача будет, таким образом, заключаться в том, чтобы в кратком обзоре выяснить то, что было несознательно и после долгих исканий создано философией положительно-научного, т. е. мы постараемся раскрыть общую природу процесса мышления. Мы увидим, как познание этого процесса дает нам средство научно разрешить всеобщие загадки природы и жизни, как, одним словом, достигается та фундаментальная точка зрения, то систематическое миросозерцание, которое является исконной целью метафизической философии.
2. Чистый разум, или способность мышления вообще
Нередко случается, что мы, говоря о съестных продуктах вообще, употребляем во время разговора слова: плод, злаки, зерно, мясо, хлеб и т. д., как синонимы и, независимо от их различий, они все нами подводятся под понятие «съестные продукты» как нечто совершенно однородное; так же точно и здесь мы говорим о разуме, сознании, рассудке, способности образовывать представления и понятия, различать, мыслить или познавать, как о вещах однородных. Мы имеем здесь дело не с различными классами, а с всеобщей природой мыслительного процесса.
Один из современных нам физиологов говорит: «Ни одному разумному человеку не придет в голову искать местонахождение духовных сил в крови, как древние греки, или в шишковидной железе, подобно средневековым ученым; все теперь уже убедились в том, что и органический центр духовных функций животного организма следует искать в центрах нервной системы».—Совершенно верно! Мышление есть функция мозга, подобно тому как писание есть функция руки. Но физиологическое исследование мозга не приближает нас к вопросу о том, что такое мышление, — точно так же как исследование анатомии руки не в состоянии разрешить задачу, что такое писание. Анатомическим ножом мы можем только заколоть дух, но никак не открыть его. Осознание, что мышление есть продукт мозга, приближает нас к нашему предмету, поскольку этот предмет изымается из области фантазии, где обитают призраки, и освещается дневным светом действительности. Из нематериального, неосязаемого существа дух превращается в телесную деятельность.
Мышление есть деятельность мозга, как хождение есть деятельность ног. Мышление, дух, мы точно так же воспринимаем при посредстве чувств, как мы чувственно воспринимаем хождение, наши боли, наши ощущения. Мышление ощущается нами как субъективное явление, как внутренний процесс.
По своему содержанию этот процесс разнообразится в зависимости от данного момента и от данной личности, по своей же форме он всегда остается одним и тем же. Иначе это можно выразить следующими словами: в мыслительном процессе мы, как и во всяких других процессах, различаем частное, или конкретное, и всеобщее, или абстрактное. Всеобщей целью его, т. е. мышления, является познание. Мы дальше увидим, что сущность самого простого представления, всякого понятия — та же, что и сущность самого глубокого познания.
Нет мышления, нет познания без содержания; точно так же не может быть мышления без предмета, без чего-либо другого, что мыслится, или познается. Мышление есть работа и, подобно всякой другой работе, нуждается в объекте, в отношении к которому оно себя проявляет. На утверждение: я делаю, я работаю, я мыслю, всегда последует вопрос о содержании и предмете: что ты делаешь, над чем работаешь, о чем мыслишь?
Всякое определенное представление, всякое действительное мышление совпадает со своим содержанием, но не со своим предметом. Мой письменный стол как содержание моей мысли совпадает с этой мыслью, не отличается от этой последней. Однако письменный стол вне головы есть совершенно отличный от нее предмет. Содержание разнится от мышления, от акта мышления вообще, только как часть последнего, в то время как предмет является чем-то категориально или существенно различным.
Мы различаем мышление и бытие. Мы различаем чувственный предмет от его духовного понятия. Но тем не менее и нечувственное представление чувственно, материально, т. е. действительно. Я воспринимаю так же материально мою мысль о письменном столе, как я воспринимаю самый письменный стол. Правда, если назвать материальным только осязаемое, мысль будет нематериальной. Но в таком случае и благоухание розы и теплота печки также нематериальны. Может быть, лучше назвать мысль чувственной. Но если нам возразят, что это было бы неправильным употреблением слова, так как наша речь строго различает чувственные и духовные вещи, то мы отказываемся и от этого слова и назовем мысль действительной. Дух действителен, так же действителен, как осязаемый стол, видимый свет, слышимый звук. И, несмотря на то, что мысль отличается от самих этих вещей, она все-таки имеет с ними то общее, что она столь же действительна, как и эти вещи. Дух не больше отличается от стола, света, звука, чем все эти вещи друг от друга. Мы не отрицаем различий, мы только настаиваем на общности природы этих различных вещей. По крайней мере, я надеюсь, что читатель поймет меня правильно, если я назову способность мышления материальной способностью, чувственным явлением.
Всякое чувственное явление нуждается в предмете, на котором оно себя проявляет. Чтобы теплота была, чтобы она была действительной, должен быть предмет, должно быть нечто другое, что можно было бы нагревать. Актив не может быть без сопутствующего ему пассива. Зримое не может быть зримым без зрения, и, наоборот, зрение не может быть зрением без зримого. Подобно всем другим вещам, и способность мышления никогда не является сама по себе и сама в себе, но только в связи с другими чувственными явлениями. Мысль проявляется, подобно всякому действительному явлению, при известном объекте и вместе с ним. Мозговая деятельность есть не в большей и не в меньшей степени «чистая» деятельность, чем деятельность глаза, благоухание моего цветка или теплота печки, или явление стола. Что стол можно видеть, слышать и осязать, что он действителен или воздействует, в такой же сильной или в такой же слабой степени зависит как от его собственной деятельности, так и от деятельности чего-то другого, в связи с которым он действует.
Однако всякая другая деятельность ограничивается особой категорией предметов. Деятельность глаза возбуждает только доступное зрению, деятельность руки — только осязаемое, хождение находит объект свой в измеряемом им пространстве, между тем как для мышления все является предметом. Все познаваемо. Мышление не ограничено особым родом предметов. Всякое явление может быть предметом и, следовательно, также содержанием мысли. Даже больше: все, что мы воспринимаем вообще, мы воспринимаем только благодаря тому, что оно становится материалом для нашей мозговой деятельности. Содержанием и предметом мышления может быть все. Мыслительная способность вообще распространяется на все предметы.
Мы сказали раньше: все познаваемо. Теперь же мы говорим: лишь познаваемое можно познавать, только доступное знанию может быть предметом науки, только мыслимое — предметом мыслительной способности. И способность мышления ограничена в том смысле, что она не в состоянии заменить чтение, слушание, осязание и все другие бесчисленные деятельности чувственного мира. Мы, правда, познаем все объекты, но ни один объект нельзя познать, изучить или понять всецело, до конца. Это значит, что объекты не растворяются в познании. Для зрения требуется нечто такое, что можно было бы видеть, следовательно, нечто большее, чем его видимость; для слушания — нечто такое, что слышится, для мышления — объект, который мыслится, следовательно, опять нечто такое, что и вне нашей мысли, вне нашего сознания, все-таки остается чем-то. Как мы доходим до знания того, что мы видим, слышим, осязаем, мыслим объекты, а не нечто субъективное, это выяснится впоследствии.
Посредством мышления у нас имеется возможность иметь дело с миром в двоякой форме: вне нас — в действительности, внутри нас — в мысли. При этом нетрудно видеть, что вещи в мире созданы иначе, чем вещи в голове. В наиболее совершенном виде, в своем природном протяжении, они в голову проникнуть не могут. Голова воспринимает не самые вещи, а лишь понятия их, представления, их общую форму. Представляемое в нашем мышлении дерево всегда есть общее дерево. Действительное дерево есть дерево, не похожее на какое-либо другое. И если я и это особенное дерево конструирую в своей голове, то мыслимое всегда отличается от чувственного так же, как общее отличается от частного. Бесконечное разнообразие вещей, неисчислимое богатство их свойств не находит себе места в голове.
Мир, находящийся вне нас, явления природы и жизни мы воспринимаем в двоякой форме: в конкретной, разнообразной, чувственной, и в абстрактной, духовной, единообразной. Для наших чувств мир является чем-то многообразным. Голова сводит эти формы к единству. И то, что относится ко всему миру, относится также к каждой особенной части. Чувственное единство есть нечто нереальное (Unding). Даже атом водяной капельки или атом химического элемента, поскольку он действителен, делим и во всех своих частях неодинаков, разнообразен. А не есть В. Но понятие, способность мышления, делает из каждой чувственной части абстрактное целое и понимает каждое чувственное целое или количество как часть абстрактного мирового единства. Чтобы всецело овладеть вещами, мы должны охватить их практически и теоретически, чувством и головой, телом и духом. Телом мы можем охватить только телесное, духом — духовное. Таким образом, и вещам присущ дух. Дух вещественен, и вещи духовны. Дух и вещи действительны лишь в своих взаимных связях.
Можем ли мы видеть вещи? Нет, мы видим лишь одно воздействие вещей на наши глаза. Мы не чувствуем также уксуса, а лишь отношение уксуса к нашему языку. Продуктом является ощущение кислоты. Уксус лишь по отношению к языку проявляет свое действие как нечто кислое; на железо он действует растворяющим образом. При холоде он тверд, при тепле текуч. И он действует столь же различно, сколь различны объекты, с которыми он вступает в отношения в пространстве и времени. Уксус является, как вообще являются все вещи без исключения, но является не как уксус сам по себе и в себе, а лишь в отношении, в связи, в соединении с другими явлениями. Всякое явление есть продукт субъекта и объекта.
Чтобы состоялась мысль, недостаточно одного только мозга или способности мышления: для этого требуется еще объект, предмет, который мыслится. Из этой относительной природы нашей темы (сущность головной работы) вытекает также то, что мы при разборе ее не можем оставаться исключительно в пределах данной темы. Разум, или мыслительная способность, никогда не проявляется сам по себе, а всегда в связи с другими обстоятельствами, и поэтому мы вынуждены, переходя от мыслительной способности к ее объектам, рассмотреть и то и другое совместно.—
Подобно тому как глаз видит не дерево, а лишь то, что в дереве видимо, так и мыслительная способность не в состоянии воспринять самый объект, а лишь его познаваемую духовную сторону. Продукт, мысль, есть дитя, которое порождается на свет божий мозговой деятельностью сообща с каким-нибудь другим объектом. В мысли, таким образом, проявляется, с одной стороны, субъективная способность мышления и, с другой стороны, духовная природа объекта. Всякая функция духа предполагает наличным какой-нибудь предмет, которым она вызывается, который дает материал для духовного содержания. И, с другой стороны, это содержание исходит от предмета, который существует помимо него, который чувственно воспринимается тем или иным способом, который мы видим, слышим, обоняем, осязаем или ощущаем, — одним словом, который нам дан в опыте.
Итак, если мы раньше сказали, что зрение имеет своим объектом лишь доступное зрению, слух — лишь доступное слуху и т. д., что, напротив, способности мышления и познания все служит объектом, то это означает теперь лишь то, что объекты, помимо своих бесчисленных, но индивидуальных чувственных свойств, обладают еще общим духовным свойством, именно, что они могут быть мыслимы, понимаемы, познаваемы, одним словом, могут быть объектами нашей способности мышления.
Это метафизическое определение всех объектов относится также к самой способности мышления, к самому духу. Дух есть телесная, чувственная деятельность, имеющая разнообразные проявления. Он есть мышление, порожденное чувственностью, раскрывающееся во времени, в различных головах, в отношении различных предметов. Как и все остальное, мы и этот дух можем делать предметом особенного мыслительного акта. Как предмет дух есть разнообразный, эмпирический факт, который, прийдя в соприкосновение со специальной мозговой функцией, производит общее понятие о духе как содержании этого мыслительного акта. Предмет мышления отличается от его содержания, точно так же как вообще вещь отличается от ее понятия. Чувственно воспринятая различного рода ходьба служит мышлению предметом, при помощи которого оно доходит до понятия ходьбы как содержания. То обстоятельство, что понятие какого-либо чувственного объекта имеет своего отца и мать, что оно производится нашим мышлением при помощи познанного в опыте предмета, более понятно, менее противоречит здравому смыслу, чем тройственность, имеющая место в том случае, если признать, что наше теперешнее мышление путем самосознания создает свое собственное о себе понятие как продукт. Здесь мы как бы движемся в кругу. Предмет, содержание и деятельность по видимости совпадают. Разум остается сам по себе; он себе служит предметом и отсюда черпает свое содержание. Но благодаря этому различие между вещью и понятием хотя и не столь очевидно, но все же не делается менее существенным, чем в других случаях. Если что-нибудь скрывает от нас истину, то это привычка рассматривать чувственное и духовное как разнородные, абсолютно различные вещи. Необходимость отличать, заставляет нас усматривать разницу между чувственными объектами и их духовными понятиями. Она вынуждает нас точно так же поступать в отношении к способности образовывать понятия, и мы, таким образом, должны назвать чувственным и тот объект, который носит название «дух». Подобной двойственности, пожалуй, ни в одной науке нельзя избегнуть полностью. Читатель, который не цепляется за слово, а доискивается настоящего смысла, поймет, что различие между мышлением и бытием сохраняет полную свою силу также для способности познания, что факт познавания, понимания, мышления и т. д. отличается от понимания этого факта. А так как и это . последнее, т. е. понимание, в свою очередь опять является фактом, то мы себе позволим называть все духовное действительным, или «чувственным».
Разум, или способность мышления, не есть, таким образом, мистический объект, который производил бы отдельную мысль. Наоборот, факт отдельных, познанных опытным путем мыслей является объектом, который в связи с мозговым актом создает понятие о разуме. Разум, подобно всем вещам, которые мы знаем, имеет двоякое существование: одно в опыте, или явлении, другое в сущности, или понятии. Понятие какого-либо объекта предполагает, что он уже познан на опыте. Не в меньшей мере это можно сказать о понятии мыслительной силы. Но так как человек мыслит «per se», то и каждый из нас проделал необходимый этот опыт «per se».
Мы дошли до такого предмета, где спекулятивный метод, желающий выработать свои познания без опыта, из глубины духа, как бы тайком, благодаря чувственной природе объекта, превращается в индуктивный метод и где, наоборот, индукция, строящая свои выводы, понятия, познания только при помощи опыта, становится умозрением благодаря духовной природе ее предмета. Здесь нам теперь важно при помощи мышления проанализировать понятие способности мышления, или познания, разума, знания, или науки.
Создавать и анализировать понятия — это одно и то же, поскольку и то и другое является функцией мозга, деятельностью нашего рассудка. И то и другое имеет общую природу. Но одно все-таки отличается от другого, так же как инстинкт отличается от сознания. Человек прежде всего мыслит не потому, что он хочет, а потому, что он должен. Понятия создаются инстинктивно, непроизвольно. Чтобы выяснить их себе, осознать, чтобы их подчинить знанию и воле, нам нужно их проанализировать. Из опыта хождения мы, например, создаем понятие ходьбы. Анализировать это последнее понятие значит разрешить вопрос, что такое хождение вообще, что является в этом понятии признаком общим. Мы, может быть, ответим: хождение есть ритмическое движение от одного места к другому; этим самым мы инстинктивное понятие превращаем в сознательное, проанализированное. Только при помощи анализа вещь усваивается, становится понятной, — доподлинно или теоретически. Мы хотели знать, из каких элементов образовано понятие хождения, и убеждаемся, что ритмическое движение есть то общее, что присуще всем нашим наблюдениям над тем, что вообще называется «ходьбой». На опыте хождение совершается то короткими, то длинными шагами, то на двух ногах, то на многих; нам также известен ход машины или часов, одним словом — хождение разнообразно. В понятии оно есть только ритмическое движение, и только анализ этого понятия дает нам возможность ясно осознать этот факт. Понятие света существовало задолго до того, как наука его проанализировала, прежде чем она усмотрела, что эфирные волны являются теми элементами, которые образуют понятие света. Инстинктивные и проанализированные понятия отличаются друг от друга так же, как обыденные понятия отличаются от научных.
Анализ какого-либо понятия и теоретический анализ предмета, или вещи, выражаемой данным понятием, — одно и то же. Каждому понятию соответствует действительный предмет. Людвиг Фейербах доказал, что даже понятия бога и бессмертия являются понятиями действительных, чувственных предметов. Чтобы анализировать понятия: животное, свет, дружба, человек и т. д., анализируют предметы: животных, разные виды дружбы, людей, световые явления. Подлежащий анализу предмет понятия животного так же мало есть отдельное животное, как предмет понятия о свете есть какое-нибудь отдельное световое явление. Понятие обнимает род, вещь вообще, и поэтому анализ того, что такое животное, свет, дружба, не должен заниматься отыскиванием чего-либо особого, а, наоборот, общего. Анализ должен разложить род на его элементы.
Если нам и кажется, что анализ понятия и анализ его предмета — вещи различные, то это объясняется нашей способностью расчленять предметы двояким образом: практически, чувственно, осязательным образом, в отдельных частностях, и, кроме того, теоретически, духовно, головой, вообще. Практический анализ является предпосылкой для анализа теоретического. Чтобы анализировать понятие о животном, мы пользуемся существующими чувственно, отдельно друг от друга, животными; чтобы анализировать дружбу, мы пользуемся имеющимися в нашем опыте отдельными случаями дружбы как материалом или предпосылкой.
Каждому понятию соответствует предмет, который практически должен быть разложен на многочисленные отдельные части. Анализировать понятие значит, таким образом, анализировать теоретически уже проанализированный практически предмет. Анализ понятия состоит в познании того общего, что присуще всем отдельным частям его предмета. То, что присуще различным видам хождения — ритмическое движение, создает понятие ходьбы; общее различным световым явлениям создает понятие света. Химическая фабрика анализирует предмет, чтобы добыть химические продукты; наука — чтобы анализировать их понятия.
И наш специальный предмет, способность мышления, отличается от своего понятия. Но, чтобы проанализировать понятие, необходимо проанализировать его предмет. Не химически, — ибо не все относится к области химии, — а теоретически, или научно. Науке, или разуму, принадлежат, как уже было сказано, все предметы. Но все предметы, понятия которых наука хочет проанализировать, должны быть прежде аналитически изучены на практике; они в зависимости от своих свойств должны быть или испытаны разнообразными способами, или внимательно осмотрены, или к ним нужно внимательно прислушиваться, одним словом — они должны быть основательно познаны на опыте.
То обстоятельство, что человек мыслит, способность мышления, есть чувственно познанный факт, Факты дают нам повод или предмет, из которого мы инстинктивно образуем понятие. Поэтому анализировать понятие способности мышления значит отыскивать общее или всеобщее в различных, индивидуальных, временных мыслительных актах действительности. Чтобы произвести такое исследование, согласно естественно-научному методу, мы в данном случае не нуждаемся ни в физических инструментах, ни в химических реактивах. Чувственное наблюдение, необходимое для каждой науки, для каждого познания, здесь дано нам как бы a priori. Предмет нашего исследования, факт способности мышления и опытное с ним знакомство, имеется у всякого при наблюдении над самим собой.
Если мы раньше установили, что как инстинктивное понятие, так и научный его анализ везде и повсюду из чувственного, частного, конкретного выводят абстрактное, или всеобщее, то, другими словами, это значит: общее всем отдельным мыслительным актам заключается в том, что они в своих предметах, являющихся в чувственной своей телесности в разнообразном виде, отыскивают всеобщее, единство как таковое. То всеобщее, что одинаково присуще различным животным, различным световым явлениям, является тем элементом, из которого образуются родовые понятия животного и света. Всеобщее есть содержание всех понятий, всякого познания, всякой науки, всяких актов мышления. Итак, анализ способности мышления показывает, что она есть способность распознавать из частного общее. Глаз исследует видимое, ухо воспринимает слышимое, а наш мозг — всеобщее, т. е. познаваемое, или то, что доступно знанию.
Мы видели, что мышление, подобно всякой другой деятельности, нуждается в объекте; далее, что оно не ограничено в выборе своих объектов; что все, без всякого ограничения, может стать объектом способности мышления; что эти объекты даются нам чувственно в разнообразном виде и что мыслимость их в том и состоит, чтобы эти явления, путем извлечения сходного в них, однообразного или всеобщего, превратить в простые понятия. Если мы этот познанный опыт или опытное познание о всеобщем методе мыслительной способности применим к нашей задаче, то ясно, что она этим самым и разрешена, так как мы только ведь и желали отыскать всеобщий метод способности мышления.
Если развитие общего из частного есть тот общеобязательный метод, тот способ, при помощи которого вообще разум достигает познания, то этим самым разум вполне может быть понят как способность извлекать общее из частного.
Мышление является телесной работой, которая так же мало, как и всякая другая работа, может существовать или проявлять себя без материала. Чтобы мыслить, у меня должна быть материя, о которой можно размышлять. Эта материя дана в явлениях природы и жизни. Явления эти и составляют то, что мы называем частным. Если раньше все, или вселенную, мы называли объектом мышления, то это значит, что материя мыслительной работы, предмет разума, бесконечны; бесконечны по своему количеству и не ограничены по своему качеству. Материя, служащая материалом для нашей способности мышления, так же бесконечна, как пространство, так же вечна, как время, и столь же абсолютно разнообразна, как содержание обеих этих форм. Способность мышления именно потому есть универсальная способность, что она вступает в связь со всем — со всеми материями, со всеми вещами, со всеми явлениями, иначе говоря — создает мысли. Но она все-таки не есть абсолют, потому что для бытия, для того чтобы проявлять себя, она нуждается в известных предпосылках, а именно в мире явлений, материи. Материя есть предел духа: он выйти из этого предела не в состоянии. Она дает ему фон для его освещения, но не совпадает с этим освещением. Дух есть продукт материи, материя, однако, есть нечто большее, чем продукт духа, она нам также сродни благодаря нашим пяти чувствам, являясь в то же время продуктом нашей чувственной деятельности. Только такие продукты, которые открываются нам и через чувства и через дух одновременно, мы называем действительными, объективными продуктами, вещами «в себе».
Разум является настоящей, действительной вещью лишь постольку, поскольку он чувственный. Чувственная деятельность разума проявляется как в голове человека, так и объективно, во внешнем мире. Разве не осязаема деятельность разума, при помощи которой он преобразует природу и жизнь? Мы видим успехи науки нашими глазами и осязаем их руками. Правда, знание или разум одни не в состоянии из себя воспроизводить все эти материальные действия. Для этого требуется, чтобы был дан мир чувственности, внешние объекты. Но какая вещь проявляет себя «сама по себе и сама в себе»? Чтобы свет освещал, чтобы солнце грело и совершало свое круговращение, должны быть даны пространство и вещи, которые освещаются, согреваются, вокруг которых солнце вращается. Прежде чем мой стол мог бы быть определенного цвета, должны быть даны свет и глаза, и всем, чем он является вообще, он является лишь в связи со всем остальным, и его бытие столь же разнообразно, сколь разнообразны эти связи, эти отношения. Это значит, что мир существует лишь в связи. Вещь, вырванная из этой связи, прекращает свое существование. Вещь существует для себя, только существуя для другой, проявляя себя или действуя.
Если за «вещь в себе» мы примем мир, то легко понять, что мир «в себе» и мир, как он нам является, явления мира, отличаются друг от друга не больше, чем целое и его части. Мир в себе есть не что иное, как сумма его явлений. Точно так же обстоит дело и с той частью мирового явления, которую мы называем разумом, духом, способностью мышления. Хотя мы и различаем способность мышления от ее проявлений и действий, но способность мышления «в себе», «чистый» разум, действительно существует лишь в сумме ее «проявлений. Зрение есть телесное существование зрительной способности. Мы обладаем целым лишь через посредство его частей и, подобно всем вещам, обладаем разумом также только через посредство его действий, через посредство отдельных мыслей. Как мы уже указали, не мыслительная способность есть первичное по времени, не она предшествует мысли. Наоборот, мысли, созданные на чувственных объектах, служат тем материалом, из которого возникает понятие мыслительной способности. Подобно тому как изучение движения небесных светил доказало нам, что не солнце вращается вокруг земли, точно так же и изучение мыслительного процесса доказывает нам, что не мыслительная способность создает мысли, а что, наоборот, понятие мыслительной способности образуется из отдельных мыслей. Таким образом, подобно тому как зрительная способность практически существует лишь благодаря всей сумме наших зрительных восприятий, так и мыслительная способность практически есть общая сумма наших мыслей.
Эти мысли — практический разум — служат материалом, из которого наш мозг создает чистый разум как понятие. Разум на практике по необходимости не чист, т. е. он всегда занят каким-либо особым объектом. Чистый разум, разум без особого содержания, не может быть не чем иным, как тем общим, что присуще отдельным актам разума. Это общее имеется у нас в двояком виде: не чисто, практически, или конкретно, как сумма действительных явлений, и чисто, теоретически, или абстрактно, в понятии. Явление разума отличается от разума «в себе», подобно тому как животные в жизни, в чувственной действительности, отличаются от понятия животного вообще.
Для каждого акта разума, или познания, другое действительное явление служит предметом, который, соответственно природе всего действительного, многообразен или разнообразен. Из этого отличающегося разнообразием предмета мыслительная способность извлекает единообразное, или общее. Мышь и слон теряют свое различие в единообразном, общем понятии животного. Понятие сводит многообразное к единству, из частного развивает общее. Так как понимание составляет то, что обще всем актам разума, то этим подтверждается положение, что разум вообще, или общая сущность мыслительной и познавательной способности, состоит в том, чтобы из какого-нибудь данного, действительного, чувственного явления выделять сущность, всеобщее, духовное.
Так как разум в действительности не может существовать, не может проявлять себя без объекта, то понятно, что «чистый» разум, разум «в себе», мы можем познавать лишь из его практики. Так же как невозможно найти глаз без света, невозможно найти разум без тех предметов, в связи с которыми он себя произвел. Сколь многообразны предметы, столь же многообразны явления разума. Повторяю, не сущность разума проявляется, а, наоборот, из явлений мы образуем понятие сущности, разума в себе, или чистого разума.
Только в связи с чем-то другим, с чувственными явлениями вызываются духовные акты мышления. Они через это сами стали чувственными явлениями, которые в связи с определенной мозговой функцией создают понятие «мыслительной способности в себе». Если мы проанализируем это понятие, то окажется, что разум в «чистом виде» проявляет себя в деятельности, когда из данного материала — сюда относятся также нематериальные ряды мыслей — он создает общие понятия. Другими словами, разум характеризуется как деятельность, которая всякое многообразие сводит к единству, всякое различие к однородному, которая сглаживает всякие противоречия. Это только различные слова для одной и той же вещи, чтобы читатель мог получить не пустое слово, а живое понятие, разнообразный объект в соответствии с его общей сущностью.
Мы уже говорили, что разум в чистом его виде сводится к развитию общего из частного, к отысканию родового, или абстрактного, в конкретном, или чувственно данном. Это только и является всецело содержанием разума, понимания, знания, сознания. Слова «только» и «всецело» обозначают, однако, только то, что ими дано общее содержание различных актов мышления, общая форма разума. Наряду с этой общей, абстрактной формой разум, как и все вещи, имеет также свою конкретную, особенную чувственную форму, которую мы воспринимаем непосредственно путем опыта. Вся восприимчивость сознания сводится, таким, образом, к его чувственному опыту, т. е. к его телесной ощутимости и к его познанию. Познание есть общая форма какой-либо вещи.
Сознание по существу своему уже есть знание бытия, другими словами, — форма, свойство, отличающееся от других свойств бытия тем, что оно сознается. Качества нельзя объяснять, их можно только узнать на опыте. Из опыта мы знаем, что вместе с сознанием, со знанием бытия, даны нам разделение на субъект и объект, различие, противоположность, противоречие между мышлением и бытием, между формой и содержанием, между явлением и сущностью, между акциденцией и субстанцией, между частным и общим. Этим имманентным противоречием сознания объясняется также тот противоречивый факт, что оно служит, с одной стороны, для обозначения органа общего, способности к обобщению и сведению к единству, а с другой стороны, и с не меньшим правом, для обозначения нашей способности различать. Сознание обобщает различное, различает общее. Природа сознания — это противоречие, и эта природа настолько противоречива, что она в то же время является и природой примирения, пояснения, понимания. Сознание обобщает противоречие. Оно познает, что вся природа, все бытие живет противоречиями, что все, что есть, является тем, что оно есть, только через содействие чего-либо другого, чего-либо противоположного. Как доступное зрению без зрения незримо и, наоборот, как глаз ничего не видит, если нет налицо доступного зрению, так и противоречие должно быть познано как нечто общее, господствующее над мышлением и бытием. Наука о мыслительной способности, обобщая противоречие, этим самым разрешает все противоречия.
3. Сущность вещей
Поскольку познавательная способность есть явление физическое, постольку соответствующая наука — наука физическая. Поскольку же мы, однако, при помощи этой способности познаем все вещи, наука о ней становится метафизикой. И если научный анализ разума совершенно переворачивает наше воззрение на его сущность, то это специальное знание неизбежно влечет за собою общий переворот всего нашего мировоззрения. Вместе с познанием сущности разума дано так долго отыскиваемое познание «сущности вещей».
Все, что доступно знанию, разумению, пониманию, познаванию, мы хотим воспринимать не в его являемости, а в его сущности. При помощи того, что? кажется, наука исследует то, что? есть на самом деле, сущность вещей. Каждая вещь имеет свою особую сущность, которая, однако, является не глазу, не уху, не руке, а только способности мышления. Способность мышления исследует сущность всех вещей, как глаз — все доступное зрению. И подобно тому как видимое вообще находит свое объяснение лишь в теории зрения, так и сущность вещей познается в общем нами только в теории мыслительной способности.
Если мы здесь говорим, что сущность какой-либо вещи является не глазу и т.д., а способности мышления, то, пожалуй, покажется противоречивым, что сущность — противоположность явления — является. Однако в том же самом смысле, в каком мы в предыдущей главе называли духовное чувственным, мы здесь сущность называем явлением; в дальнейшем мы покажем, что всякое бытие есть видимость, и, как всякая видимость в большей или меньшей степени, в сущности, есть бытие.
Мы видели, что способность мышления нуждается в предмете, материи, материале, чтобы действовать, чтобы быть действительной. Действие способности мышления проявляется в науке, причем безразлично, возьмем ли мы слово «наука» только в тесном, классическом, или в самом широком ее смысле, согласно которому всякое без исключения знание есть наука. Чувственное явление есть общий предмет или материал для науки. Чувственное явление есть, как известно, неограниченный обмен веществ. Мир и все в нем находящееся состоит из пространственно сосуществующих и во времени следующих друг за другом изменений вещества. Она, чувственность, или вселенная, в каждом месте и во всякое время своеобразна, нова и дана впервые. Она возникает и исчезает, исчезает и возникает у нас под руками. Ничто не остается неизменным, постоянна одна лишь вечная смена, да и сама смена бывает различной. Каждая частица времени и пространства приносит с собой новые изменения. Правда, материалист утверждает, что материя постоянна, вечна, непреходяща. Он учит нас, что никогда еще не утрачивался ни один атом мировой материи, что материя лишь вечно меняет свои формы, но что свойственная ей сущность нерушимо сохраняется везде и повсюду. И тем не менее, несмотря на это различие между самой материей и преходящей ее формой, материалист, более чем кто-либо другой, склонен подчеркивать тождество формы и материи. Когда он иронически говорит о бесформенных материях и нематериальных формах, а затем заводит речь о преходящих формах вечной материи, то ведь ясно, что материализм так же мало, как идеализм, в состоянии разъяснить нам отношение между формой и содержанием, явлением и сущностью. Где же мы, таким образом, находим ту вечную, непреходящую и бесформенную материю? В чувственной действительности мы встречаемся постоянно лишь с оформленными, преходящими веществами. Вещество существует, правда, повсюду. Там, где что-нибудь исчезает, там что-нибудь и возникает. Но нигде на практике не была открыта единая, всегда равная себе, переживающая всякую форму материя. Даже неразлагающийся химически элемент в своей чувственной действительности есть лишь относительное единство; вообще же, рассматриваемый во времени и в пространстве, он различен, в разных положениях и в разные моменты, настолько же различен, как какой-нибудь органический индивид, меняющий также лишь свои формы, но по существу своему, с точки зрения общего, остающийся неизменным, одним и тем же от начала до конца. Мое тело беспрестанно меняет плоть и кровь и все, что с ним связано, и тем не менее всегда остается тем же самым. В чем же заключается это отличное от своих изменчивых проявлений тело? Ответ: в цельности, в сведенной к единству сумме его разнообразных форм. Вечная материя, непреходящая материя, действительно или практически существует лишь как сумма ее преходящих проявлений. «Вещество непреходяще» — может лишь означать, что везде, во все времена есть вещество. Если правильно утверждение, что изменения происходят в материи, что материя нечто постоянное, что лишь изменения сменяют друг друга, то столь же правильно обратное: что материя состоит в изменениях, что материя и есть то, что меняется, и что только постоянная смена есть то, что неизменно. Материальное изменение и изменяющаяся материя — это только различные фразы.
В чувственном мире, в практике, нет ничего постоянного, неизменного, нет сущности, нет «вещи в себе». Все есть смена, изменение, если угодно — призрак. Одно явление следует за другим. «Все же, — говорит Кант, — существуют вещи в себе, в противном случае возникало бы непонятное противоречие, а именно, что существуют явления без чего-то такого, что является». Так нет же! Явление отличается от того, что является, не больше и не меньше, чем десятимильное протяжение какого-либо пути от самого пути или чем рукоятка с клинком отличается от ножа. Хотя мы в ноже и различаем рукоятку и клинок, но все же нож есть не что иное, как эта самая рукоятка и этот самый клинок. Сущность мира есть абсолютная изменчивость. Явления являются — вот и все!
Противоречие между «вещью в себе», сущностью, и ее явлением находит свое полное разрешение в исчерпывающей критике разума, в признании, что мыслительная способность понимает любое число чувственно данного многообразия как духовное единство, как одну сущность, — в том, что она, мыслительная способность, в частном или различном воспринимает однородное, или всеобщее, и рассматривает все, что ей попадается на пути, как отдельную часть большого целого.
Другими словами: абсолютно относительная, мимолетная форма чувственного мира служит нашей мозговой деятельности материалом, который, согласно известным правилам, должен быть приведен в порядок, систематизирован для нашего сознания путем абстрагирования, по признакам сходства или общности. Неограниченная по своему многообразию чувственность проходит мимо духа, субъективного единства, и он, дух, создает из многого единое, из части целое, из явлений сущность, из преходящего непреходящее, из акциденций субстанцию. Реальное, сущность, или «вещь в себе», есть создание идеальное, духовное. Сознание умеет суммировать единства из различий. Количество этого суммирования произвольно. Вся множественность вселенной теоретически постигается как единство. С другой стороны, всякое незначительное абстрактное единство практически разлагается на бесконечное разнообразие чувственного явления. Где мы можем найти практическое единство вне головы? 2/2, 4/4 , 8/8, бесконечное число отдельных частей есть тот материал, из которого разум составляет математическую единицу. Эта книга, эти ее листы, буквы или части их — разве это единства? Где я начинаю и где кончаю? С одинаковым правом я могу назвать библиотеку, состоящую из многочисленных томов, дом, двор и, наконец, весь мир единством. Разве не каждая вещь есть часть, разве не каждая часть есть вещь? Разве цвет какого-нибудь листа в меньшей степени вещь, чем самый этот лист? Может быть, захотят назвать цвет лишь свойством, а лист материей, или субстанцией, хотя бы потому, что лист без цвета может существовать, но никак не цвет без листа? Но подобно тому как мы, черпая песок из кучи, можем безусловно исчерпать ее всю, точно так же мы, лишая лист его свойства, в то же время лишаем его, без всякого сомнения, всей материи, или субстанции. Как цвет есть лишь суммарное взаимодействие света, листа и глаза, так и «остальная материя» листа есть лишь совокупность различных взаимодействий. Как наша мыслительная способность срывает с листа свойство цвета и фиксирует его как «вещь в себе», так и мы можем лишить лист какого угодно количества свойств, однако не без того, чтобы вместе с этим лишить его в большей или меньшей степени материи. Цвет по своему свойству не в меньшей мере материя, или субстанция, чем самый лист, и лист не в меньшей мере чистое свойство, чем тот же цвет. Как цвет есть свойство листа, так лист есть свойство дерева, дерево — свойство земли, земля — свойство мира. Только мир есть, собственно говоря, субстанция, вещество вообще, в сравнении с которой все особенные вещества являются лишь свойствами. На примере этого же мирового вещества становится очевидным, что сущность, вещь в себе, в отличие от явлений, есть лишь мысленная вещь.
Всеобщее стремление духа перейти от акциденций к субстанции, от относительного к абсолютному, дойти через видимость до истины, до вещи «в себе», раскрывает в конце концов результат этого стремления, субстанцию, как собранную мыслью сумму акциденций и вместе с тем дух, или мысль, как единственную субстанциальную сущность, которая из чувственного - разнообразия создает единство и воспринимает преходящие вещи, или свойства мира, объединяя их как самостоятельную сущность «в себе», как нечто абсолютно целое. Если дух не удовлетворяется одними только свойствами, если он беспрестанно доискивается субстанции, если он отворачивается от кажущегося и стремится к истине, к сущности, к «вещи в себе», если, наконец, эта субстанциальная истина оказывается суммой мнимых неистин, совокупностью явлений, то этим самым дух показывает, что он есть творец субстанции, который, однако, создает ее не из ничего, а из акциденций, создает истину из кажущегося.В противовес идеалистическому взгляду, что за явлением всегда скрывается сущность, которая является, следует выдвинуть положение, что эта скрытая сущность живет не во внешнем мире, а внутри человеческой головы, совершенно обособленно. Но так как голова различает между видимостью и сущностью, между частным и общим лишь на основе чувственного опыта, то, с другой стороны, нельзя упускать из виду, что эти сущности даны если не за явлениями, то во всяком случае через посредство явлений, что они существуют объективно, что наша способность мышления есть существенная, реальная способность.
Не только о физических, но также о духовных вещах, и, с метафизической точки зрения, обо всех вещах можно сказать, что они суть то, что они суть, не «в себе», не в сущности, а лишь в связи с другими вещами, в явлении. В этом смысле мы можем говорить: вещи не суть, но являются, и являются в разнообразных формах, соответствующих разнообразию других явлений, с которыми время и пространство приводят их в связь. Положение: «вещи не суть, но являются», нуждается, однако, во избежание всяких недоразумений, в дополняющем его другом положении: «то, что является, есть», но лишь постольку, поскольку оно является. «Самой теплоты мы не в состоянии воспринимать, — говорит профессор Коппе в своей «Физике», — мы только на основании действий ее можем заключить о наличности этого фактора в природе». Так заключает естествоиспытатель, ищущий познания какой-либо вещи в тщательном индуктивном исследовании ее действий, но восполняющий, однако, недостаточное свое знакомство с теоретической логикой спекулятивной верой в таинственную «вещь в себе». Мы, наоборот, от невоспринимаемости самой теплоты заключаем, что ее на самом деле нет, что этот фактор «в себе» в природе не существует; мы скорее понимаем действия теплоты как нечто материальное, как материал, из которого человеческая голова создала понятие «самой теплоты». Потому ли, что наука не сумела еще проанализировать это понятие, названный профессор говорит, что мы не в состоянии воспринимать предмет понятия теплоты. Сумма ее различных действий — это и есть сама теплота, теплота в настоящем своем виде. Мыслительная способность воспринимает в понятии это различие как единство. Анализ понятия, открытие того, что есть общего между различными явлениями или действиями, охарактеризованными нами как теплые, это есть дело индуктивной науки. Отделенная же от своих действий теплота, однако, есть метафизическая фикция, похожая на лихтенберговский нож без рукоятки и клинка.
Мыслительная способность в связи с чувственными явлениями созидает сущности вещей. Она созидает их, однако, не одна, не без наличия права на то, не субъективно, так же как и глаз, ухо или какое-либо другое из наших чувств не в состоянии производить свои впечатления без надлежащего объекта. Мы видим и осязаем не «самые» вещи, а только их действия на наши глаза, руки и т. д. Способность мозга выводить из различных зрительных впечатлений общее дает нам возможность отличать зрение вообще от отдельных актов зрения. Мыслительная способность различает отдельное видение как объект зрения вообще, она различает также между субъективными и объективными явлениями зрения, т. е. явлениями, которые доступны не только отдельному глазу, но глазу вообще. Даже видения духовидца, или субъективные впечатления, сверкающие молнии, светящиеся круги, представляющиеся закрытому глазу волнующегося человека, для критического сознания являются объектом. Объект, отстоящий на многомильном расстоянии, блистающий в ярком свете дня, качественно не в большей и не в меньшей степени внешен, не в большей или меньшей степени истинен, чем какое либо обманчивое оптическое явление. Тот, у кого звенит в ухе, слышит если и не звон колоколов, то все же слышит что-то. Каждое чувственное явление есть объект, и каждый объект есть чувственное явление. Субъективный объект есть призрачное явление; точно так же объективное явление все же есть только преходящий субъект. Объективный предмет может быть более внешним, отдаленным, постоянным, всеобщим, но сущностью, «вещью в себе», он быть не может. Может быть, он является не только моим, но и другим глазам, не только зрению, но и чувству, слуху, вкусу и т. д., не только людям, но и другим объектам, но все же он только является. Каков он здесь, не таков он там, каков он сегодня, не таков он завтра. Всякое существование относительно, связано с другим, протекает рядом с другим или после другого в различных отношениях.
Всякое чувственное впечатление, всякое явление есть подлинный, действительный объект. Истина существует чувственно, и все, что существует, истинно. Бытие и видимость суть лишь отношения, но не противоположности; да вообще все противоположности исчезают перед нашей обобщающей или мыслительной способностью, так как именно она дает нам возможность опосредствовать все противоречия и так как только она умеет находить единство во всяком различии. Бытие, существительное от слова «быть», всеобщая истина, есть всеобщий объект, всеобщий материал мыслительной способности. Этот материал дан нам в разнообразном виде, он дан нам через посредство чувств. Чувства дают нам материю вселенной как нечто абсолютно качественное; это значит, что качественность чувственной материи дана мыслительной способности в абсолютно разнообразном виде не вообще, не в сущности, а лишь относительно, лишь в явлении. Из отношения, из связи чувственного явления с нашей мыслительной способностью возникают определенные количества, сущности, вещи, истинные познания или познанные истины.
Сущность и истина суть два названия одной и той же вещи. Истина, или сущность, имеет теоретическую природу. Мы, как нами уже было указано, воспринимаем мир в двояком виде — чувственно и духовно, практически и теоретически. Практика дает нам явление, теория — сущность вещей. Практика есть предпосылка теории, явление есть предпосылка сущности, или истины. Та же истина является на практике иногда в данное время, иногда в другое и существует теоретически как компактное понятие.
Практика, явление, чувственность, абсолютно качественны, т. е. у чувственности нет количественного признака, никаких границ в пространстве и во времени, но зато ее качественность абсолютно разнообразна. Как бесчисленны части какой-либо вещи, так бесчисленны и ее свойства. Функция мыслительной способности, теория, состоит, наоборот, в том, чтобы быть абсолютно количественной, чтобы по собственному усмотрению в безграничном числе составлять количества, чтобы понимать каждую качественность чувственного явления как количественность, как сущность, как истину. Каждое понятие имеет своим предметом известное количество чувственного явления. Каждый предмет может быть воспринят или понят мыслительной способностью как определенное количество, как единство, как сущность, или истина.
Способность образовывать понятия производит в контакте с чувственным явлением то, что является, что действительно, что истинно, что обще всем, или всеобще. Понятие делает это первоначально лишь инстинктивно; научное же понятие повторяет это действие со знанием и волей. Научное познание, стремящееся познать какой-нибудь объект, например теплоту, не нуждается в явлении, не хочет слышать или видеть, как теплота расплавляет то железо, то воск, то причиняет удовольствие, то боль, то превращает яйца в твердое состояние, лед — в жидкое; оно не стремится устанавливать различия между теплотой животных, солнца и печки. Все это в отношении мыслительной способности лишь действия, явления, свойства. Мыслительная способность стремится к сути, к сущности, т. е. к суммарному всеобщему закону виденного, слышанного и перечувствованного, к краткому научному извлечению. Сущности вещей не могут быть чувственными, практическими предметами. Сущности вещей суть предметы теории, науки, мыслительной способности. Познание теплоты состоит в том, что мы на явлениях, охарактеризованных нами как тепловые, воспринимаем общее всем, всеобщее, сущность, или истину. Сущность теплоты практически состоит в сумме ее явлений, теоретически — в ее понятии и научно — в анализе этого понятия. Анализировать понятие теплоты значит открыть общее, что находится в явлениях теплоты.
Общее есть подлинное бытие, общее есть подлинное свойство какой-либо вещи. Мы дождь определяем правильнее как мокрый, чем как плодоносный, так как первое его свойство проявляется гораздо шире, более обще, а второе лишь то там, то здесь. Моим подлинным, моим постоянным другом является тот, кто дружественно ко мне настроен всю свою жизнь, вообще, как сегодня, так и завтра. Правда, мы так же мало должны верить в совершенно общую, абсолютную дружбу, как в какую-нибудь другую абсолютную истину. Совершенно истинным, совершенно общим является лишь бытие вообще, вселенная, абсолютное количество. Действительный мир, напротив, абсолютно относителен, абсолютно преходящ, преисполнен видимостей, он неограниченное качество. Все истины суть лишь составные части этого мира, частичные истины. Видимость и истина, подобно мягкому и твердому, доброму и злому, правильному и неправильному, диалектически переходят друг в друга, что, однако, нисколько не уничтожает их различий. Даже если я знаю, что нет плодоносного «в себе» дождя, истинного «в себе» друга, я все же могу называть некоторый дождь в отношении к определенным посевам плодоносным и различать среди моих друзей более истинных от менее истинных.
Всеобщее есть истина. Всеобщее есть то, что обще всему, т. е. существование, чувственность. Бытие есть общий признак истины, потому что общее есть признак истины. Но все же бытие не существует вообще; это значит: общее существует в действительности, или в чувственности, только в каком-либо особенном виде. Чувственность имеет свое подлинное, настоящее существование в мимолетных, многообразных явлениях природы и жизни. В соответствии с этим все явления оказываются относительными истинами, все истины — отдельными временными явлениями. Явление практики есть истина в теории, и, наоборот, истина теории проявляется в практике. Противоположности взаимно обусловливаются, истина и заблуждение, подобно бытию и явлению, подобно смерти и жизни, подобно свету и мраку, подобно всем вещам в мире, различны лишь сравнительно, лишь количественно, по объему или по степени. Само собой разумеется, что все вещи мира — мирские вещи (weltlich), т. е. одной материи, одной сущности, одного рода, одной качественности. Другими словами: каждая частица чувственной видимости образует в связи с человеческой способностью мышления сущность, истину, общее. Для сознания как отдельная пылинка, так и целое облако пыли, как вообще всякая большая масса мирового многообразия есть, с одной стороны, сущность, «вещь в себе», а с другой — все же лишь мимолетная видимость абсолютного объекта, вселенной. В пределах этой вселенной различные явления произвольно систематизируются или обобщаются при помощи нашего духа (сообразно целям). Как химический элемент, так и органическая клетка являются столь же разносторонней системой, как все царство растений. Самое маленькое, как и самое большое существо делится на индивиды, виды, семейства, классы и т. д. Эта систематизация, это обобщение, это создавание сущностей идет по восходящей линии до бесконечности целого, по нисходящей же — до бесконечности частей. В отношении мыслительной способности все свойства становятся сущностями — вещами, все вещи — относительными свойствами.
Всякая вещь, всякое чувственное явление, как бы субъективно, как бы эфемерно оно ни было, истинно, есть бо?льшая или меньшая доля истины. Другими словами: истина существует не только в общем бытии, но каждое отдельное бытие имеет также свое особенное общее, или истину. Всякий предмет — как самая мимолетная идея, так и эфирный запах, так и осязаемая материя — есть известное количество многообразного явления. Способность мышления делает из многообразия одно количество, улавливает в различном сходное, во множественном единое. Дух и материя имеют, по крайней мере, то общее, что они существуют. Органическая природа имеет с неорганической, по крайней мере, то общее, что они материальны. Правда, человек, обезьяна, слон и прикрепленное к почве животное-растение безусловно различны toto genere[3] но тем не менее одним понятием «организм» мы охватываем еще большие различия. Как бы камень ни отличался от человеческого сердца, мыслящий разум находит между ними бесчисленные сходства. Они, по крайней мере, совпадают в своей вещественной, материальной природе, они оба весомы, доступны зрению, осязаемы и т. д. Сколь велико их различие, столь же велико их единство. Насколько прав Соломон со своим утверждением, что нет ничего нового под солнцем, настолько же прав Шиллер, сказавший, что «мир стареет и все снова и снова молодеет». Какая абстрактная вещь, какое существо, какое бытие вообще в своем чувственном существовании не многообразно, не индивидуально, не совершенно отлично от всего остального? Ведь даже две капли воды не похожи друг на друга! Я сейчас совершенно не тот, каким я был час тому назад, и равенство между мной и моим братом лишь количественное, лишь по степени больше, чем равенство или сходство между карманными часами и устрицей. Одним словом, способность мышления есть абсолютная родовая способность, она неограниченно подводит под одну крышу все разнообразие; она обнимает, охватывает, без исключения, все вместе, в то время как для чувственности абсолютно все является как нечто различное, новое, индивидуальное.
Если мы эту метафизику применим к нашей теме, к познавательной способности, то ее функции будут, подобно всем остальным вещам, относиться к чувственным явлениям, которые все, сами по себе и сами в себе, одинаково истинны. В основе всех проявлений духа, всех мыслей, мнений, заблуждений и т. д. лежит известная истина, в основе всех скрывается зерно истины. Подобно тому как живописец по необходимости заимствует все формы своего творчества у чувственности, точно так же все мысли по необходимости суть картины подлинных вещей, суть теории подлинных объектов. Поскольку знание есть знание, само собой разумеется, что при всяком познании что-либо познается. Поскольку знание есть знание, само собой понятно, что каждым знанием что-либо узнается. Это вытекает из закона тождества: а = а, или же из закона противоречия: 100 не есть 1000.
Все познания суть мысли. Можно спорить против обратного положения, что все мысли — познания. Можно определить понятие «познавать» как особый способ мышления, как истинное, объективное мышление, в отличие от понятий «полагать», «верить» или «фантазировать». Но все же нельзя отрицать того факта, что всем мыслям, несмотря на все их бесконечное разнообразие, присуща также одна общая природа. С мышлением перед форумом мыслительной способности случается то же самое, что и со всем остальным, а именно — оно становится единообразным. Как бы ни различались мое вчерашнее мышление и мое сегодняшнее мышление, как бы ни были различны мысли различных людей и времен, как бы резко мы ни разграничивали между идеей, понятием, суждением, заключением, представлением и т. д., поскольку все это суть духовные проявления, они обладают также одинаковой, общей, однообразной сущностью.
Из этого вытекает, что различие между истинными и ошибочными мыслями, между знанием и заблуждением, имеет, как вообще всякое различие, лишь относительное значение. Мысль сама по себе ни истинна ни ошибочна, она или то, или другое лишь в отношении к определенному, данному объекту. Мысли, понятия, теории, сущности, истины сходны в том, что они относятся к объекту. Объекты вообще мы признали количественными величинами многообразной чувственности «внешнего мира». Если количественная величина бытия, объект, то, что должно быть познано, понято или постигнуто, определяется заранее или ограничивается известным, постоянно в речи употребляемым понятием, то истина заключается в открытии общего, присущего данному таким образом чувственному количеству.
Чувственным количественностям, всем вещам мира, присуща, помимо их видимости, также известная истина, или, через явления, сущность. Сущности вещей так же бесчисленны, как бесконечно делима чувственность во времени и пространстве. Каждая маленькая частица явления имеет свою собственную сущность, каждая особенная видимость — свою всеобщую истину. Явления создаются в связи с чувствами, сущности или истины — в связи с нашей познавательной способностью. Поэтому для нас и возникает необходимая задача — здесь, где мы имеем дело с вопросом о сущности вещей, — говорить о познавательной способности и, наоборот, при помощи познавательной способности рассмотреть сущность или истину вещей.
Мы уже говорили вначале, что в критерии истины содержится критерий разума. Подобно разуму, и истина состоит в том, чтобы из данного количества чувственности развить общее, абстрактную теорию. Итак, не истина вообще является критерием истинного познания, но лишь то познание можно называть истинным, которое производит истину, т. е. общее какого-либо определенного объекта. Истина должна быть объективной, т. е. она должна быть истиной своего определенного объекта. Познания не могут быть истинными сами по себе, они могут быть истинными лишь относительно, лишь в отношении определенного предмета, лишь на основе внешних фактов. Их задача состоит в том, чтобы из частного развивать общее. Частное есть мера общего, мера истины. Все, что существует, истинно, независимо от того, существует ли оно в большей или меньшей степени. Раз нам дано бытие, то из него и вытекает, как истина, его общая природа. Разница между более или менее общим, между бытием и явлением, между истиной и заблуждением не выходит из определенных границ, предполагает отношение к особому объекту. Является ли познание истинным, или нет, не столько будет зависеть от познания, сколько от границы, от задачи, которую оно себе поставило или которая ему была поставлена. Совершенное познание возможно лишь внутри определенных границ. Совершенная истина есть всегда истина, сознающая свое несовершенство. Что все тела тяжелы — является совершенной истиной, но это только потому, что уже заранее понятие тела было ограничено тяжелыми предметами. После того как разум образовал понятие тела вообще из тел самого различного веса, аподиктическая уверенность в его всеобщей неминуемой тяжести ничуть не удивительна. Если допустить, что мы абстрагировали понятие птицы исключительно и всецело от летающих животных, то мы можем быть уверены в том, что все птицы летают: в небе, над землей и в других местах, но при этом нам нисколько не нужна вера в знание a priori, которое якобы отличается от эмпирического тем, что оно является безусловно необходимым и общеобязательным. Истины являются таковыми лишь при известных предпосылках, а при известных предпосылках и заблуждения являются истинами. Что солнце светит, есть истинное познание, если предположить, что небо безоблачно. Не менее истинно, что прямая палка, опущенная в воду, становится ломаной, если ограничить эту истину лишь сферой оптики. Всеобщее есть истина в пределах данного цикла чувственных явлений. В пределах данного круга чувственных явлений выдавать единичное или частное за общее — значит ошибаться. Заблуждение, противоположность истины, состоит главным образом в том, что мыслительная способность, или сознание, не опираясь ни на какой опыт, непродуманным, близоруким образом придает явлениям более общее значение, чем это позволяют чувства или чувственность, когда, например, действительно истинному оптическому существованию слишком поспешно приписывается мнимое пластическое существование.
Суждение, основанное, на заблуждении, есть предрассудок. Истина и заблуждение, познание и извращение, понимание и непонимание имеют свое общее местонахождение в мыслительной способности, в органе науки. Общее выражение чувственно познанных на опыте фактов есть мысль вообще, не исключая заблуждений. Заблуждение, однако, тем отличается от истины, что оно приписывает определенному факту, выражением которого оно является, более обширное, более широкое, более всеобщее бытие, чем это следует из чувственного опыта. Претензия есть сущность заблуждения. Стеклянная жемчужина только тогда становится ненастоящей, когда она претендует быть настоящей жемчужиной.
Шлейден говорит о глазе: «Когда возбужденная кровь, наполняя кровеносные сосуды, давит на нервы, то мы это чувствуем в пальцах, как боль, мы видим это в глазах, как сверкающую молнию. И в этом для нас неопровержимое доказательство того, что наши представления суть свободные творения нашего духа, что мы внешний мир не воспринимаем таким, каков он есть, а что воздействие его на нас является лишь побудительной причиной к своеобразной духовной деятельности, продукты которой часто стоят в известной закономерной связи с внешним миром, но часто с ним никакой связи не имеют. Мы нажимаем на наш глаз и видим светящийся круг, но на самом деле нет никакого светящегося тела. — Легко понять, какой богатый и опасный источник всякого рода ошибок скрывается тут: начиная от дразнящих нас теней туманного лунного ландшафта, вплоть до угрожающих сумасшествием видений духовидца мы имеем целый ряд обманчивых явлений, которых нельзя ставить в вину ни природе, ни ее строгой закономерности, но которые все должны быть отнесены в область свободной и подверженной поэтому заблуждениям деятельности духа. Требуется значительная доля осмотрительности, разностороннее образование, для того чтобы дух был в состоянии отделаться здесь от всех своих собственных заблуждений и научиться вполне ими владеть. Чтение, в более широком смысле этого слова, кажется нам столь легким и, несмотря на это, является трудным искусством. Только постепенно научаются тому, каким показаниям нервов мы можем доверять и как, в соответствии с этим, следует образовывать свои представления. Даже люди науки могут здесь ошибаться, ошибаются часто и тем чаще, чем меньше они себе выяснили, где им искать источник заблуждений»... «Свет, рассматриваемый сам по себе, не ярок, не желт, не синь, не красен. Свет есть движение чрезвычайно тонкой, повсюду распространенной материи, эфира».
Прекрасный мир света и блеска, красок и фигур будто не есть, таким образом, восприятие того, что на самом деле существует. «Через густую крышу виноградной беседки прокрадывается солнечный луч в приятно охлаждающую тень. Ты предполагаешь, что видишь самый луч света, но то, что ты воспринимаешь, далеко не то: это только ряд пылинок». Истина о свете и красках суть «волны, которые, неудержно следуя друг за другом, носятся по эфиру с быстротой 40 000 миль в секунду». Эту истинную телесную природу света и красок настолько трудно видеть, что «потребовался проницательный ум наиболее выдающихся людей, чтобы раскрыть нам эту настоящую природу света»... «Мы находим, что каждое из наших чувств способно воспринимать лишь совершенно определенные внешние воздействия и что воздействие на каждое чувство вызывает в нашей душе совершенно иные представления. Таким образом, между тем внешним бездушным миром (колебаниями эфира), который раскрывается нам наукой, и прекрасным (действительным, чувственным) миром, в котором мы живем духовно, органы чувств являются посредниками».
Вот что говорит Шлейден. Он нам дает пример того, как еще и в наше время теряются, когда дело идет о понимании двух миров, как тщетно ищут связи между миром мыслительной способности, знания или науки, который представлен здесь колебаниями эфира, и миром наших пяти чувств, который представлен ярким, полным красок светом зрения или действительности. Мы при этом имеем здесь превосходный пример того, как бессмысленно звучит унаследованный пережиток спекулятивного миросозерцания в устах современного естествоиспытателя. Сбивчивое выражение этого взгляда различает «телесный мир науки», в котором «мы живем духовно». Противоположность между духом и чувством, между теорией и практикой, между общим и частным, между истиной и заблуждением осознана, однако вопрос этот еще не разрешен. Знают — что, но не знают, где искать, и отсюда вся путаница.
Преодоление спекулятивной, нечувственной науки, освобождение чувств, обоснование опыта — это есть величайшая научная заслуга нашего века. Признать за этим фактом теоретическое значение — значит выяснить себе источник заблуждения. Если философия рассчитывала, что при помощи духа она дойдет до истины и что чувства обманчивы, то мы должны перевернуть этот философский взгляд: искать истину при помощи чувств, а источник заблуждений в мнимо абсолютном духе. Вера в определенные показания наших нервов, которым мы только можем доверять и которые мы будто бы должны изучать лишь постепенно, не будучи в состоянии открыть их специфический отличительный признак, есть суеверие. Доверимся смело всем указаниям чувств! Здесь нечего отделять лживое от подлинного. Нечувственный дух один только сбивает нас, когда он отваживается предупреждать чувства, когда он, которому следует только интерпретировать чувства, увеличивает то, что они нам говорят, повторяет то, что ему вовсе и не было сказано. Если глаз при возбужденной крови или внешнем давлении видит сверкающие молнии или светящиеся круги, то это так же мало является заблуждением, как если бы он воспринимал какие-либо другие явления внешнего мира. Заблуждение создается нашим сознанием, если оно такие субъективные происшествия считает a priori объективными телами. Духовидец заблуждается только тогда, когда он свои личные видения выдает за видения вообще, за общее явление, когда он поспешно выдает за опыт то, чего он на опыте не узнал. Заблуждение есть проступок против закона истины, предписывающего нашему сознанию постоянно иметь в виду те предпосылки, те границы, на основе и в пределах которых познание истинно, т. е. всеобще. Заблуждение превращает частное в общее, предикат в субъект, единичное явление в общую сущность. Заблуждение познает a priori; истина, противоположность заблуждения, наоборот, познает a posteriori.
Оба вида познания, познание a priori и познание a posteriori, относятся друг к другу, как философия и естествознание, — последнее в самом широком смысле этого слова, как наука вообще. Противоположность между верой и знанием повторяется в противоположности между философией и естествознанием. Спекулятивная философия жила, подобно религии, элементами веры. Современный мир превратил веру в науку. Если политические реакционеры требуют переворота в науке, то этим имеется в виду возврат к вере. Содержание веры есть не сопряженное ни с каким трудом приобретение (аквизит). Вера познает a priori. Наука есть труд, завоеванное a posteriori познание. Отказаться от веры — значит отказаться от лежания на печи. Ограничить науку познанием a posteriori– значит украсить ее характерным признаком нового времени — трудом.
Это не вывод из естественнонаучного исследования, это скорее философская бесцеремонность, когда Шлейден отрицает за красочными явлениями света действительность и истинность, когда он их изображает фантасмагориями, которые создает себе свободно дух. Предрассудок философской спекуляции совершенно закрывает ему глаза на научный метод индукции, когда он «волны, несущиеся неудержно друг за другом по эфиру с быстротой 40 000 миль в секунду», противопоставляет как действительную, истинную природу света и красок красочным явлениям света. Это извращение очевидно: видимый телесный мир он называет «творением духа», а «колебаниям эфира, открытым проницательным умом наиболее выдающихся людей», он приписывает «телесную природу».
Истина науки относится к чувственному явлению, как общее относится к частному. Световые волны, так называемая истина о свете и красках, лишь постольку представляют «настоящую природу» света, поскольку на них проявляется то, что обще различным — ярким, желтым, голубым и т. п.— световым явлениям. Мир духа, или науки, находит свой материал, свою предпосылку, свое обоснование, свое начало, свою границу в чувственности.
Если мы убедились, что сущность, или истина вещей, существует не позади явлений, а только через посредство их, не «сама по себе и не сама в себе», а лишь в отношении к познавательной способности, что она существует только для разума, что только понятие отделяет сущность от явления; если мы, с другой стороны, убедились, что разум создает какое-либо понятие не из себя, а лишь в контакте с каким-нибудь явлением, — то мы в этой теме о «сущности вещей» находим подтверждение того, что сущность познавательной способности есть понятие, которое нами приобретено на основании ее чувственного явления. Понять, что мыслительная способность хотя и универсальна в выборе своих объектов, но все же ограничена в том отношении, что она вообще нуждается в каком-либо объекте; понять, что настоящий, действительный мыслительный акт, мысль, приводящая к известному научному результату, отличается от ненаучного мышления тем, что сознательно и добровольно связывает себя с существующим вне ее объектом; понять, что истина, или общее, не познается «в себе», но лишь на определенном данном объекте, — это так часто повторяемое мною положение содержит в себе сущность познавательной способности. Оно повторяется у меня все снова и снова в конце каждой главы потому, что все частные истины, все отдельные главы должны служить лишь для того, чтобы демонстрировать общую главу об общей истине.
4. Практика разума в физической науке
Хотя мы знаем, что разум связан с чувственным материалом, с физическими объектами, и что поэтому наука никогда не может быть не чем иным, как наукой о физическом, тем не менее мы, в связи с господствующими взглядами и в соответствии с установившейся терминологией, можем отделить физику от логики и этики и рассматривать их как различные формы науки. Наша задача поэтому будет состоять в том, чтобы доказать, что в физике, логике, морали всеобщие, или духовные, познания применимы лишь на основе особых, т. е. чувственных, фактов.
Практика разума, выводящая мысль из материи, познание из чувственности, общее из частного, пользуется — однако лишь практически — всеобщим признанием также в физическом исследовании. Здесь пользуются индуктивным методом и пользуются им сознательно, но забывают, что сущность естествознания есть сущность знания, разума вообще; ложно понимают процесс мышления. Ввиду слабости в теории нередко лишаются и практического такта. Мыслительная способность все еще является для естествознания неизвестной, таинственной, мистической сущностью. Естествознание или материалистически смешивает функцию с органом, дух с мозгом, или же идеалистически полагает, что способность мышления как нечувственный объект лежит вне доступной ему области. Мы видим, как современные исследователи в физических вопросах большей частью твердыми шагами единодушно двигаются к своей цели, но, переходя к абстрактному рассмотрению этих вопросов, бродят впотьмах. Метод индукции получил в естествознании, на практике, право гражданства и благодаря своим успехам пользуется большой славой. Спекулятивный метод, с другой стороны, окончательно дискредитирован своей бесплодностью. Но все очень далеки от сознательного понимания этих различных способов мышления. Мы видим, как люди, занимающиеся физическим исследованием, выходя за пределы своей специальности в область общих вопросов, совершенно неосновательно выдают продукты спекуляции за научные факты. И хотя специальные истины данной области добываются лишь при помощи чувственного явления, все же полагают, что умозрительные истины можно почерпнуть из глубин своего собственного духа.
Прослушаем Александра фон Гумбольдта, как он во введении к своему «Космосу» рассуждает о философии: «Наиболее важный результат чувственного, физического исследования состоит поэтому в следующем: познать в многообразии единство; исходя от индивидуального, охватить все, что дается нам открытиями последних столетий; критически разграничить одно от другого и все же не быть задавленными массой отдельных явлений, помня о возвышенном назначении человека уловить дух природы, скрывающийся под покровом явлений. На этом пути наши стремления выходят за тесные границы чувственного мира, и нам может удаться в понимании природы при помощи идей овладеть сырым материалом эмпирического созерцания. В моих размышлениях о научной постановке всеобщего мироописания речь идет не о единстве, выведенном из немногих, данных разумом основных принципов. Мы здесь скорее имеем умозрительное рассмотрение данных опытов явлений как природного целого. Я не решаюсь пускаться в чуждую мне область. То, что я называю физическим мироописанием, не претендует поэтому на звание рациональной науки о природе... Оставаясь верным моим прежним трудам, а также моим занятиям, посвященным опытам, изменениям, исследованиям фактов, я и в этом труде ограничиваюсь чисто эмпирическим рассмотрением. Оно — единственная почва, на которой я могу двигаться с полной уверенностью». Непосредственно вслед за этим Гумбольдт говорит, что «без серьезного стремления к познанию единичных явлений все великие и общие мировоззрения могут быть лишь миражами». Дальше он говорит, что «умозрительное (иными словами — спекулятивное) познание, согласное с законами разума понимание вселенной, может представлять собой еще более возвышенную цель». «Я далек от того, чтобы порицать стремления, на которых я не испытывал своих сил, только потому, что их успех до сих пор остался чрезвычайно сомнительным» (т. I, стр. 68).
Натуралисты вполне сходятся с Гумбольдтом, что практика разума в физических науках состоит исключительно в том, чтобы «в многообразии познавать единство». С другой стороны, хотя они и эту свою веру в спекуляцию, в «познание через чистый разум», не всегда высказывают столь ясно, они обнаруживают, однако, свое непонимание научной практики и свою глубокую веру в науку метафизическую, помимо физической; причина в том, что они применяют спекулятивный метод при рассмотрении так называемых философских проблем, когда единство, как они полагают, познается из разума, а не из многообразия чувственности, что они не в состоянии разобрать, что же именно в расходящихся мнениях ненаучно, что среди них абсолютно нет единогласия. Ведь отношения между явлением и сущностью, следствием и причиной, материей и силой, духом и материей — физические отношения. Но есть ли какое-нибудь единогласие в том, что об этом говорит наука? Следовательно, знание, или наука, есть труд, которым, как в хозяйстве крестьянина, занимаются пока лишь практически, но не научно, т. е. так, чтобы заранее можно было быть уверенным в результате. Познавание, т. е. процесс познавания, правда, хорошо выяснен в физической науке, — никто этого отрицать не будет. Но об органе этого познания, о способности познания, имеют совершенно ложное представление. Мы видим, что естествознание, вместо того чтобы научно применять разум, производит над ним эксперименты. Почему? Потому что оно оставляет в пренебрежении критику разума, учение о науке, или логику.
Подобно тому как рукоятка и клинок есть родовое содержание ножа, родовым содержанием разума является родовое само по себе, общее. Это нами установлено. Мы знаем, что разум создает это содержание не из себя, а из данного объекта; мы знаем также, что этот объект есть сумма всего естественного, или физического. Объект есть поэтому неизмеримое, неограниченное, абсолютное количество. Это неограниченное количество проявляется в количествах ограниченных. При рассмотрении относительно небольших количеств в природе отдают себе полный отчет о сущности разума, методе знания или познавания. Нам остается доказать, что и более значительные отношения природы, рассмотрение которых вызывает столько споров, познаются таким же способом. Причина и следствие, дух и материя, сила и вещество являются такими значительными, обширными, широкими и общими физическими объектами. Мы намерены показать, как наиболее общая противоположность между разумом и его объектом дает нам ключ для разрешения великих противоположностей.
а) Причина и следствие
«Сущность естествознания, — говорит Ф. В. Бессель, — состоит в том, что она не рассматривает явления как сами по себе существующие факты, а отыскивает те причины, следствиями которых они оказываются. Таким образом, знание природы сводится к знанию весьма малого количества фактов». Но и до эпохи естественных наук уже отыскивали для явлений природы их причины. Характерным для естествознания является не столько исследование причин, сколько своеобразные свойства, качества тех причин, которые оно исследует.
Индуктивная наука существенно изменила понятие причины. Она сохранила название, но подразумевает под ним нечто совершенно другое, чем метафизика. Естествоиспытатель понимает причину в пределах своей специальности совершенно иначе, чем вне ее, где он нередко пускается в область спекуляции; так как он знает науку и ее причину только в частности, но не вообще. Ненаучные причины суть причины сверхнатуралистического вида — это сверхъестественные духи, боги, силы великие или малые, домовые. Первоначальное понятие причины есть антропоморфное понятие. Не будучи еще знаком с опытом, человек измеряет объективное субъективным мерилом, смотрит на мир с точки зрения своего собственного «я». Как он создает предметы с известным намерением, так и на природу он переносит свои человеческие особенности; он приписывает явлениям чувственности внешнюю, творческую причину, подобно тому как он сам является обособленной причиной своих собственных творений. Этот субъективный метод был главной причиной того, что так долго стремления к объективному познанию кончались неудачей. Ненаучная причина есть спекуляция, есть наука «a priori».
Если за субъективным познанием оставить название познания, то объективное научное познание будет от него отличаться тем, что это последнее черпает свои причины не из веры или из спекуляции, а из опыта, путем индукции, не a priori, но a posteriori. Естественные науки ищут свои причины не вне или позади явлений, но внутри их или через посредство их. Современное исследование ищет в причинах не внешнего творца, а имманентную систему, метод, или общий вид и порядок данных во временной последовательности явлений. Ненаучная причина есть «вещь в себе», маленький божок, самостоятельно создающий следствия и позади них скрывающийся. Научное понятие причины, напротив, хочет постигнуть только теорию действия, только общее в явлении. Итак, исследовать причину — значит обобщать данные явления, сводить многообразие опыта к одному научному правилу. «Этим самым знание природы сводится к знанию весьма малого количества фактов».
Самое обыденное, самое вульгарное и плоское знание отличается от самой возвышенной, только что открытой оригинальной науки не больше и не меньше, чем какое-либо мелочное, рабское суеверие от исторического суеверия целой эпохи. Мы поэтому можем себе позволить, кстати сказать, заимствовать наши примеры из повседневного обихода, вместо того чтобы отыскивать их в так называемых высших сферах какой-либо отвлеченной науки. Здравый человеческий рассудок обходился при помощи индуктивных, естественнонаучных причин задолго до того, как наука открыла, что для достижения своих заветнейших целей она должна идти по тому же пути. Только когда обыкновенный человеческий рассудок поднимается выше окружающей его среды, он, совершенно как естествоиспытатель, приходит к вере в таинственную причину спекулятивного разума. Чтобы стоять твердо на почве реального знания, прежде всего необходимо, чтобы все поняли, каким образом индуктивный разум открывает свои причины.
Для этой цели бросим беглый взгляд на полученные нами выводы о сущности разума. Мы знаем, что познавательная способность не есть вещь, явление само по себе или само в себе, потому что она становится действительной только в связи с чем-либо другим, с предметом. Но все, что мы знаем о предмете, нами добыто не только через предмет, но в то же время и через разум. Сознание, как всякое бытие, относительно. Знание есть объединение различий. Вместе со знанием дано разграничение, даны субъект и объект, дано многообразие в единстве. Здесь одно становится следствием другого, одно — причиной другого. Весь мир явлений — а мышление есть лишь определенное количество, особенная форма его, — есть абсолютный круг, в котором даны всюду и нигде начало и конец, сущность и явление, причина и следствие, общее и частное. Подобно тому как вся природа в последней инстанции есть единственное общее единство, по отношению к которому все остальные единства становятся множественностью, точно так же та же самая природа, объективность, чувственность, или как нам вообще угодно будет называть сумму всех явлений или следствий, является причиной в последней инстанции, по отношению к которой все остальные причины становятся следствиями. При этом, однако, нам не следует забывать, что эта причина всех причин есть только совокупность всех следствий, а не нечто иное, высшее. Каждая причина есть следствие, каждое следствие — причина.
Причина так же мало может быть отделена телесно от ее следствия, как зримое от зрения, вкус от языка и как вообще общее от частного. Несмотря на это, мыслительная способность все же различает их друг от друга. Поэтому нам нужно всегда иметь в виду, что это разграничение есть лишь формальность разума, которая, однако, необходима для того, чтобы мы действовали разумно или сознательно, другими словами, научно. Практика знания, или основанная на науке практика, выводит частное из общего, природные вещи из природы. Тот же, кому удалось посмотреть за кулисы познавательной способности, знает, что на самом деле общее, наоборот, выводится из частного, понятие природы — из природных вещей. Теория знания или науки учит нас, что предыдущее познается из последующего, причина — из следствия, хотя для нашего практического знания последующее является следствием предыдущего, действие — следствием причины. Для мыслительной способности, органа всеобщего, противоположное, частное, данное, другое, является производным, но для ума с его самосознанием все это является первичным. Практика познания, однако, не должна и не может быть изменена ее теорией; теория должна только придать уверенность сознанию. Научно образованный земледелец отличается от практика не тем, что он обладает теорией, методом, — это наблюдается как у того, так и у другого, — а тем, что первый знает теорию, в то время как второй теоретизирует лишь инстинктивно.
Но пойдем дальше. Из данного разнообразия явлений вообще разум порождает общую истину, из временного разнообразия, из изменений — истинную причину. Как абсолютное разнообразие есть природа пространства, так абсолютная изменчивость есть природа времени. Каждая частица времени, подобно каждой частице пространства, нова, оригинальна и раньше никогда не существовала. Разобраться в этой абсолютной изменчивости помогает нам мыслительная способность, обобщая как разнообразие пространства при помощи определенных вещей, так и изменчивость времени определенными причинами. Обобщать чувственное, в частном вскрывать общее — вот в чем заключается вся сущность разума. Кто благодаря знанию того факта, что разум есть орган общего, не в состоянии вполне уяснить его природу, тому следует помнить, что для понимания требуется данный объект, остающийся вне пределов понятия. Бытие этой способности так же мало может быть понято, как бытие вообще. Или скорее так: бытие может быть понято, если мы его берем во всей его всеобщности. Не само существование, а отличный в существовании момент общего подлежит восприятию разумом.
Представим себе, например, тот процесс, который выполняется разумом, когда он старается понять непонятную вещь. Вообразим себе особенное, т. е. неожиданное, никогда не наблюдавшееся на опыте химическое изменение, происходящее в какой- либо смеси внезапно, без всякого постороннего вмешательства. Предположим дальше, что это изменение впоследствии произойдет еще не раз, пока мы путем опыта не установим, что необъяснимому изменению смеси всякий раз предшествует соприкосновение с солнечным светом. Этим уже понято все явление. Предположим также, что дальнейший опыт покажет нам, что и многие другие вещества обладают свойством претерпевать подобное изменение, соприкасаясь с солнечным светом; тогда неизвестное нам явление сопоставляется с целым рядом явлений подобного рода, т. е. оно усваивается еще шире, еще глубже, еще полнее. Если мы, наконец, найдем, что соединение известного количества солнечного света и особого элемента смеси вызывает данное изменение, то опыт в чистом виде обобщен, или обобщение в чистом виде установлено на опыте; это значит, что теория безупречна, что разум выполнил свою задачу. А ведь он сделал лишь то, что он делает при распределении животного и растительного мира на роды, семейства, виды и т. д. Открыть вид, род какой-либо вещи — значит ее понять.
Точно таким же образом действует разум, отыскивая причины данных изменений. Причины не воспринимаются зрением, слухом, осязанием, вообще чувствами. Причины — это продукты мыслительной способности. Они, правда, не чистые ее продукты, но они созданы мыслительной способностью в связи с чувственным материалом. Этот чувственный материал сообщает созданной таким образом причине ее объективное существование. Как мы требуем от истины, чтобы она была истиной какого-нибудь объективного явления, так мы требуем от причины, чтобы она была действительной, чтобы она была причиной какого-либо объективно данного действия.
Познание какой-либо частной причины обусловливается эмпирическим наблюдением над ее материалом; напротив, познание причин вообще — наблюдением над разумом. При познании частных причин материал, объект, каждый раз меняется, но разум всегда остается при этом постоянным, или всеобщим. Причина в общем есть чистое понятие, которому служили материалом многообразие специального познания причин или многообразные познания частных причин. Чтобы анализировать таким образом это понятие, мы вынуждены возвратиться к его материалу, к познанию частных причин.
Если от брошенного в воду камня на ее поверхности начинают показываться круги, то камень не в большей степени причина этого явления, чем жидкое состояние воды. Там, где камень падает на твердый материал, он не вызывает никаких волн. Падающий камень связан с жидкостью, совместное действие обоих является причиной круговых волн. Причина сама есть действие, и действие — волнообразное движение — становится причиной, когда оно, например, выбрасывает на сушу плывущую пробку. Но и здесь, как вообще, причина есть только совместное, общее действие волнообразного движения и легкости пробки.
Брошенный в воду камень не есть причина вообще или причина в себе. До такой причины мы доходим лишь, как было уже указано, благодаря тому, что мыслительная способность берет частные причины как материал и строит из них чистое понятие причины вообще. Брошенный в воду камень есть только причина в отношении к последующему движению волн и является таковой на основании того опыта, что это движение волн следует за ним постоянно.
Причиной мы называем то, что постоянно предшествует данному явлению, действием — что за ним постоянно следует. Только потому, что везде и повсюду за брошенным в воду камнем следует движение волн, мы его считаем причиной этого явления. И так как, с другой стороны, движению волн не всегда предшествует брошенный в воду камень, оно вообще имеет другую причину. Эластичность воды, поскольку она является тем общим, что постоянно предшествует движению волн, есть причина этого последнего. Кругообразному движению волн, особенному виду волнообразного движения, может быть, постоянно предшествует брошенное тело, которое благодаря этому становится его причиной. Причина постоянно меняется в зависимости от количественного состава рассматриваемого явления.
Причины не могут быть раскрыты при помощи одного только разума; они не могут быть извлечены из головы. Для этого требуется, чтобы были даны еще вещество, материал, чувственное явление. И для определенной причины требуется также определенная материя, т. е. определенное количество чувственного явления. Различие веществ в абстрактном единстве природы становится различием физического количественного состава. Подобная количественная масса дана во времени, до и после, или как предыдущее и последующее. Предшествующее в обобщенном виде называется причиной, последующее в обобщенном виде есть действие.
Когда ветер колышет лес, то колеблемость леса как его свойство является в такой же степени причиной, как нагибающая сила ветра. Причина какой-либо вещи есть ее связь. То, что тот же ветер, который колышет деревья, оставляет неподвижным, скалы и стены, доказывает, что причина не отличается от действия качественно, а что она есть лишь совокупное действие.
И если знание, или наука, отыскивает в изменении, т. е. в каком-либо последующем явлении, нечто особенное как причину, то последняя является уже не внешним творцом, а лишь общим видом, имманентным методом последовательности. Можно только тогда отыскать определенную причину, когда круг, ряд или число изменений, причина которых отыскивается, вообще количество, ограничено или точно определено. В пределах данного круга следующих друг за другом явлений постоянно предшествующее есть причина.
Там, где ветер колышет лес, он как причина отличается от этого своего действия лишь постольку, поскольку он есть более общее действие; здесь он носится вихрем, там подымает облака пыли, проявляет свое действие то так, то иначе, в данном же специальном случае колышет деревья. Ветер здесь лишь постольку есть причина, поскольку явление его вообще предшествует движению леса. Но так как, с другой стороны, устойчивость скал и стен вообще предшествует ветру, то и она является причиной их постоянства, хотя в более широком кругу связанных с сильной бурей явлений и слабый ветер может стать причиной, влияющей на состояние этих объектов.
Количество или число данного разнообразит название причины. Если какое-либо общество возвращается с прогулки усталым, то в происшедшей перемене ходьба является не больше причиной, чем те слабые люди, которые совершили прогулку. Это значит, что явление не имеет само в себе причины, отдельной от явления. Все, что являлось в явлении, способствовало этому явлению: как род и свойство, сложение ходоков, так и род, свойство ходьбы или пути. Если, тем не менее, разум ставит себе задачей определить в частности причину интересующей нас перемены, то этим хотят лишь сказать, что из всех факторов следует отыскать тот, который больше всего способствовал утомлению. Как вообще, так и в данном случае задача разума будет состоять в том, чтобы из частного извлекать общее — в применении к интересующему нас специально вопросу: чтобы из данного числа утомлений выделить то, что вообще предшествует утомлению. Там, где большинство или даже все чувствуют себя усталыми, причиной, предшествующей вообще явлению, будет ходьба; там же, где усталость чувствуют лишь немногие, причиной будет слабое сложение ходоков.
Если — мы берем другой пример — выстрел спугивает птиц, то это явление есть совместное следствие выстрела и пугливости. Когда большая часть улетает, причиной являемся выстрел; когда улетает меньшая часть, причиной является пугливость.
Действия суть следствия. Так как в природе всегда одно следует за другим, все имеет нечто, ему предшествующее, или само есть следствие, то мы можем естественное, чувственное, действительное называть абсолютным действием там, где нельзя найти причины в себе, за исключением, конечно, того случая, где наша мыслительная способность систематизирует этот материал при помощи отыскания причин. Причины суть духовные обобщения чувственных изменений. Мнимое отношение между причиной и действием есть чудо, нечто, созданное из ничего. Поэтому оно было и остается все еще предметом спекуляции. Спекулятивная причина создает свои действия. На самом же деле действия суть материал, из которого голова, или наука, образует причины. Причина есть продукт духа, но не чистого духа, а объединившегося с чувственностью.
Если Кант утверждает, что предположение: всякое изменение имеет свою причину — есть знание a priori, которое мы не можем вывести из опыта, так как никто никогда не в состоянии узнать на опыте все изменения и тем не менее убежден в аподиктической общеобязательной истине названного положения, то мы ведь теперь понимаем, что этими словами высказывается лишь добытое из опыта убеждение, что явление того, что мы называем разумом, в каждом многообразии познает единство или, еще лучше, что выведение общего из частного называется разумом, мышлением или духом. Уверенность, что каждое изменение имеет свою причину, есть не что иное, как уверенность, что мы — мыслящие люди. «Cogito, ergo sum»[4]. Даже там, где сущность нашего разума не проанализирована научно, мы узнали ее инстинктивно. Мы так же уверены в его способности в каждом данном изменении отыскивать его причину, как мы уверены, что каждый круг кругл, что а = а. Мы знаем, что общее есть продукт разума, который он создает в связи с каким-либо другим, это значит со всяким данным объектом. Так как все объекты существуют до и после, меняются во времени и в пространстве, то и все изменения, которые с нами, разумными существами, происходят, должны иметь нечто общее, что им предшествует, т. е. причину.
Уже английский скептик Юм чувствовал, что истинная причина существенно отличается от мнимой, предполагаемой. По его мнению, понятие причины не содержит ничего иного, как опыт того, что обыкновенно предшествует какому-либо явлению. Вполне основательно Кант выдвигает против такой точки зрения то, что понятие причины и следствия выражает гораздо более тесное отношение, чем отношение случайного, ничем не связанного следования одного за другим, что в понятии причины скорее содержится уже данное действие, нечто необходимое и безусловно общеобязательное, т. е. нечто такое, что вообще никогда не может быть узнано из опыта, что даже выходит за пределы всякого опыта, что a priori должно уже содержаться в рассудке.
Материалистам, отрицающим всякую самостоятельность духа, желающим в опыте найти причины, мы должны возразить, что необходимость и всеобщность, которые предполагаются отношением причины и следствия, невозможны в опыте. Идеалистам же, с другой стороны, не мешает указать, что хотя рассудок и исследует причины, которые на опыте не могут быть узнаны, тем не менее это исследование может производиться не a priori, а лишь a posteriori, на основе эмпирически данного материала. Правда, дух вполне самостоятельно открывает нечувственную, абстрактную всеобщность, но лишь в пределах данного круга чувственных явлений.
б) Дух и материя
Понимание того, что познавательная способность всегда зависит от материальных, чувственных предпосылок, восстановит объективную действительность в ее правах, так долго не признававшихся за нею в связи с некоторыми взглядами и предположениями. Познание мозговой функции отвоевывает в общей, теоретической форме подобающее место природе, которая в самых разнообразных своих конкретных проявлениях была исключена философскими и религиозными измышлениями из интересующих человечество вопросов и которая с развитием отдельных отраслей современного естествознания начала мало-помалу извлекаться на белый свет из своего научного тупика. Естествознание до сих пор избирало предметом своего исследования только частичный материал, отдельные причины, отдельные силы и в общих, так называемых натурфилософских вопросах о причине, материи, силе оставалось вообще совершенно неосведомленным. Великое противоречие между идеализмом и материализмом, как бы красной нитью проходящее через все научные произведения, и есть фактическое проявление этой неосведомленности.
«Я был бы чрезвычайно рад, если бы в этом письме мне удалось подкрепить убеждение в том, что химия как самостоятельная наука является одним из наиболее могучих средств достижения высшей духовной культуры, что изучение ее полезно не только потому, что она удовлетворяет материальным интересам людей, но и потому, что она делает для нас возможным понимание чудес творения, с которым связано теснейшим образом наше существование и наше развитие».
В этих словах Либих высказывает господствующее повсюду мнение, которое привыкло различать материальные и духовные интересы как абсолютные противоположности. О несостоятельности такого различения только что цитированный нами представитель указанного мнения смутно догадывается; ведь он противопоставляет материальным интересам духовное понимание, с которым теснейшим образом связаны наше существование и наше развитие. Но разве материальные интересы не являются абстрактным выражением нашего существования и развития? И разве эти последние не составляют конкретного содержания материальных интересов? Разве он не говорит буквально, что понимание чудес творения удовлетворяет названным материальным интересам? А разве, наоборот, удовлетворение наших материальных интересов не требует понимания чудес творения? Как, наконец, отличить материальные интересы от духовного понимания?
Высшее, духовное, идеальное начало, противопоставляемое Либихом вместе со всем остальным естественно-научным миром материальным интересам, является лишь особенным видом этих интересов; духовное понимание и материальный интерес отличаются друг от друга так же, как, например, круг и четырехугольник: оба противоположны, и все же это лишь различные классы одной, более общей формы.
Уже давно, в особенности со времен христианства, вошло в привычку с презрением относиться к материальным, чувственным, плотским вещам, поедаемым молью и ржавчиной. Теперь из консерватизма продолжают напевать старую песенку, хотя на самом деле это отвращение к чувственности давно изгладилось из нашего сердца и наших действий. Христианская противоположность между духом и плотью практически преодолена в наш век естествознания. Недостает только теоретического разрешения этого вопроса, дальнейшего шага к доказательству, что духовное — чувственно и чувственное — духовно, чтобы освободить материальные интересы от сложившейся о них дурной репутации.
Современная наука есть по преимуществу естествознание. Наука вообще может быть названа наукой постольку, поскольку она является естествознанием; только мышление, сознательно берущее предметом своего исследования действительное, чувственное, естественное, может быть названо знанием. Поэтому представители и почитатели науки по самому существу своему не могут быть настроены враждебно против природы, или материи. На самом деле они и не настроены враждебно. Но, с другой стороны, уже самый факт существования науки доказывает, что природы, чувственности, материи недостаточно. Наука и мышление, имеющие предметом исследования материальную практику, или бытие, не оставляют этот предмет неприкосновенным. Они не стремятся к чувственной, материальной природе; последняя дана уже без этого. Если наука хотела бы этого, если бы она не хотела ничего нового, она была бы излишней. Только благодаря тому, что она присоединяет к материи новый элемент, она получает право на особое признание. Науку интересует не материал, а познание, познание материала, содержащийся в материи момент всеобщего, истинное, постоянное, «неподвижный полюс в постоянно сменяющихся явлениях». Только в преодолении многообразия, в восхождении к общему заключается то, что как высшее, божественное, духовное начало эмоционально противополагается религией земному, наукой — материальному.
Более возвышенные, духовные интересы отличаются от материальных не toto genere, не по качеству. Положительная сторона современного идеализма заключается не в том, что он пренебрежительно относится к еде и питью, к наслаждениям земными благами и увлечениям женским полом, а в том, что он наряду с этими выдвигает также еще другие материальные наслаждения, как, например, то, что радует глаз и ухо, что он выдвигает науку и искусство, одним словом — целостного человека. Ты не должен предаваться материальному опьянению страстью, т. е. ты должен постоянно иметь в виду не одностороннее наслаждение, а целостное свое существование, целостное свое развитие. Ты должен заботиться о своем существовании во всей его совершенной полноте. Материалистический принцип тем и недостаточен, что он не признает различия между частным и общим, что он приравнивает индивидуальное к родовому. Он не хочет допустить количественного превосходства очевидной гениальности духа в сравнении с телесным, чувственным миром. Идеализм, с другой стороны, из-за количественного различия забывает о качественном единстве. Он хватает через край, он превращает относительное разграничение в абсолютное. Противоречие между тем и другим вытекает из ложно понятого отношения нашего разума к данному объекту его, или материалу. Идеалист видит источник познания в одном только разуме, материалист — в чувственно данном мире. Для примирения этого противоречия достаточно понять взаимную обусловленность этих двух источников познания. Идеализм видит только различие, материализм — только единство тела и духа, явления и сущности, содержания и формы, материи и силы, чувственного и нравственного, — а это все различия, которые все вместе находят свое выражение в одном лишь различии между частным и общим.
Последовательные материалисты — чистые практики без науки. Но так как знание и мышление на самом деле присущи человеку независимо от принадлежности его к той или иной философской школе, то чистые практики невозможны. Как уже было указано, самое незначительное экспериментирование, действующее на основании опытных правил, лишь по количеству или степени отличается от научной практики, опирающейся на теоретические принципы. С другой стороны, последовательные идеалисты так же невозможны, как чистые практики. Они стремятся к общему без частного, к духу без материи, к силе без вещества, к науке без опыта или материала, к абсолютному без относительного. Каким образом мыслители, имеющие предметом своего исследования истину, бытие или относительное, т. е. естествоиспытатели, могут быть идеалистами? Они являются ими только вне своей специальности, но никогда не являются таковыми в ее пределах. Современный дух, дух естествознания, лишь постольку нематериален, поскольку он обнимает собой всю материю. Астроном Медлер, правда, смотрит на всеобщее ожидание существенного увеличения наших духовных сил после «освобождения их от оков материи», как на нечто серьезное, и не считает нужным заменить его чем-нибудь лучшим; он думает, что можно точнее определить «оковы материи» как материальное притяжение. Конечно, если разуметь еще под духом религиозный призрак, то ожидание усиления его путем «освобождения от оков материи» может казаться не смешным, а скорее печальным. Но если дух означает современный дух науки — дух мыслительной способности людей, то мы должны заменить традиционную веру чем-то лучшим — научным объяснением. Под «оковами материи» следует разуметь не силу тяжести, а лишь многообразие чувственных явлений; материя лишь до тех пор «сковывает» дух, пока многообразие не сведено к единству. В развитии от частного к общему состоит «освобождение духа от оков материи».
в) Сила и вещество
Кто внимательно проследил основы нашего учения, нуждающегося еще, конечно, в дальнейших разъяснениях, тот поймет, что вопрос о силе и веществе находит свое разрешение в понимании отношения общего к частному. Как абстрактное относится к конкретному? Так иными словами можно поставить общий вопрос для тех, с одной стороны, кто в спиритуалистической силе, а с другой — для тех, кто в материальном веществе видит нерв мира, сущность вещей, non plus ultra[5] науки.
Либих, который особенно склонен предпринимать экскурсии из области индуктивной науки в область спекуляции, выражается в духе идеализма следующим образом: «Силу мы не можем видеть, мы не можем осязать ее нашими руками; чтобы познать ее сущность и свойства, мы должны исследовать вытекающие из нее действия». И когда материалист на это возражает: «Вещество есть сила, сила есть вещество, нет вещества без силы, нет силы без вещества», то и тот и другой определяют их отношение, очевидно, лишь отрицательно. Возьмем следующий пример. На базаре хозяин спрашивает Петрушку: «Петрушка, где ты был?» — «У других», — отвечает тот. «А где были другие?» — «У меня». Подобно тому как здесь имеются два ответа, но с одним содержанием, так и там имеются у нас два направления, которые в различных словах спорят о совершенно бесспорной вещи. И этот спор кажется тем смешнее, чем серьезнее к нему относятся. Если идеалист различает материю и силу, то он этим вовсе не хочет отрицать, что проявление силы в действительности неразрывно связано с материей. Если материалист утверждает, что нет вещества без силы, силы без вещества, то он этим не думает отрицать того, что утверждается его противником, а именно, что сила и вещество — вещи различные.
Спор этот имеет свое основание, свой предмет, но предмет этот совершенно не обнаруживается во время спора. Стороны инстинктивно окутывают его мраком, чтобы не признаться друг перед другом в своем взаимном невежестве. Каждый хочет доказать противнику, что его объяснения недостаточны, и эта цель достигается спорящими сторонами вполне. Бюхнер в заключительных главах своей книги «Сила и вещество» признает, что эмпирического материала недостаточно для того, чтобы дать определенные ответы на трансцендентные вопросы, чтобы ответить на них положительно, но он там же говорит, что его «вполне достаточно, чтобы ответить на них отрицательно и раз навсегда покончить с гипотезами». Другими словами это может быть выражено следующим образом: науки материалистов хватает как раз настолько, чтобы доказать, что противник ничего не знает.
Спиритуалист или идеалист верит в духовную, т. е. призрачную, необъяснимую сущность силы. Материалистические исследователи — неверующие. Научного обоснования веры или безверия нет нигде. Преимущество материализма состоит в том, что он трансцендентальное, сущность, причину, силу ищет не позади явления, не вне вещества. В том, однако, что он не признает различия между силой и веществом, отрицает существование самой проблемы, он остается позади идеализма. Материалист подчеркивает фактическую невозможность разъединить вещество и силу и хочет приписать этому разъединению лишь «внешнее основание, коренящееся в потребностях нашего духа в систематизировании». Бюхнер заявляет в «Природе и духе»: «Сила и материя, обособленные друг от друга, для меня простые вымыслы, фантазии, идеи без сущности, гипотезы, вовсе не существующие при здравом воззрении на природу, так как все явления природы в силу такого разграничения становятся вскоре туманными и непонятными» (стр. 66). Если, однако, Бюхнеру вздумается заняться продуктивно какой-либо специальной наукой, вместо того чтобы теряться в общих «натурфилософских» фразах, то он на практике скоро убедится, что разъединение сил и веществ не есть «внешняя», а внутренняя, другими словами — существенная необходимость, одна лишь дающая нам возможность осветить и понимать явления природы. И хотя автор книги «Сила и вещество» эпиграфом себе выбирает следующее выражение: «Now what I want, is — facts» («Я намерен считаться исключительно с фактами»), тем не менее мы утверждаем, что этот девиз является у него скорее лишенной всякого смысла фразой, чем искренним его убеждением. Материализм не настолько груб, чтобы останавливаться на одних только фактах. Фактов нам природа дает бесконечное множество. Те факты, которых ищет Бюхнер, вовсе не придают специфического характера его стремлениям. Такие факты желает иметь также идеалист. К гипотезам не чувствует особенного влечения ни один естествоиспытатель. Если чего-нибудь и хотят все работающие в области наук, так это не столько фактов, сколько их объяснения или познания. И материалист не станет оспаривать того, что центр науки — не исключая также бюхнеровской натурфилософии — не в телесных материях, а в духовных силах, что для науки материя является лишь фактором второстепенным, дающим нам возможность постигнуть силы. Разграничение материи и силы исходит «из потребности нашего духа в систематизировании». Совершенно правильно! Но ведь и наука вообще также исходит из потребности нашего духа в систематизировании.
Противоположность между силой и веществом столь же стара, как противоположность между идеализмом и материализмом. Первое сближение произошло благодаря фантазии; эта последняя исходила из веры в духов, которых она клала в основу всех естественных явлений в виде таинственной, причинно-обусловливающей их сущности. Многие специальные духи были изгнаны, наукой в новейшее время заменой фантастических демонов научными, т. е. обобщенными объяснениями. И когда нам удастся объяснить демона чистого духа, нам нетрудно будет изгнать специального духа силы при помощи обобщенного познания ее сущности; таким образом будет найден научный путь к примирению противоположности между спиритуализмом и материализмом.
В предмете науки, в объекте духа, материя и сила нераздельны. В воплощенной чувственности сила есть материя, материя есть сила. «Силы нельзя видеть». Все-таки! «Видение» само по себе есть не что иное, как сила. Видение есть столько же действие предмета, сколько и действие глаза, оно есть двойное действие, а всякие действия суть силы. Мы видим не сами вещи, а их действия на наши глаза: мы видим их силы. И силу можно не только видеть, ее можно слышать, обонять, осязать, ощущать. Кто станет отрицать, что он может ощущать силу теплоты, холода, тяжести? Мы уже раньше приводили изречение профессора Коппе: «Самой теплоты мы не в состоянии воспринимать, мы только по ее действиям умозаключаем о наличности этого фактора в природе». Другими словами, это значит: мы видим, слышим, ощущаем не вещи, а их действие, или силы.
Подобно тому как вполне правильно будет сказано: я ощущаю материю, а не силу, будет вполне правильно сказать и обратное: я ощущаю силу, а не материю. В действительности, в объекте, как было указано, обе существуют нераздельно. При помощи способности мышления мы отделяем в сосуществующих и в следующих друг за другом явлениях общее от частного. Например, из различных явлений нашего зрения мы абстрагируем общее понятие зрения и различаем его как зрительную силу от отдельных предметов, или материалов, зрения. Из чувственного разнообразия мы при помощи разума выводим общее. Общее разнообразных явлений воды есть отличающаяся от вещества воды сила воды. Если вещественно различные рычаги одной и той же длины проявляют одинаковую силу, то очевидно, что здесь сила лишь постольку отлична от материи, поскольку она представляет то, что обще различным веществам. Лошадь не может тянуть без силы, и сила не тянет без лошади. В действительности, на практике, лошадь есть сила, сила есть лошадь. Но тем не менее мы можем отличать способность лошади тянуть от других свойств лошади как нечто особенное; точно так же мы можем выделить то, что обще различным лошадиным действиям, как общую лошадиную силу, прибегая к той же гипотезе, как если бы отличали солнце от земли, хотя на самом деле нет солнца без земли, земли без солнца.
Чувственность дана нам лишь через посредство сознания, но сознание все же предполагает чувственность. Природа, в зависимости от того, как мы ее будем рассматривать с точки зрения сознания, как безусловное единство, или с точки зрения чувственности, как необусловленное многообразие, — бесконечно едина или бесконечно раздельна. Верно и то и другое: и единство и множественность, но и первое и второе лишь при известных предпосылках, т. е. относительно. Все зависит от того, смотрим ли мы с точки зрения общего или частного, духовными или телесными глазами. Если мы посмотрим духовными очами, материя есть сила. Если мы посмотрим телесными глазами, сила есть материя. Абстрактная материя есть сила, конкретная сила — материя. Материи — предметы рук, практики. Силы — предметы познания, науки.
Наука не ограничивается так называемым научным миром. Она обнимает все отдельные классы, принадлежит жизни во всей ее глубине и широте. Наука принадлежит мыслящему человеку вообще. Таково же разграничение материи и силы. Только ослепленный тупоумнейшей страстью может не понимать этого на практике. Скряга, накопляющий деньги, не обогащающий при этом самый процесс жизни, забывает, что отличная от материи сила денег есть именно тот элемент, который ценен; он забывает, что не богатство как таковое, не ничтожная материя серебра, а духовное ее содержание, присущее ей свойство приобретать средства к жизни, есть то, что делает разумным стремление к обладанию ею. Всякая научная практика, т. е. всякое действие, которое совершается с расчетом на заранее обеспеченный успех, оперируя с вполне знакомыми веществами, — свидетельствует о том, что разграничение материи и силы, хотя и произведенное лишь мысленно и, таким образом, составляющее лишь предмет мысли, все же не является пустой фантазией, гипотезой, а весьма существенной идеей. Когда земледелец удобряет свое поле, он постольку имеет дело с чистой удобряющей силой, поскольку ему безразлично, в какой материи воплощается эта сила — в навозе ли, в суперфосфате или гуано. При взвешивании тюков с товарами имеется в виду не материя взвешиваемых кусков, не железо, медь или камень, а лишь сила тяжести, выраженная в фунтах.
Конечно, нет силы без вещества, нет вещества без силы. Лишенные силы вещества и невещественные силы — просто абсурд. Если идеалисты-естествоиспытатели верят в нематериальное существование сил, которые как бы засели в материи, которых мы не видим, не воспринимаем чувственно и в которые мы тем не менее должны верить, то они в этом отношении не естествоиспытатели, а спекулянты, т. е. духовидцы. Но точно так же бессмысленно утверждение материалиста, что интеллектуальное разграничение между силой и материей есть гипотеза.
Чтобы это разграничение было оценено по заслугам, чтобы наше сознание не смотрело на силу спиритуалистически и не отвергало ее материалистически, а понимало ее научно, нам следует только понять различающую способность вообще или в себе, т. е. нам следует познать ее абстрактную форму. Интеллект не может оперировать без чувственного материала. Чтобы различать силу и материю, эти вещи должны быть даны чувственно, они должны быть познаны на опыте. На основании опыта мы наделяем материю силой, силу признаем материальной. Подлежащий пониманию чувственный объект есть, таким образом, сила-материя, и так как все объекты по своей телесной действительности являются силой-материей, то разграничение, производимое нашей различающей способностью, определяется всеобщим характером головной работы — развитием общего из частного. Различие между силой и материей сводится к общему различию между конкретным и абстрактным. Отрицать значение этого разграничения — значит не понимать вообще значения разграничения, интеллекта вообще.
Если назвать чувственные явления силами всеобщей материи, то эта единая материя есть не что иное, как абстрактное общее. Если понимать под чувственностью различные вещества, то общее, объединяющее все различия, господствующее над ними и проникающее их, является силой, созидающей частное. Нечувственное, то, чего наука ищет не руками, а головой: существенное, причинное, идеальное, возвышенно-духовное — будем ли мы это называть силой или материей, безразлично, — есть общее, охватывающее все частности.
5. «Практический разум», или мораль
а) Мудрое, разумное
Ясный метод знания, понимание духа имеет своей целью разрешить все проблемы религии и философии, дать исчерпывающее объяснение великим и всеобщим вопросам, считающимся необъяснимыми, и, таким образом, всецело и безраздельно вернуть науку к ее призванию — к познанию детальных эмпирических отношений. Если мы признаем за закон, что разум нуждается для своего проявления в чувственном материале, в причине, то для нас вопрос о первой, или всеобщей, причине становится излишним. Человеческий разум признается в таком случае как первая и последняя, как конечная причина всех частных причин. Если мы признаем за закон, что разум неизбежно нуждается для своего проявления в чем-то данном, в начале, из которого он исходит, то вопрос о первом начале теряет всякий смысл. Если мы признаем, что разум создает абстрактные единства из конкретного многообразия, что он созидает истину из явлений, субстанцию из акциденций, что он все воспринимает лишь как часть целого, как индивид известного рода, как свойство какой-нибудь вещи, тогда вопрос о «вещи в себе», о чем-то реальном, лежащем как нечто самостоятельное в основе всех явлений, становится праздным вопросом. Одним словом, понимание несамостоятельности разума заставляет нас прийти к заключению, что стремление к самостоятельному познанию неразумно.
Если основные проблемы метафизики — первопричина всех причин, начало всех начал, сущность вещей — и мало занимают нашу современную науку, если потребности времени и переросли спекуляцию, то это устранение на практике все же недостаточно для того, чтобы окончательно разделаться с ее последствиями. Пока не признают за теоретический закон, что разум в каждом практическом акте нуждается в чувственно данном объекте, никогда нельзя будет отказаться от безобъектного мышления, этой прихоти спекулятивной философии, которая хочет создать знание вне связи с чувственным предметом. Наши естествоиспытатели очень ярко свидетельствуют об этом, когда они от вполне осязательных предметов начинают переходить к абстрактным. Пререкания в вопросах жизнепонимания, нравственности, спор о том, что? есть мудрость, добро, зло, показывают, что здесь приходит конец их научному единогласию. Наиболее точные исследователи, переходя в область социальной жизни, ежедневно забывают об индуктивном методе и блуждают по дебрям философской спекуляции. Как в физике верят в нечувственные, физические истины, в «вещи в себе», так и здесь верят в разумное, мудрое, доброе и злое «в себе», в абсолютные отношения жизни, в необусловленные условия. Здесь нам поэтому и надо воспользоваться добытыми результатами, критикой чистого разума.
Сознание, силу знания, духовную деятельность в ее всеобщей форме, мы признали за развитие общего из частного, поэтому мы выразимся лишь описательно, если скажем, что разум развивает свои познания из противоположностей. Среди данных явлений различного объема и различной продолжительности познать бытие в видимости и видимость в бытии; среди потребностей различной важности различать существенное, необходимое через менее важное и, наоборот, несущественное через необходимое; среди различных величин измерять великое малым и малое великим, одним словом, противоположности мира измерять друг другом и, разграничивая, объединять их — вот в чем состоит сущность духа. Нередко в разговоре вместо слова «познавать» инстинктивно употребляют слово «измерять». Для измерений, однако, требуется известный масштаб. Как мы не в состоянии знать предметы, которые «в себе» велики или малы, тверды или мягки, ясны или мутны, так не может подлежать сомнению, что эти предикаты обозначают определенные соотношения; как неизбежно предполагается существование некоторого масштаба, исходя из которого мы пришли к данному определению, так и разум нуждается в некотором масштабе, чтобы раскрыть разумное.
Когда мы находим неразумными известные действия, установки, понятия, максимы других времен, других народов или других людей, то это проистекает просто из применения ложного масштаба; мы забываем о тех предпосылках и отношениях, на основании которых благоразумие других отличается от нашего собственного. Там, где люди расходятся в понимании, в своих познаниях они стоят между собой в таком же отношении друг к другу, как термометры Реомюра и Цельсия, из которых первый обозначает точку кипения цифрой 80, а второй — 100. Различие масштаба есть причина различия результата. В области так называемой морали отсутствует всякое научное единогласие, царящее в физических науках, потому что недостает той единой меры, которая у нас давным-давно уже имеется в области естествознания. Разумное, доброе, справедливое и т. д. хотят познать спекулятивно, без опыта, не эмпирически. Спекуляция хочет открыть причину всех причин, безмерную причину, истину «в себе», беспредпосылочную, безмерную истину, безмерно доброе, безмерно разумное и т. д. Безмерность есть принцип спекуляции, бесконечная растерянность; другими словами, разногласие — ее практика. Если приверженцы какой-либо положительной религии согласны в вопросах морали, то они обязаны этим той положительной мере, которая дается им догмами, учениями и велениями их разума. Если же мы, с другой стороны, захотим познавать из чистого разума, то зависимость этого последнего от какой-либо меры будет доказана нечистыми, т. е. индивидуальными, знаниями.
Мерой истины, или науки, вообще является чувственность. Мерой физических истин служат явления внешнего мира; мерой моральных истин — человек, имеющий самые разнообразные потребности. Образ действия человека определяется его потребностями. Жажда научает пить, нужда — молиться. Потребности принимают на юге одни, на севере другие формы, они господствуют над временем и пространством, народностями и индивидами, заставляют дикаря охотиться, обжору объедаться. Человеческие потребности дают разуму меру для измерения добра, зла, справедливого, разумного и т. д. То, что соответствует нашим потребностям, есть добро, то, что им противоречит, есть зло. Плотское чувство человека есть объект моральных суждений, объект «практического разума». На различии противоречивейших человеческих потребностей покоится различие противоречивейших моральных суждений. Феодальный, прикрепленный к известному цеху бюргер преуспевает при ограниченной конкуренции, современный же рыцарь индустрии — при свободной; так как их интересы противоречат друг другу, противоречат друг другу также их взгляды, поэтому один находит разумными — и с полным правом — те установки, которые другому кажутся неразумными. Если разум какой-либо отдельной личности старается только из себя определить, что разумно, то он неизбежно должен прийти к тому, чтобы сделать эту личность мерой всего человечества. Кто признает за разумом способность найти в самом себе источник нравственной истины, тот впадает в спекулятивное заблуждение, будто возможно приобретать знания без чувственности, без объектов. На том же заблуждении покоится взгляд, который ставит разум как авторитет выше человека, который требует, чтобы человек покорился требованиям разума. Он превращает человека в атрибут разума, в то время как на самом деле разум есть атрибут человека.
Вопрос о том, кто от кого зависит, разум от человека или человек от разума, напоминает вопрос о том, существует ли гражданин для государства или государство для гражданина. В конечном счете преимущество на стороне гражданина; государство всегда приспособляется к потребностям граждан. Но как только высшие, преобладающие интересы получили авторитетное признание государства, гражданин, конечно, уже затем становится зависимым от государства. Другими словами можно выразить это следующим образом: во второстепенных вопросах человек подпадает под господство главной причины. Великому, целому, общему приносит он в жертву менее значительное, малое, частное; он подчиняет существенным, наиболее необходимым потребностям капризную прихоть. Не разум вообще, а лишь разум слабосильного тела или пустого кошелька заставляет отказаться от радостей распутной жизни в пользу всеобщего блага. Чувственные потребности являются материалом, из которого разум вырабатывает моральные истины. Среди чувственно данных потребностей различной важности или различного объема отделить существенное, истинное, от индивидуального, способствовать развитию общего — вот в чем заключается задача разума. Различие между тем, что нам лишь кажется разумным, и тем, что на самом деле разумно, сводится к различию между частным и общим.
Мы помним, что разум, для того чтобы быть, чтобы проявлять себя, чтобы вообще познавать, предполагает чувственность, что он нуждается в наличности познаваемого объекта. Бытие есть условие или предпосылка познания вообще. Как задачу физики составляет познание истинного бытия, так задачу мудрости составляет познание разумного бытия. Вообще разум должен познавать то, что есть: в физике то, что истинно, в философии то, что разумно. Подобно тому как истинное может быть переведено словом общее, так разумное можно передать словом целесообразное, так что истинно разумное значит то же самое, что общецелесообразное. Мы раньше видели, что какое-либо явление чувственности истинно не «в себе», но истинно только относительно; оно может быть названо истинным или всеобщим только в отношении к другим явлениям, менее общим. Точно так же известные поступки в человеческой жизни не могут быть разумными или целесообразными сами «в себе» — они могут быть названы целесообразными лишь в отношении к другим поступкам, которые стремятся к той же самой цели менее целесообразными, другими словами, нецелесообразными путями. Как истинное, всеобщее, предполагает отношение к отдельному объекту, к данному количеству какого-нибудь явления, предполагает известные границы, в пределах которых оно истинно, или обще, так и разумное, или целесообразное, предполагает известные отношения, при наличности которых оно разумно, или целесообразно. Само слово уже содержит в себе свое толкование: цель (Zweck) есть мера (Mass) целесообразного (des Zweckmassigen). Лишь на основе данной цели можно определить то, что целесообразно. Раз только дана цель, то поступок, осуществляющий ее самым широким, самым общим способом, будет разумен, а в противовес ему всякий менее целесообразный способ будет неразумен.
На основе выведенного из анализа чистого разума закона, что всякое познавание, всякое мышление направлено на чувственный объект, на известное количество чувственности, мы приходим к совершенно ясному для нас выводу, что все, что различается нашей различающей способностью, есть определенное количество; что, таким образом, все различия лишь количественны, не абсолютны; что все различия являются различиями лишь по степени, но не по существу. И различие между неразумным и разумным, т. е. между разумным только в данный момент и с точки зрения лишь данного индивида, и разумным вообще, подобно всякому различию, лишь количественно, так что все неразумное при известных условиях разумно и только безусловно разумное — неразумно.
Если мы поймем, что познание вообще нуждается во внешнем объекте, во внешней мере, то мы откажемся от своего желания познавать бесконечный разум, или разумное как таковое. Мы должны будем удовольствоваться тем, чтобы как везде, так и здесь отыскивать разумное в частном. Определенный, точный, ясный, единогласный результат познания зависит от определенной формулировки задачи, от точного определения того чувственного количества, которое должно быть познано. Если даны: время, личность, класс, народ и вместе с этим существенная потребность, всеобщая, преобладающая цель, то не может возникнуть для нас вопроса о том, что разумно или целесообразно. Правда, мы можем знать также действительно всеобщий человеческий разум, но лишь при той предпосылке, что в данном случае критерием для нас является всеобщее человечество, а не какая-либо отдельная часть его. Наука может познать не только строение тела какого-либо отдельного индивида, но и всеобщий тип человеческого тела, но это опять только при том условии, что она предложит нашей познавательной способности не индивидуальный, а всеобщий материал. Если естествознание делит все человечество на четыре или пять рас, устанавливает характеризующие их законы, а впоследствии встречает в действительности еще другие лица или племена, которые благодаря своим редким свойствам не могут быть подведены ни под одну определенную группу, то существование подобного исключения не есть преступление против физического миропорядка, а лишь доказательство неудовлетворительности нашей научной классификации. Если же, наоборот, господствующие взгляды признают какой-либо поступок вообще разумным или неразумным, а затем наталкиваются в жизни на противоречия, они считают себя вправе отказаться от обязанности более точного познания и просто-напросто отрицают за противником право гражданства в нравственном миропорядке. Вместо того чтобы из факта наличности противоречивых инстанций убедиться в ограниченном значении данного правила, этому последнему, совершенно игнорируя наличное противоречие, приписывается дешевенькая абсолютность. Это есть только догматическое отрицание, отрицательная практика, игнорирующая объект как нечто недостаточное, но это не есть положительное познание, обстоятельное знание, доказывающее свое преимущество примирением противоположностей.
Если поэтому наша задача требует от нас открытия человечески-разумного вообще, то такого определения заслуживают лишь поступки, которые без исключения целесообразны по отношению ко всем людям, всем временам и при всяких обстоятельствах, следовательно, у нас опять будут только бесспорные и поэтому ничего не говорящие, неопределенные общие фразы. Что физически целое больше части, что в морали следует отдавать предпочтение добру перед злом, — все это именно такие общие и поэтому ничего не значащие, непрактические познания. Предмет разума есть всеобщее, но всеобщее определенного отдельного предмета. Разум на практике имеет дело с отдельным, частным, с противоположностью всеобщего, с определенными, частными знаниями. Чтобы физика могла знать, что? есть целое и что? часть, она нуждается в данных явлениях, или объектах. Лишь при наличности данного определенного, специального количества человеческих потребностей мы можем определить, что? с точки зрения морали есть добро и что? — зло. Всеобщий разум со всеми его всеобщими, вечными истинами есть порождение невежественной фантазии, безнадежно сковывающее право индивидуальности. Действительный, истинный разум индивидуален, он только и может создавать индивидуальные познания, которые общи лишь постольку, поскольку в основу их положен общий материал. Разумно вообще лишь то, что признается всяким разумом. Если мы разум определенной эпохи, определенного класса или личности называем разумным, что, однако, не может мешать другим быть противоположного мнения, — если русский дворянин признает крепостное право, а английский буржуа свободу своего рабочего разумными институтами, то и то и другое разумно не вообще, а лишь относительно, лишь в применении к более или менее ограниченному кругу явлений.
Излишне указывать на то, что этим мы нисколько не противоречим высокому значению нашего разума. Если разум и не в состоянии абсолютно, самостоятельно открыть предметы спекулятивного исследования, объекты морального мира, истинное, прекрасное, справедливое, разумное и т. д., он все же при помощи чувственно данных отношений умеет отличить относительное, всеобщее и частное, бытие и явление, необходимые потребности и капризные прихоти. Даже если мы отказываемся от веры в разумное «в себе» и, следовательно, не являемся абсолютными приверженцами мира, мы тем не менее можем признать войну пагубным злом, имея в виду мирные интересы нашего времени или граждан. Только когда мы окончательно прекратим тщетные поиски истины вообще, мы сумеем найти пространственно и временно истинное. Сознание того, что наши познания имеют лишь относительное значение, является как раз наиболее сильным двигателем прогресса. Верующие в абсолютную истину носятся в своем воображении с монотонной схемой честных людей и разумных учреждений. Они поэтому противятся всем человеческим и историческим формам, не подходящим под их норму и вопреки их измышлениям, существующим в действительности. Абсолютная истина есть первооснова всякой нетерпимости. Наоборот, терпимость вытекает из сознания, что «вечные истины» имеют лишь относительное значение. Понимание чистого разума, т. е. уразумение всеобщей зависимости духа, есть истинный путь к практическому разуму.
б) Нравственно-справедливое
По существу своему наша работа ограничивается доказательством того, что чистый разум есть фикция, что разум есть понятие, обнимающее собою отдельные акты познания, которые являются лишь мнимо чистыми, т. е. всеобщими, на самом же деле по необходимости всегда оказываются лишь практическими, т. е. частными, познаниями. Мы рассмотрели «философию», эту мнимую науку о якобы чистом, или абсолютном познании. Ее цель суетная: развитие философии представляет собой ряд постоянно чередующихся разочарований, когда безусловные или абсолютные системы оказываются обусловленными рамками времени и места. Наше изложение показало относительность вечных истин. Мы признали, что разум зависит от чувственности, что известные границы являются необходимым условием истины вообще. Что касается специально жизненной мудрости, то мы видели, что добытые наукой о «чистой» познавательной способности результаты подтверждают на практике зависимость мудрого или разумного от чувственно данных отношений. Если применить эту теорию также к области морали в более тесном смысле, то и здесь, где спорят о том, что? справедливо и что? дурно, можно будет при помощи научного метода достигнуть научного единогласия.
Языческая мораль — одно, мораль христианская — другое. Феодальная мораль отличается от современной буржуазной так же, как храбрость — от платежеспособности. Одним словом, нет оснований подробно доказывать, что мораль различных времен и различных народов различна. Наша задача должна состоять в том, чтобы уразуметь эту историческую смену как необходимость, как преимущество человеческого рода, как историческое развитие и заменить веру в «вечные истины», за что господствующие классы постоянно выдают свои корыстные законы, наукой о том, что право вообще есть не что иное, как одно только понятие, которое наше мышление составляет из различных отдельных прав. Право вообще обозначает не больше и не меньше, чем всякое другое родовое понятие, чем, например, голова вообще. Каждая действительная голова имеет свои особенности, она является головой человека или животного, она широка или длинна, узка или массивна, другими словами — она устроена своеобразно, или индивидуально. Но каждая отдельная голова опять-таки обладает всеобщими свойствами, свойствами, присущими всем головам без исключения, например, тем свойством, что все они являются верхней частью тела. Да, каждая голова имеет столько же свойств общих, сколько частных; она не в большей степени своеобразна, чем обща. Мыслительная способность берет у отдельных, действительных голов общее и создает, таким образом, понятие головы, т. е. голову вообще. Как голова вообще обозначает то, что обще всем головам, так право вообще обозначает то, что обще всякому праву. И то и другое лишь понятия, а не вещи.
Всякое действительное право есть особое право; оно справедливо только при известных условиях, для известных времен, для того или другого народа. «Не убий» — право во время мира, но беззаконие во время войны; право для большинства современного общества, считающего, что надо свои прихоти приносить в жертву господствующим потребностям, но оно беззаконие для дикаря, не дошедшего еще до того, чтобы ценить мирную совместную жизнь, а считающего указанное право за несправедливое ограничение своей свободы. С точки зрения инстинкта самосохранения убийство есть отвратительное зверство, с точки зрения мести — исцеляющий бальзам. Так, разбой для разбойника — право, для пострадавшего же от разбоя — беззаконие. О беззаконии вообще может поэтому быть речь лишь в относительном смысле. Этот поступок лишь постольку вообще беззаконен, поскольку он вообще вызывает осуждение. Он для значительного большинства беззаконие потому, что наше поколение больше заинтересовано в непрерывном мире и спокойствии, чем в открытых грабежах.
Если бы какой-либо закон, какое-либо учение, какой-либо поступок были абсолютно справедливыми, справедливыми вообще, то они должны были бы соответствовать благу всех людей, при всяких условиях, во все времена. Однако это благо столь же различно, сколь различны люди, обстоятельства и времена. Что для меня хорошо, то для другого плохо; что является, как правило, удовольствием, может быть как исключение страданием; что пригодно для одного времени, непригодно для другого. Закон, который предъявил бы претензию на то, чтобы быть правом вообще, не должен был бы противоречить никому и ничему. Никакая мораль, никакой долг, никакой категорический императив, никакая идея добра не может научить человека тому, что? добро, что? зло, что? справедливо, что? несправедливо. Добро — то, что соответствует нашим потребностям, зло — то, что им противоречит. Но пусть укажут: что же такое добро вообще? Все и ничего! Ни прямое, ни кривое дерево не есть добро. Ни то, ни другое не есть добро; и то, и другое — добро там, где оно мне нужно. Нам же нужно все, во всякой вещи мы можем найти полезную сторону. Мы не ограничиваемся тем или другим. Мы неограниченны, универсальны, наши потребности всеобщи. Поэтому наши интересы неисчислимы, необъятны, поэтому всякий закон недостаточен; он всегда преследует лишь отдельное благо, отдельную выгоду, поэтому ни одно право не справедливо или же все права, как «убий», так и «не убий», справедливы.
Различие между хорошими и плохими, настоящими и дурными потребностями, подобно истине и заблуждению, разуму и безрассудству, находит свое разрешение в различии между частным и общим. Разум так же мало в состоянии добывать из себя положительные истины, абсолютные моральные правила, как и какую-нибудь другую спекулятивную истину. Только когда ему дан чувственный материал, он может количественно отличать общее от частного, качественно существенное от несущественного. Познание справедливого или морального, подобно всякому познанию, стремится к общему. Но общее возможно лишь в известных границах как общее отдельного, данного, чувственного объекта. Если какое-нибудь правило, какой-нибудь закон или право хотят превратить в право «в себе», в право вообще, то здесь забывают об этом необходимом ограничении. Право вообще прежде всего есть пустое понятие; оно получает лишь расплывчатое содержание, если под ним подразумевают право человека вообще. Мораль, определение того, что справедливо, имеет, однако, практическую цель. Если мы общечеловеческое, непротиворечивое право признаем за моральное право, то мы этим самым, по необходимости, упускаем из виду практическую цель. Действия или поступки, признанные справедливыми вообще, т. е. везде и всюду, сами себя рекомендуют и не нуждаются поэтому в существовании каких-либо предписаний закона. Только ограниченный, приспособляющийся к определенным лицам, классам, народам, определенным эпохам и условиям закон имеет практическую ценность, и он тем более практичен, чем он более ограничен, определен, точен, чем он менее общ.
Самое общее, наиболее признанное право или потребность по своему качеству не справедливее, не лучше, не ценнее, чем самое маленькое право какого-либо определенного момента, чем мимолетная потребность определенной личности. Несмотря на то что мы знаем, что солнце имеет громадную величину, мы тем не менее склонны видеть его лишь величиной в тарелку. Несмотря на то, что мы известное веление морали признаем теоретически или вообще добрым и святым, мы на практике склонны отвергать его в данный момент, в известных случаях, в применении к известным личностям как злое и никуда негодное. Самое возвышенное, святое и всеобщее право может иметь значение лишь в определенных границах, и точно так же в определенных границах самое возмутительное беззаконие может быть правом. Правда, существует вечно различие между мнимой и действительной пользой, между страстью и, разумом, между существенными, преобладающими, всеобщими, всеми признанными потребностями и склонностями и случайными, подчиненными, особенными прихотями. Но это различие не создает два отдаленных друг от друга мира — мир добра, с одной стороны, и мир зла — с другой. Различие это не положительное, не всеобщее, не постоянное, не абсолютное; оно имеет лишь относительное значение. Подобно различию между красивым и некрасивым, оно находится в зависимости от индивидуальных особенностей того, кто различает. Что в одном случае является настоящей, вызванной велениями разума потребностью, то в другом является второстепенной, подчиненной, предосудительной склонностью.
Мораль есть сводное понятие, охватывающее самые различные, друг другу противоречащие нравственные законы, имеющие общую цель так регулировать образ действий человека по отношению к себе и другим, чтобы в настоящем иметь в виду будущее, наряду с одним и другое, наряду с индивидом — род. Отдельный человек чувствует себя слабым, недостаточно сильным, ограниченным. Чтобы дополнить себя, он нуждается в другом человеке, в обществе, и поэтому, чтобы жить, он должен дать жить другим. И вот совокупность соображений, вытекающих из этой взаимной нужды людей друг в друге, и охватывается одним словом «мораль».
Беспомощность отдельной личности, потребность в товариществе, является основанием, или причиной уважения к ближнему, морали. Как носитель этой потребности, человек, всегда и неизбежно индивидуален, так и сама потребность неизбежно индивидуальна, то в большей, то в меньшей степени. Как неизбежно различны ближние, так же неизбежно различны и соответствующие мотивы. Конкретному человеку свойственна и конкретная мораль. Как абстрактно и бессодержательно понятие «человечество вообще», так же абстрактно и бессодержательно и понятие «общая нравственность», так же непрактичны и безрезультатны и этические законы, которые выводятся из этой расплывчатой идеи. Человек — живая личность, которая носит свое благо и свою цель в себе самой, имеет посредником между собой и миром потребность, пользу, и не подчиняется никакому, без исключения, закону дольше, чем этого требует его польза. Моральная обязанность и долг индивида никогда не выходят за пределы его интересов. Но что выходит за эти пределы, так это материальная власть общего над частным.
Если мы определим задачу разума как познание морально справедливого, то единодушный научный результат может быть достигнут при том лишь условии, что мы предварительно столкуемся относительно лиц и отношений, относительно тех границ, в пределах которых должно определяться понятие общесправедливого; при этом, мы не будем, следовательно, искать прав в себе, а лишь определенных прав, соответствующих известным предпосылкам, и благодаря этому мы точнее определим нашу задачу. Противоречивое определение морали, неправильное разрешение ее объясняется неправильным пониманием задачи. Искать справедливого без известного количества чувственности, без ограниченного материала — это только спекуляция, считающая возможным постигнуть природу без чувств. В стремлении добиться положительного определения морали на основании данных чистого познания из чистого разума проявляется философская вера в априорное знание.
«В самом деле, — говорит Маколей в своей «Истории Англии» при описании восстания народа против беззаконного и жестокого царствования Якова II, — точно провести границы между справедливым и несправедливым восстанием невозможно. Эта невозможность вытекает из природы различия между правом и беззаконием и наблюдается во всех областях этики. Добрый поступок нельзя так резко отграничить от дурного, как круг от четырехугольника. Существует граница, где добродетель и порок переходят друг в друга. Кто мог бы провести резкую границу между храбростью и удальством, между осторожностью и трусостью, между щедростью и мотовством? Кто может точно указать, как далеко следует простирать милость над преступлением, где она уже не заслуживает названия милости, а переходит в пагубное бессилие?»
Причина невозможности точно определить эту границу не лежит, как полагает Маколей, в природе различия между правом и беззаконием, а в предвзятом нашем взгляде, который допускает существование неограниченного права, положительных добродетелей и пороков, но не может подняться до уразумения того, что понятия доброго и смелого, справедливого и несправедливого всегда относятся лишь к субъекту, который оценивает явления, а не к объекту как таковому. Храбрость в глазах осторожного человека кажется удальством, а осторожность в глазах храброго — трусостью. Восстание против существующего правительства всегда кажется правым лишь восставшим, а тем, против кого восстают, оно кажется всегда неправым. Никакой поступок не может быть назван справедливым вообще, абсолютно справедливым и несправедливым.
Одни и те же свойства человека, в зависимости от их необходимости и применения, времени и места, то хороши, то дурны. В одном случае требуются увертки, хитрость и коварство, в другом — верность, прямота и чистосердечие. Иногда приводят к цели и благополучию милосердие и доброта, а иногда — только беспощадная кровавая строгость. Количеством, большей или меньшей полезностью какого-либо человеческого свойства определяется различие между добродетелью и пороком.
Лишь поскольку разум может измерять степень правомерности какого-либо свойства, предписания или поступка, он способен различать правое и неправое, добродетель и порок. Не категорический императив, не этическое долженствование обосновывает действительное практическое право, а, наоборот: этика находит свое обоснование в чувственном и действительном правовом бытии. Вообще для разума чистосердечие не является лучшей чертой характера, чем хитрость. Лишь постольку, поскольку чистосердечие количественно, т. е. чаще, в большем количестве случаев, оказывается полезнее, чем хитрость, оно предпочтительнее. Из этого вытекает, что наука о справедливом может служить путеводной нитью для практики лишь постольку, поскольку, с другой стороны, практика явилась предпосылкой науки. Наука не может просветить практику более, чем она сама была ею просвещена. Разум не может наперед определить образ действия человека, потому что он может только познавать действительность на опыте, но не предвидеть ее, — ведь всякий человек, всякая ситуация новы, первоначальны, оригинальны и раньше никогда не существовали; способность разума ограничена суждениями a posteriori.
Право вообще или право «в себе» — это какое-то заоблачное право, метафизическое желание. Научно общее право нуждается в данных чувственных предпосылках, на основании которых только и возможно определение общего. Наука не догмат, голословно заявляющий, что «то или другое справедливо», раз оно признано как право. Наука нуждается для своих познаний во внешнем основании. Она может познавать справедливое лишь постольку, поскольку оно существует как справедливое. Бытие — материал, предпосылка, условие, основание науки.
Из сказанного вытекает требование исследовать мораль не спекулятивно, или философски, а индуктивно, или научно. Мы должны стремиться к познанию не абсолютных, а лишь относительно общих прав и признать моральной задачей разума только права, вытекающие из наперед данных предпосылок. Так, вера в нравственный миропорядок претворяется в сознание человеческой свободы. Познание разума, знания, или науки, включает в себя познание ограниченной обязательности всех этических норм.
То, что на человека производило впечатление спасительного, чрезвычайно ценного, божественного, то он считал за святое святых веры, самым ценным благом: таким благом, например, египтяне считали кошку, а христиане — отеческое попечение. Так, когда собственные потребности человека привели его к порядку и дисциплине, благодетельная роль закона вызвала в нем такое высокое мнение о его благородном происхождении, что он стал смотреть на свое собственное творение, как на божественный дар. Изобретение мышеловки или другие благодетельные новшества вытеснили кошку из ее высокого положения. Там, где человек становится сам себе господином, сам своей защитой и оплотом, где он сам «предвидит», там всякое другое провидение становится бесплодным, а при дальнейшей зрелости опека свыше становится тягостной. Человек ревнив! Он бесцеремонно подчиняет все и вся своим интересам: и бога, и заповедь! Пусть какое-либо предписание приобрело себе благодаря своим заслугам старый бесспорный авторитет, но новые, совершенно противоположные потребности могут низвести божественное повеление до степени человеческого предписания, превратить старое право в назревшую несправедливость. Старому суровому правилу наказания «око за око, зуб за зуб», которое иудей почитал как защиту морали, христианин совсем отказал в уважении. Он познал благодать миролюбия, проповедовал в Ханаане покорность в страданиях и наполнил опустелый ковчег новым содержанием: смиренным терпением, готовностью после удара в правую щеку смиренно подставить левую. А в наше номинально христианское, а на самом деле в высшей степени антихристианское время столь почитаемое раньше терпение уже давно вышло из моды.
Как каждая вера имеет своего особого бога, так каждое время имеет и свое особое право. И только в такой степени религия и мораль оказываются в соответствии с почитанием своей святыни; но они становятся слишком надменными, когда стараются казаться чем-то большим, чем они суть на самом деле; когда они готовы счесть то, что временами, при известных условиях, божественно и справедливо, непреложным при всяких условиях, абсолютным и неизменным; когда они думают превратить целебное средство, пригодное для их индивидуальной болезни, в шарлатанское универсальное средство; когда они забывают свое происхождение. Первоначально индивидуальная потребность диктует закон, а затем вечно жаждущий нового человек должен плясать на узком канате этих правил. Первоначально только действительное добро является правом, а затем лишь признанное право — добром. Самое неприятное следующее: провозглашенному закону недостаточно быть справедливым в данное время, для данного народа или страны, для данного класса или касты — он хочет господствовать над всем миром, хочет быть правом вообще, что так же странно, как если бы пилюля захотела стать лекарством вообще, годным как для поноса, так и для запора. Остановить эти чрезмерные притязания, сорвать с вороны павлиньи перья — вот задача прогресса, который призван вывести человека за границу дозволенного, расширить его кругозор и вновь вернуть его стесненным нуждам их прежнюю свободу. Переселение из Палестины в Европу, где запрещение есть свинину теряет основание, так как она не угрожает более чирьями и чесоткой, естественно, освобождает нас от выполнения некогда божественного, а теперь совершенно бессмысленного ограничения. Но прогресс срывает с бога или права его покровы не для того, чтобы одеть в них кого-либо другого, — это было бы обменом, а не достижением. Развитие не изгоняет традиционных святых из страны; оно только вытесняет их с захваченной территории всеобщего в их особый уголок; оно сперва вынимает ребенка из ванны, а затем лишь выплескивает воду. Потому только, что кошка потеряла ореол святости и перестала быть божеством, она еще не перестает ловить мышей, и если еврейские заповеди о периодическом омовении уже давно забыты, все же чистоплотность по-прежнему пользуется заслуженным уважением. Только экономному пользованию прежними приобретениями обязаны мы современным богатством цивилизации. Развитие столь же консервативно, сколь и революционно, и находит в каждом законе столько же беззакония, сколько и права.
Правда, люди, признающие долг, чувствуют различие между моральным и законным правом; но их интересы и предрассудки служат помехой для понимания, что каждый закон первоначально был морален, а каждая определенная мораль с течением времени низводится до степени простого закона. Их понимание распространяется на другие времена и другие классы, но только не на свои собственные. В законах китайцев и лапландцев все узнают китайские и лапландские потребности. Но гораздо более высоким является кодекс буржуазной жизни! Наши современные учреждения и моральные воззрения суть или вечные истины природы и разума, или неизменные изречения оракула чистой совести. Как будто у варвара не варварский разум; как будто у турка не турецкая, у еврея не еврейская совесть! Как будто человек приспособляется к совести, а не наоборот — совесть к человеку!
Кто ограничивает назначение человека любовью к богу и служение ему, чтобы впоследствии достигнуть вечного блаженства, тот пусть, веруя, признает за авторитет унаследованные предписания своей морали и сообразно этому живет. Для кого, напротив, целью является развитие, образование, земное благо человека, для того вопрос об основании этого владычества будет далеко не праздным. Только сознание индивидуальной свободы создает необходимое для осмысленного прогресса пренебрежение ко всякого рода чужим предписаниям, освобождает нас от стремления к иллюзорному идеалу, к лучшему миру вообще и снова возвращает нас к определенным практическим интересам нашего времени или индивидуальности. Одновременно оно примиряет нас также с существующим действительным миром, который мы рассматриваем уже не как неудавшуюся реализацию того, что должно быть, а как существующий строй того, что может быть. Мир всегда справедлив. То, что есть, должно быть — и оно должно стать другим не раньше, чем оно станет другим. Там, где есть действительность, власть, там уже само собою возникает право, т. е. формулировка справедливого. Бессилию в действительности не остается никаких прав, пока ему не удастся стать силой, превосходящей другие силы, чтобы затем отвоевать своим потребностям подобающее место. Как понимание истории выясняет нам религии, нравы, учреждения и воззрения прошлого не только с их отрицательной, смешной, отжившей стороны, но и с положительной, разумной, необходимой, — как, например, в боготворении животных мы узнаем лишь одухотворенное признание их полезности, — точно так же понимание современности обнаруживает перед нами существующее положение вещей не только в его недостатках, но и как разумный, необходимый вывод из предшествующих посылок.
в) Святое
В известном положении: «цель оправдывает средства», развитая теория морали находит свою практическую формулировку. Оно часто ставится в упрек и нам, и иезуитам. Защитники ордена Иисуса стараются представить это положение как злостную клевету на своего клиента. Мы же не желаем высказываться ни за, ни против: мы хотим рассмотреть дело по существу, обосновать это положение как истинное, разумное и постараться реабилитировать его в общественном мнении.Для устранения общераспространенного противоречия было бы достаточно выяснить себе, что средства и цели — понятия весьма относительные, что все особые цели суть средства, а все средства — цели. Подобно тому как нельзя провести резкого, положительного различия между большим и малым, правом и беззаконием, добродетелью и пороком, мы не можем провести также резкой грани между средством и целью. Само по себе взятое, рассматриваемое отдельно как целое, всякое действие есть самоцель, и различные моменты, на которые распадается даже самое кратковременное действие, суть ее средства. В связи с другими действиями каждое отдельное действие есть средство, которое вместе с ему подобными стремится достигнуть общей цели. Действия сами по себе — ни средство, ни цель. Само в себе и для себя ничего не существует. Всякое бытие относительно. Вещи суть то, что они суть, только через свои взаимоотношения. Обстоятельства меняют дело. Поскольку каждое действие имеет рядом с собой другие действия, — оно средство, оно имеет свою цель вне себя, в обществе; но поскольку каждое действие вполне закончено, — оно цель, включающая в себе свои средства. Мы едим, чтобы жить; но поскольку мы, однако, живем во время еды, мы живем, чтобы есть. Как жизнь относится к своим функциям, так цель относится к своим средствам. Как жизнь есть только понятие, обнимающее жизненные функции, так и цель есть понятие, обнимающее свои средства. Различие между средством и целью сводится к различию между частным и общим. И все абстрактные различия сводятся к этому одному различию, потому что сила абстракции или различения сама сводится к способности различать между частным и общим. Но это различение предполагает материал, нечто данное, известный круг чувственных явлений, при помощи которых она осуществляется. Раз этот круг в области действий или функций дан, иными словами, раз предметом является заранее ограниченное количество действий, то мы можем назвать общее — целью, а каждую более или менее значительную часть круга, каждую отдельную функцию — средством. Является ли определенное действие целью или средством, зависит от того, рассматриваем ли мы его как целое в отношении к его собственным моментам, из которых оно слагается, или как часть в отношении к ее связи с другими действиями и поступками. С общей точки зрения, охватывающей все человеческие действия в их цельности, имеющей своим предметом изучение человеческих действий в их целом, существует только одна цель: человеческое благо. Это благо есть цель всех целей, цель в последней инстанции, настоящая истинная, общая цель, по отношению к которой все частные цели суть только средства.
И наше утверждение, что цель оправдывает средства, может иметь безусловное значение только в отношении к безусловной цели. Все частные цели конечны, условны. Абсолютной, безусловной целью является только человеческое благо, т. е. цель, оправдывающая всякие мероприятия и действия, всякие средства, пока они ей служат, но отвергающая их, однако, как только они предоставлены самим себе, как только они ей больше не служат. Благо (Heil) буквально и фактически означает первопричину и основу всего святого (des Heiligen). Свято (heilig) повсюду то, что благотворно (heilsam). При этом не следует упускать из виду, что благо (Heil) вообще, то благо, которое оправдывает (heiligt) всякие средства, есть лишь абстракция, истинное содержание которой так же различно, как различны времена, народы или люди, ищущие блага для себя. Не следует упускать из виду, что для определения святого или благого необходимы известные, определенные отношения, что ни одно средство, ни одно действие не является святым само по себе, а становится таковым лишь при известных условиях. Не цель вообще, а только святая цель оправдывает средства. Но так как всякая настоящая, частная цель только относительно свята, то она оправдывает свои средства тоже лишь относительно.
Возражения, выставляемые против нашего положения, направлены не столько против него самого, сколько против ложного его применения. За так называемыми святыми целями оспаривается признание, ради них допускаются только ограниченные средства, потому что в глубине души таится сознание, что этим целям присуща только ограниченная святость. С другой стороны, мы нашим утверждением хотим лишь сказать, что различные номинально святые средства и цели на самом деле святы не потому, что какой-нибудь авторитет, изречение священного писания, совести или разума признает их святыми, а только потому и лишь постольку, поскольку они соответствуют общей цели всех целей и всех средств — человеческому благу. Наше учение о цели отнюдь не утверждает, что мы должны пожертвовать святой вере любовью и преданностью, но оно не стоит также на противоположной точке зрения — что мы должны пожертвовать для любви и верности верой. Оно устанавливает только факт, что там, где высшая цель обусловлена чувственными наклонностями или обстоятельствами, все противоречащие им средства дурны и, наоборот, что средства, вообще говоря, дурные благодаря своему отношению к временному или индивидуальному благу приобретают временное или индивидуальное оправдание (Heiligung). Там, где миролюбие фактически считается благой целью, война является дурным средством. Там же, где человек, наоборот, ищет блага в войне, убийства и поджоги являются святыми средствами. Иными словами, наш разум нуждается для правильного определения понятия святого в известных чувственных отношениях или фактах как предпосылках: он может определить святое не вообще, не a priori, не метафизически, а только по отношению к специальному случаю, a posteriori, только эмпирически.
Познать, что благо людей есть цель всех целей, самое святое из всех средств, далее — отрешиться от всех частных определений, от всех личных идей этого блага и признать фактическое его разнообразие — значит понять вместе с тем, что средства вообще не могут быть более святы, чем свята сама цель. Никакое средство, никакое действие не может быть положительно свято (heilig) или благотворно (heilsam). В зависимости от условий и известных отношений одно и то же средство то хорошо, то дурно. Какая-либо вещь хороша лишь тогда, когда ее последствия хороши, лишь потому, что добро — ее результат, ее цель. Ложь и обман дурны только потому, что их результаты нам неприятны, потому что мы не хотим быть обманутыми. Напротив, там, где речь идет о святой цели, основанный на лжи и обмане маневр называется военной хитростью. Если верующий человек считает целомудрие добродетелью потому, что оно предписано богом, то с ним нам нечего спорить; но тот, кто почитает добродетель ради добродетели и презирает порок из-за порока, т. е. из-за последствий его, тот признает вместе с тем, что он жертвует для здоровья вожделениями плоти, или, иными словами, что только цель оправдывает средства.
Согласно христианскому мировоззрению, заповеди христианства безусловно хороши, хороши и для современности и для вечности, хороши потому, что христианское откровение их признает таковыми. Оно не знает, что его добродетель par excellence[6], специфически христианская добродетель воздержания, получила свое значение лишь в противовес языческой испорченности и пресыщению и что по сравнению с разумным, умеренным наслаждением она уже не есть добродетель. Христианство знает известные средства, считающиеся хорошими без всякого отношения к ее цели, и другие, считающиеся дурными, также независимо от цели. Поэтому оно с полным основанием отвергает выставленное выше положение.
Современное христианство, современный мир, однако, на практике уже давно покончили с этой верой. На словах, правда, этот мир называет душу прообразом божиим, а бренное тело — вонючей гнилью, но на деле мы видим, как мало значения имеют эти религиозные фразы: о лучшей части нашего «я» он заботится довольно мало, а все заботы и чувства направляет на презренную плоть. И наукой, и искусством, и вообще благами всех стран люди пользуются для возвеличения плоти — для того, чтобы ее роскошно одеть, вкусно питать, заботливо за ней ухаживать и укладывать на мягкую постель. И если по сравнению с вечной будущей жизнью о здешней земной жизни отзываются с презрением, то все же шесть дней в неделю неустанно посвящают именно наслаждению земной жизнью, а небу отдают не более часа в воскресенье, и то без особого усердия. Одинаково бессмысленно выступает так называемый христианский мир и на словах против нашего положения, но на деле он оправдывает целью своего собственного благополучия самые презренные средства, поддерживая государственными средствами из личных соображений (argumentum ad hominem) даже проституцию. Если палаты наших конституционных государств отделываются от врагов буржуазного строя, лишая их прав и ссылая их, и мотивируют это нарушение известной заповеди: «Не делай другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе», общественным благом или же объясняют свои законы о разводе интересами частного блага, то мы в этом находим лишь фактическое подтверждение того, что цель оправдывает средства. И если граждане предоставляют государству права, которые они сами за собой не признают, то ведь и с точки зрения наших противников эти права уступаются государству его подданными.
Правда, если кто-либо в буржуазном обществе пользуется ложью и обманом как средством обогащения, хотя бы с целью оказывать благотворительность другим, или же если, подобно святому Криспину, крадет кожу, чтобы сшить беднякам сапоги, то он не оправдывает своих средств своей целью, потому что цель эта, если и святая для него вообще, не признается им таковой в данном определенном случае, потому что благотворительность есть цель лишь второстепенной святости и является по отношению к главной цели, буржуазному строю, только средством, которое, не удовлетворяя своему назначению, теряет даже наименование доброй цели; одним словом, как уже было указано, цель может только при известных обстоятельствах быть святой, и только при этих же обстоятельствах она может оправдывать и средства. Непременное условие всех хороших целей — это их благотворность, которая, будь она понята в христианском или языческом, феодальном или буржуазном смысле, всегда ставит требование, чтобы существенному и необходимому постоянно подчиняемо было несущественное и менее необходимое; между тем в данном случае более ценимая честность и буржуазная правдивость приносятся в жертву менее ценимой благотворительности. «Цель оправдывает средства» — это значит, другими словами, что прибыль как в экономии, так и в этике должна являться рентой на основной капитал. Поэтому, если обращение к вере неверующего назвать хорошей целью, а полицейское насилие — дурным средством, то это еще не говорит против истинности упомянутого положения, а указывает лишь на неправильное его применение. Средство не свято, потому что цель не хороша, потому что насильственное обращение — не благая цель, а, напротив, цель преступная, лицемерная, потому, что обращение это не заслуживает названия обращения неверующих, или потому, что насилие — такое средство, которое не заслуживает названия средства. Если насильственное обращение и деревянное железо для нас одинаково бессмысленные названия, то как можем мы подходить к фактически всеми признанной истине с такими вздорными понятиями, бессмысленными фразами, диалектическими увертками и софизмами! И иезуитские средства — коварство и интриги, яд и убийства — для нас не святы лишь потому, что самая иезуитская цель, например расширение, обогащение и возвеличение ордена, является для нас второстепенной целью, для которой можно пользоваться невинной проповедью; но она не безусловно святая цель, не цель во что бы то ни стало, ради которой мы признали бы дозволенными средства, допустимые при стремлении к существенной цели, как, например, общественной или личной безопасности. Убийство и разбой кажутся нам как индивидуальные действия безнравственными, потому что это не средства, направленные к достижению нашей цели, потому что мы сочувствуем не мести или жадности грабителя, произволу и своевластному присвоению себе роли судьи, а, напротив, законности и более беспристрастному решению со стороны государства. Но когда мы затем объявляем себя судом присяжных и истребляем при помощи веревки и топора опасных преступников, разве это не значит, что цель оправдывает средства?
Те самые люди, которые хвалятся тем, что уже несколько столетий назад окончательно порвали с Аристотелем, т. е. с верой в авторитеты, и на место мертвой, традиционной истины поставили живую, самоочевидную истину, оказываются в данном случае в полном противоречии со своей собственной тенденцией. При каком-либо забавном происшествии, хотя бы рассказанном свидетелем, вполне заслуживающим доверия, все же, остается место для полной свободы мнения, т. е. то самое, что рассказчик считал смешным и шуточным, слушателю может показаться серьезным и фатальным. Следует различать историю и полученное от нее субъективное впечатление, характеризующее скорее рассказчика, чем его объект. При определении хороших целей и дурных средств, напротив, желают оставить без внимания различие между объектом и его «субъективным определением, а на это ведь главным образом обращено внимание всякой критики. Такие цели, как благотворительность, обращение неверующих и т. д., называют без дальнейших рассуждений, совершенно бессмысленно, a priori, хорошими и святыми, потому что они когда-то были таковыми, несмотря на то что их живое впечатление в упомянутых случаях говорит о них как раз обратное, а затем удивляются, что неправомерное основание порождает и неправомерные привилегии.
Определения «хорошей» или «святой» заслуживает практически лишь та цель, которая сама является средством, подчиненным цели всех целей, всеобщему благу. Там, где человек ищет свое благо в буржуазной жизни, в производстве и торговле, в беспрепятственном обладании богатствами, его длинные пальцы постоянно натыкаются на заповедь «не укради»; где, напротив, как у спартанцев, война является высшим благом и хитрость является необходимым качеством хорошего воина, там пользуются всякими мошенническими уловками для приобретения хитрости, оправдывают воровство как средство для известной цели. Но ругать спартанцев за то, что они — воины, а не честные буржуа, значит не понимать жизни, значит не понимать, что наша голова призвана не насаждать в мир те или иные условия, а понять, что в известное время народ, индивид всегда суть то, чем они при данных условиях могут, а следовательно, и должны быть.
Если положением «цель оправдывает средства» мы ставим на голову господствующее воззрение, то это — не заслуживающая порицания индивидуальная страсть к парадоксам, а последовательное применение философской науки. Философия возникла из веры в дуалистическую противоположность между богом и миром, между телом и душой, духом и плотью, головой и чувствами, между мышлением и бытием, между общим и частным. Примирение этих противоположностей является целью или общим результатом философского исследования. Философия нашла свое разрешение в убеждении, что божественное является мирским и мирское — божественным, что душа относится к телу, дух — к плоти, мышление — к бытию, разум — к чувствам, точно так же как единство к многообразию или как общее к частному. Философия начала с ошибочной предпосылки, будто из числа один, как из чего-то первоначального, явились два, три, четыре как из него вытекающее многообразие. Но она пришла к убеждению, что истина, или действительность, совершенно опрокидывает эту предпосылку; что многообразная действительность, чувственное многообразие, особенное есть то первое, откуда человеческая мозговая функция постепенно выводит понятие единства, или общности.
Ни один результат науки не потребовал столько гениальности и остроумия, сколько одно это незначительное теоретико-познавательное достижение. Но ни одно научное новшество не находит столько старых, глубоко коренящихся препятствий для своего признания. Над всеми умами, незнакомыми с результатами философии, господствует старая вера в действительность истинного, настоящего, всеобщего блага, открытие которого сведет на нет все ненастоящие, мнимые частные святыни; между тем познание процесса мышления выясняет нам, что искомое благо — продукт мозга, которое именно потому, что оно должно быть общим, т. е. абстрактным, благом, не может быть чувственным, или действительным, т. е. частным благом. В вере в полное различие между настоящим и ненастоящим благом проявляется незнание процесса духовных операций. Пифагор считал сущностью вещей число. Если бы грек признал эту сущность вещей продуктом головы, или разума, и определил число как сущность разума, как общее, или абстрактное, содержание всякого духовного деяния, то не было бы всех этих споров, которые с того времени велись по поводу различных форм абсолютной истины, о «вещах в себе».
Пространство и время — общие формы действительности, или, иными словами, действительность существует в пространстве и во времени. Поэтому всякое действительное благо пространственно и временно, а всякое пространственное и временное благо — действительно. Разнообразнейшие блага, поскольку они являются таковыми, отличаются друг от друга только по своей длине и ширине, по размерам своей протяженности, только численно. Всякое благо, как действительное, так и мнимое, дано нам через посредство чувственного, практического ощущения, а не разума. Но практика считает для различных людей и в разные времена благотворными самые различные вещи. То, что раньше считалось благом, потом считается несчастьем, и наоборот. Познанию, или разуму, остается только одно — учитывать эти блага, полученные путем чувственного восприятия, либо исходя из различия людей и эпох, когда эти блага созидались, либо по различным степеням интенсивности, с какою они осуществляются, и таким образом отличать малое от великого, несущественное от существенного, частное от общего. Разум не может нам самодержавно предписать истинное благо, а может лишь учесть из чувственно данного количества благ чаще всего встречающееся, самое большое или самое общее. Но не следует забывать, что истинность такого познания или исчисления покоится на определенной, заранее данной предпосылке. Итак, напрасно старание отыскать истинное благо вообще! Практическим, успешным исследование может стать только в том случае, если оно ограничится познаванием определенного блага какого-нибудь определенного частного явления. Общее возможно лишь в пределах известных границ. Но в одном сходятся различные определения блага, а именно, что всегда благотворно пожертвовать малым для великого, несущественным для существенного, а не наоборот. Поскольку это положение справедливо, справедливо, далее, и то, что мы для достижения хорошей цели, великого блага применяем или допускаем дурное средство, меньшее зло; другими словами — цель оправдывает средства.
Если бы у противников нашего воззрения хватило либерализма предоставить каждому достигать блаженства по-своему, то они легко убедились бы в его справедливости. Но вместо этого все обыкновенно остаются близорукими и делают свою частную точку зрения универсальной. Собственное благо называют единственно истинным, а благо других народов, эпох и обстоятельств — недоразумением, подобно тому как всякое направление искусства выдает свой субъективный вкус за объективную красоту, забывая, что единство — это лишь дело идеи, мысли, а действительность знает только многообразие. Действительное благо многообразно, а истинное благо — только субъективный выбор, который, подобно забавной истории, в известном случае может произвести совсем иное впечатление, может быть ненастоящим благом. Если Кант, Фихте или какой-нибудь другой индивидуальный философ свободно толкует о назначении человека и затем, к величайшему своему и всей аудитории удовольствию, успешно разрешает поставленную задачу, то мы ведь теперь уже знаем на основании опыта, что путем спекулятивного исследования можно определить лишь свое личное понятие о назначении человека, но нельзя открыть ни одного неизвестного, скрытого объекта. Мысли, рассудку должен быть дан объект, его дело — суждение, критика; он может различать между подлинным и неподлинным благом, но должен также помнить о существовании известных пределов, помнить, что он сам, подобно этому различению, индивидуален; что это различение имеет значение лишь до тех пор, пока и другие получают о данном предмете такое же впечатление.
Человечество — это идея, но человек — всегда отдельная личность, которая находит свою своеобразную жизнь только в своем своеобразном элементе и поэтому подчиняется всеобщему закону из личных только мотивов. Жертва в этике, как и жертва в религии, есть только мнимое самоотречение с целью разумного себялюбия; она — затрата с надеждой на получение большего барыша. Нравственность, заслуживающая действительно этого имени, а не та, что должна скорее быть названа повиновением, может проявиться только путем познания ее ценности, ее благотворности, ее полезности. Из различия интересов вытекает различие партий, из различия цели — различие средств. В менее важных вопросах об этом свидетельствуют также защитники абсолютной морали.
Тьер рассказывает в своей истории французской революции об особой ситуации в 1796 г., когда патриотам принадлежала публичная власть и роялистам — революционная агитация, так что поборники революции, которые должны были бы явиться сторонниками неограниченной свободы, стали требовать репрессивных мер, а оппозиция, которая втайне склонялась более в сторону монархии, чем республики, вотировала за неограниченную свободу. «Вот в какой степени партии управляются своими интересами», — гласит его заключительное замечание, как будто это аномалия, а не естественный, необходимый, неизбежный ход вещей. Если же, напротив, речь идет об основных законах буржуазного строя, то идеологи господствующего класса достаточно эгоистичны, чтобы совершенно отрицать зависимость своего класса от его интересов, и называют эти законы вечными, метафизическими, мировыми законами, устои своего господства — вечными устоями человечества, свои средства — единственно священными и свою цель — самой совершенной.
Это возмутительный обман, похищение человеческой свободы, попытка приостановить историческое развитие, когда какая-либо эпоха или какой-либо класс выдает свои личные цели и средства за абсолютное благо всего человечества. В морали прежде всего проявляются интересы, подобно тому как в моде проявляется вкус, а затем уже приходится приспособлять в последнем случае — платье, а в первом — действие к данному образцу. Власть при этом неизбежно, ради самосохранения, прибегает к насилию и принуждает непокорных к подчинению. Интерес и обязанность если не вполне синонимы, то все же очень родственные понятия. Оба растворяются в понятии блага. Интерес — это скорее конкретное, современное, осязательное благо, обязанность же, напротив, более широкое, относящееся к будущему общее благо. Если интерес стремится к ближайшему звонкому благополучию кошелька, то обязанность, напротив, требует, чтобы мы имели в виду не только часть, но и целое, не только настоящее ближайшее, но и отдаленное будущее, не только телесное, но и духовное благо. Обязанность заботится о сердце, о социальных нуждах, о будущем, о спасении души, коротко говоря — об интересах в их целом, и заставляет нас отказываться от излишнего для того, чтобы достигнуть и удержать необходимое. Таким образом, обязанность человека — его интерес, а интерес человека — его обязанность.
Если наши идеи должны приспособляться к истине, или действительности, а не наоборот — истина к нашим идеям и мыслям, то мы должны признать изменчивость того, что справедливо, священно и нравственно, за нечто естественно необходимое и истинное, предоставляя и теоретически личности ту свободу, которую она практически себе берет: мы должны признать, что личность как до сих пор, так и в будущем свободна и создает законы сообразно своим потребностям, а не на основании расплывчатых, нереальных и невозможных абстракций, как справедливость или нравственность. Что такое справедливость? Общее понятие для определения того, что считают справедливым, следовательно, индивидуальное понятие, принимающее у различных личностей различную форму. В действительности существуют только отдельные, определенные, частные права, а затем является человек и выводит из них понятие справедливости, подобно тому как из отдельных кусков дерева выводится общее понятие дерева или из материальных предметов — идея материи. Несмотря на свою распространенность, представление о том, что материальные вещи состоят из материи или существуют посредством нее, совершенно неверно. Также ошибочна вера в то, будто моральные или гражданские законы проистекают из идеи о справедливости.
Ущерб, наносимый нравственности нашим реалистическим или, если угодно, материалистическим пониманием морали, не так велик, каким он кажется. Мы не должны поэтому бояться, что мы вместо социальных существ станем не знающими закона каннибалами или отшельниками. Свобода и законность тесно связаны между собой нашей потребностью в товариществе, и поэтому мы вынуждены дать и другим возможность жить рядом с нами. Кто по побуждению совести или другим спиритуалистически-нравственным мотивам воздерживается от противозаконных действий — противозаконных в широком смысле этого слова, тот либо подвергался только слабому искушению, либо настолько кроткого характера, что естественные и законные наказания более чем достаточны для того, чтобы удержать его в предписанных границах. Там, где наказания недостаточны, бессильна и мораль; в противном случае она втайне должна была бы оказывать на верующих такое же сдерживающее влияние, как гласность на неверующих; а на самом деле мы ведь встречаем больше верующих мошенников, чем неверующих разбойников. Что весь мир, на словах придающий нравственности так много значения, фактически проникнут именно нашей точкой зрения, можно видеть из того огромного внимания, которое все уделяют уголовному уложению и полиции.
Да и борьба наша направлена не против нравственности, даже не против определенной ее формы, а против той высокомерности, которая считает известную ее форму абсолютной, нравственностью вообще. Мы признаем нравственность как нечто вечно священное, поскольку под этим следует понимать те соображения, которые возникают у человека в стремлении к собственному благу и благу своих ближних. Но определить ближе эти соображения, их степень — это уже дело свободы индивида. То обстоятельство, что при этом власть, господствующий класс или большинство выставляет свои специальные потребности как предписания права, столь же естественно, как то, что рубашка ближе к телу, чем сюртук. Но признать писанное право абсолютным правом, непреходимой гранью для человечества, кажется нам совершенно излишним и даже вредным для развития тех сил, которые ведут нас по пути к прогрессу.
Экскурсии социалиста в область теории познания
Предисловие
Вопросы, разбираемые в предлагаемой здесь серии статей, на первый взгляд мало касаются социал-демократии. Поэтому мы считаем нужным дать некоторые разъяснения относительно того, на каком основании печатаемые ниже статьи приняты в «социал-демократическую библиотеку».
Теория познания, которой посвящены эти «экскурсии», занимается рассмотрением вопроса о том, как создан тот аппарат в нашей голове, который должен применять всякий, кто бы пожелал разобраться в окружающих его природных явлениях и человеческих отношениях — различать их и познавать.
Аппарат, которым владеет и который употребляет всякий, является, конечно, аппаратом демократическим. Интеллект присущ всем людям и есть поэтому дело общее, общественное, это социал-демократический аппарат и социал-демократическое дело. Если Бисмарк пользуется этим аппаратом иначе, чем социал-демократы, то мы ведь и убеждены, что он пользуется своим интеллектом неправильно.
Совершенной ясности достигнуть никогда нельзя, однако приближение к ней самоочевидно. И теория познания никогда не исчерпает своего предмета и никогда не научит нас пользоваться нашими умственными способностями безошибочно. Но это не дает нам права отказаться от улучшений. А так как и социал-демократия энергично стремится к тому, чтобы прояснять головы, то ей обоснованная теория познания может только пригодиться.
Я исхожу из того, что теория познания занимается вопросом об устройстве нашего мыслительного аппарата. Выясняя себе это, мы в то же время выясняем условия его применения. И хотя устройство и применение какого-либо предмета — две вещи разные, но позволительно все же рассматривать их как нечто единое. По моему мнению, только тот может постигнуть всецело устройство скрипки, кто умеет на ней хорошо играть, только он знает, что в ней скрывается и что нужно предпринять для достижения хорошей игры.
Нет спора, что люди превосходно рассуждали, правильно мыслили и делали точные заключения при помощи своего мыслительного аппарата и не будучи знакомы с теорией познания. Крестьянин знает, как сажать картофель, если даже он не изучал агрономии; однако не следует упускать из виду, что наука заставляет крестьянина поступать целесообразнее. Она учит его, как нужно обрабатывать поля, давая возможность предвидеть наперед успех. И если он, несмотря на это, остается в зависимости от ветра и погоды, то наука все же делает его свободным в некоторых отношениях. Совершенно свободным он никогда не становится, чрезмерное философствование и умствование помочь ему не могут, но все же они кое в чем помогают. Если не рабами, то слугами природы мы вечно должны будем оставаться. Познание может нам дать лишь возможную свободу, которая в то же время и есть единственная разумная свобода.
Итак, аппарат, об устройстве которого трактуют нижеследующие статьи, применяется всеми во всех случаях. Нет ничего более всеобщего и универсального в человеческом мире, как познавание, понимание, рассуждение, различение и т. д. Поэтому теория познания есть элементарная наука, подобно азбуке, только в более глубоком смысле. Развитой рассудок идет дальше умения читать и писать. Уже знаменитый Спиноза оставил нам небольшое, к сожалению незаконченное, сочинение «Об усовершенствовании интеллекта». И именно эту, чрезвычайно важную цель — усовершенствование этого аппарата — мы себе и ставим нашими «экскурсиями в область теории познания».
Кто хочет стать настоящим социал-демократом, тот должен усовершенствовать свой образ мышления. Усовершенствованный метод мышления помог нашим признанным учителям Марксу и Энгельсу поднять социал-демократию до той научной точки зрения, на которой она теперь стоит. Усовершенствование человеческого образа мышления, как и всякое другое усовершенствование, является бесконечной проблемой, полное разрешение которой никогда не достижимо, что, однако, нас нисколько не должно удерживать от того, чтобы стремиться вперед.
Единственный и естественный путь состоит в увеличении наших специальных знаний. Хотя теория познания, стремящаяся зажечь светоч, из которого исходит всякий свет, в самом корне затрагивает желанное просветление человеческой головы, мы все же настолько скромны, чтобы признать, что одной такой теории, как бы совершенна она ни была, недостаточно. Хотя все специальности в этом отношении в состоянии оказывать известную помощь, но ни одна специальная наука не способна всецело просветить нашу голову. Эта цель может быть достигнута лишь частично. Мы будем поэтому вполне удовлетворены, если благосклонный читатель признает, что и эти «экскурсии» внесли свою малую лапту в пользу общей цели науки.
И. Дицген.
Чикаго, 15 Декабря 1886 г.
1. «В глубины природы не проникнуть ни одному смертному духу»
Эти слова как нельзя лучше показывают нам, что и «вечные истины» поддались грызущему влиянию времени. — Столь часто повторяемое изречение поэта и в настоящее время имеет немало поклонников. Тем больше оснований имеем мы взять на себя труд доказать последователям старой мудрости, какие успехи делает всеразрушающая критика.
«Смертный дух» — это специальный объект исследования одной специальной науки, которая присваивает себе название «философии». Значение этого названия испытало изменения. Во времена древних греков философ был вообще любителем мудрости, между тем как в настоящее время всеобщее развитие культуры сделало такие успехи, что человеку становится ясно, что в одном любительстве мало толку. Кто ищет мудрости, должен обращаться к науке, которая преподносит нам свои результаты не в виде туманных обобщений, а окрашенными в разнообразные цвета специальных знаний. Философия также стала специальностью; объект ее специального исследования совпадает со «смертным духом».
Преимущественно со времен Канта философия начала сознавать, что все ее прежние искания были, в большей или меньшей степени, юношескими мечтаниями и что она, подобно всем остальным научным дисциплинам, должна себе ставить определенную цель, чтобы вообще достигнуть какой-либо цели. Она с тех пор поэтому постепенно стала приспособляться к требованиям современности и превратилась, наконец, в критику познания.
Смертный дух, или духовный орган, который сформирован самой природой у человека в голове, постоянно мучил его своей таинственностью. Разъяснение этой тайны совершилось благодаря пониманию того, что все вещи, все явления природы покрыты глубокой тайной, пока они не исследованы. Чем ближе человек с ними знакомится, тем больше они теряют свой таинственный характер. Смертный дух не представляет исключения. С тех пор как философия вполне сознательно, ясно и определенно занимается его изучением, таинственное стало нам более знакомым и приняло совершенно другой вид.
Идолопоклонники обоготворяли самые обыкновенные вещи — камни и деревья; точно так же «смертному духу» приписывалось нечто божественное и таинственное сначала религией, а затем философией. То, что религия называла верой и сверхъестественным миром, философия называла метафизикой. Мы, однако, не должны упускать из виду то преимущество метафизики, что она намеревалась и стремилась превратить свой предмет в науку, что в конце концов ей и удалось. Из метафизической мировой мудрости выросла, как бы за ее спиной, специальная дисциплина скромной теории познания.
Но не следует философам оказывать слишком много чести. Смертный дух предстал перед светом науки не только благодаря философским головам: выяснению его сущности в значительной степени, по крайней мере косвенно, содействовали также естествоиспытатели. Внося свет в истолкование разных предметов, естественные науки подготовляли умы и создавали возможность теоретико-познавательного исследования. Прежде чем философия могла проникнуть в сущность смертного духа, ей надо было показать практическим применением естествознания, что духовный аппарат человека на самом деле обладает находившейся до сих пор под сомнением способностью освещать внутреннюю сущность природы.
Физики достаточно скромны, чтобы признать, что существует множество неизвестных миров. Однако многим из них не мешало бы знать, что даже неизвестное не так уже совершенно неизвестно и таинственно. Даже самый неизвестный мир и самые таинственные вещи наряду со всеми известными странами и предметами принадлежат к одной и той же категории, а именно к универсальному естественному миропорядку. Благодаря понятию «вселенной», имеющемуся в человеческой голове, человек знает, a priori, как если бы это знание было ему прирождено, что все вещи и небесные тела находятся во вселенной и имеют универсальную, общую всем им природу. Смертный дух не представляет исключения из этого научного закона.
Старый религиозный круг идей препятствует познанию того, что природа не только номинальная, но и истинная монада, не имеющая ни над собой, ни в себе, ни рядом с собой ничего другого, также и бессмертного духа. Вера в бессмертный, сверхъестественный религиозный дух мешает познанию, что человеческий дух создан и воспроизведен самой природой, что он ее собственное дитя, по отношению к которому она не церемонится.
И тем не менее природа застенчива; она никогда не раскрывается сразу и полностью. Она не может раскрыться целиком, потому что она неисчерпаема по своим дарам. А все-таки смертный дух, это дитя природы, — светильник, освещающий не только внешнюю, но и внутреннюю сторону природы. Отделять внутреннее от внешнего по отношению к физически бесконечной и неисчерпываемой единой сущности природы — значит вносить путаницу и в понятия. Точно так же «смертный дух» — понятие запутанное, поскольку оно должно обозначать некий бессмертный, великий, чудовищный, метафизический дух, обитающий где-то над облаками.
«Великий дух» религии умаляет человеческий дух, всю вину чего следует приписать поэту, отрицающему у этого духа способность «проникать в глубины природы». А ведь бессмертный чудовищный дух есть лишь фантастическое отражение смертного физического духа. Теория познания в наиболее развитом своем виде может вполне доказать это положение.
Она показывает нам, что смертный дух заимствует все свои представления, мысли и понятия у единого монистического мира, который естественные науки называет «физическим миром». Он унаследовал от доброй матери-природы часть ее неисчерпаемости. Он так же безграничен и неисчерпаем по своим познаниям, как безгранична готовность природы раскрыть ему свою грудь. Ограничено это дитя только вследствие безграничного богатства любви матери: оно не может исчерпать ее, ибо она неисчерпаема.
Смертный дух благодаря своим знаниям проникает в самые глубины природы, но он не может выйти за ее пределы не потому, что он есть ограниченный ум, а потому, что мать — бесконечная природа, естественная бесконечность, вне которой ничего не существует.
От своей чудесной матери ее естественное дитя унаследовало сознание. Смертный дух появляется на свет со способностью сознавать, что он дитя своей доброй матери-природы, которая одарила его способностью создавать себе превосходные образы о всех остальных детях своей матери, о всех своих братьях и сестрах. Таким образом, «смертный дух» обладает образами, представлениями или понятиями о воздухе и воде, земле и огне и т. д. и в то же время сознанием, что эти созданные им образы — превосходные, неискаженные образы. Он, правда, убеждается на опыте, что создания природы изменчивы, и замечает, например, что вода состоит из самых различных видов воды, в которых ни одна капля абсолютно не равна другой, но одно он унаследовал от своей матери — он знает сам от себя, a priori, что вода не может изменить своей всеобщей, присущей ей как воде природы без того, чтобы перестать быть водой; он знает поэтому, так сказать, пророчески, что, несмотря на все перемены, происходящие в вещах, их всеобщая природа, их всеобщая сущность не может изменяться. Смертный дух никогда не может знать, возможно или невозможно то или иное у его бессмертной матери, но то, что вода во всех случаях мокра и что ум, даже если бы он обитал над облаками, не может изменить своей всеобщей природы, — смертный дух знает безусловно благодаря присущей ему по рождению природе. Смертный дух как дитя природы обладает прирожденной способностью знать, что рассудок должен быть рассудочным, природа — естественной, вода — жидкой и бессмертный дух — сверхъестественным.
Сказанное может многим казаться голословным утверждением. Но так как каждый читатель носит с собой, в своей собственной голове, доказательство этого факта, то я могу и не брать на себя труда приводить другой доказательный материал. Пусть каждый спросит у своей головы, не известно ли ей, так сказать, пророчески, что если на луне существует рассудок, то этот рассудок может быть немногим больше, немногим меньше, чем рассудок Петра или Павла, но что он, несмотря на всю свою изменчивость, должен как по своему объему, так и по силе остаться в известных, присущих рассудку, пределах.
Собранные в течение столетий философской наукой знания о «смертном духе» сводятся к учению, что этот дух есть сила, естественная сила, как, например, сила тяжести, теплота, свет, электричество и т. д., и что он наряду со своей всеобщей природой, подобно остальным силам, обладает специальными свойствами, отличающими его одного и ему одному присущими. Если мы ближе рассмотрим это специальное свойство «смертного духа», то мы найдем, что ему прирождена, если хотите, «чудесная» способность знать непосредственно и с безусловной достоверностью, что две горы не бывают без долины, что часть меньше целого, что круги не четырехугольны и что медведи не слоны. Эта удивительная способность смертного духа заслуживает нашего внимания потому, что из нее вытекает далее положительное знание о том, что мысль о каком-либо другом духе, помимо известного нам человеческого, мысль о таком духе, который не вмещается в рамках класса всех известных духов, — сумасбродная мысль, духовное сумасбродство.
Смертный дух матерью-природой наделен развитым при помощи опыта даром классифицировать, различать и давать названия остальным созданиям природы. Так, например, он отличает буки от дубов, медведей от слонов, он классифицирует весь мир и убежден, что подобная классификация имеет свое основание, правильна, ясна и всем понятна. То обстоятельство, что эта классификация подлежит развитию и, следовательно, некоторым переменам, известному преобразованию, не меняет и не противоречит тому, что в общем и целом данная классификация, данное предпринятое человеческим духом деление остается неизменным, постоянным и сохраняющим значение. Из этого положения вытекает, что то, что в Берлине называется Brot, хотя бы оно в Париже носило название du pain, изменяет лишь свое имя, но всегда и везде остается хлебом. Он может принимать самые разнообразные виды, формы и цвета, быть испеченным из различных сортов муки, но все эти формы не могут изменить его сущности. Дубы могут быть разнообразного вида, но выходить за пределы своей природы дуба они не могут. Точно так же медведи: среди них есть большие и малые, серые и черные, но не может быть таких, которые не подходили бы под свой вид, таких, которые не имели бы ничего общего с медвежьей породой.
Это знание дано нам объективным исследованием «смертного духа».
Мы ссылаемся на все это из желания констатировать факт, что относительно духа у нас имеются такие же точные знания, как в отношении хлеба, дубов и медведей. Может быть, на остальных планетах есть много духов, о которых мы не знаем, но они в общем и целом не могут быть по роду своему иначе созданы, чем известные нам здесь «смертные духи», иначе они противоречили бы не только названию, но и самому понятию. Сверхмерный дух — фантастическое понятие.
Так же фантастично понятие о природе у утверждающих, будто природа закрывает для «смертного духа» доступ к своей сущности. Природа — это бесконечность. Кто это понимает, понимает также, что в отношении к ней не может быть речи ни о начале, ни о конце, ни о верхе, ни о низе, ни о внутреннем, ни о внешнем. Все эти обозначения применимы не к самой природе, которая абсолютна, а только к ее частям, к ее продуктам, к ее детям, к отдельным вещам.
Руками мы схватываем лишь осязаемое, глазами — лишь видимое и т. д., но при помощи понятия мы охватываем всю природу во всей ее универсальности. Из этого не следует, что способность образовывать понятия имеет основание гордиться и смотреть свысока на наши чувства, как на нечто ограниченное. Врожденная человеческой голове, эта способность без помощи пяти чувств так же мало была бы в состоянии усвоить какое-либо понятие, как мало, без содействия интеллекта, глаза в состоянии видеть, уши — слышать, руки — осязать. Как целое зависит от отдельных частей, так и все отдельные части находятся в зависимости от природы в целом.
Если мы хотим составить себе правильное представление о природе и о ее смертном духе, то последнему мы прежде всего должны внушить сознание, что он не должен считать себя выше своей матери, как это было в то время, когда он рассказывал небылицы о сверхъестественном и сверхприродном духе. Правильное понятие о человеческом духе, понятие, которое приписывает этой части природы не слишком большое и не слишком малое значение, а как раз то, которое на ее долю приходится, мы можем составить себе только тогда, когда ясно и отчетливо усвоим сознание универсальности природы. Тогда мы видим, что те таинственные свойства, которые ей приписываются, лишь фантазия; мы видим и узнаем, как открыто делает свое дело универсальная природа. Наш ум — ее собственный продукт. От нее получил он в наследство и дар и назначение приобрести себе ясное понимание ее и всех ее явлений. — Слово «всех» я сознательно употребляю здесь с ограничением, нисколько не забывая, что природа в творчестве своих явлений неисчерпаема и что смертный дух, поскольку он является частью природы, несмотря на всю свою универсальность в деле понимания, все же может быть лишь ограниченным созданием природы.
Разве у нас нет чувства осязания, воспринимающего все осязаемое? Возможно, что существует такое животное, которое обладает более чувствительными органами осязания, чем нервы человеческой кожи. Неужели мы поэтому имеем право жаловаться на ограниченность чувства осязания или на несовершенство природы? На это следовало бы ответить утвердительно, если бы эта последняя не снабдила нас умом, обладающим достаточной изобретательностью, чтобы приобрести такие аппараты, которые дают нам возможность уловить тонкости, недоступные даже самым чувствительным органам осязания.
Одним словом, кто ближе всмотрится в результаты естествознания, не осмелится обвинить природу в таинственной замкнутости, а кто, кроме того, обратит внимание и на результаты философии, должен будет сознаться, что человеческий дух призван разрешить всевозможные загадки. Невозможное же не имеет никакого смысла и не может поэтому быть объектом нашего рассмотрения и внимания.
Что мы сказали? Невозможное не имеет никакого смысла?! Разве можно еще у чего-либо другого, помимо человеческой головы, предполагать существование рассудка? Разве не мы, люди, только одни и обладаем умом, разумом, рассудком, познавательной способностью? Так как об этом здесь как раз идет речь, то подобный вопрос вполне уместен.
Как способность зрения тесно связана со светом и цветом или субъективная способность осязания с объективным свойством быть осязаемым, так же смертный дух тесно связан с загадкой природы. Без доступных рассудку вещей внешнего мира никакой рассудок внутри головы не может быть действительным. Ошибка отсталых гносеологов, постоянно блуждающих в тумане в вопросах о духе и природе и ищущих спасения за облаками, в том и состоит, что они проглядели эту связь вещей.
Чрезмерное умаление духа, за которым отрицается способность освещать внутреннюю сущность природы, а также чрезмерная мистификация природы, внутренняя сущность которой должна быть нам непонятна, — и то и другое обязаны своим происхождением образу мышления, который всесильно в продолжение целых тысячелетий царил над людьми. Теперь же старания философии достигли того, что, наоборот, человек царит над своим образом мышления, по крайней мере, постольку, поскольку он, правильно и согласно всем правилам искусства, умеет разрешить задаваемые ему загадки.
Философия открыла искусство мыслить. Она уделила много стараний рассмотрению вопроса о совершеннейшем существе, о понятии божества, о «субстанции» Спинозы, о кантовской «вещи в себе», об «абсолюте» Гегеля. Это обстоятельство объясняется тем, что трезвое понятие о вселенной, о всеедином, не имеющем ничего ни над собой, ни рядом с собой, ни вне себя, является первым требованием правильного, последовательного образа мышления, знающего относительно себя и всех возможных и невозможных объектов, что все принадлежит единому, вечному и бесконечному целому, которое мы называем космосом, природой или универсумом.
Мы этим, как нам кажется, доказали, что дух, более высокий, чем человеческий, невозможен. Мой и твой дух — ограниченные духи, потому что они только части или куски всеобщего человеческого духа. Духи людей зависят друг от друга, они дополняют друг друга, они учатся друг от друга, и эта взаимная связь образует прогрессивный, развивающийся дух целого рода. «На дереве человечества тесно переплетаются листья». Как высоко вырастет еще это дерево, мы не знаем, но что оно не врастет в небо, это мы знаем a priori положительно и безусловно.
Итак, с одной стороны, мы утверждаем: нам неизвестно еще все, что возможно в природе. Она, может быть, создаст в конце концов более чудесные вещи, чем это в состоянии нарисовать себе самая смелая фантазия. И тем не менее, с другой стороны, мы утверждаем, что нам безусловно известно, что невозможно.
Как же объясняется это противоречивое знание о возможном и невозможном?
Очень просто: наше несомненное знание о невозможности чудовищного бессмертного духа основывается на критике разума, которую иначе называют теорией познания. Эта дисциплина избрала себе данный в опыте дух специальным объектом исследования и убедилась при этом на опыте, что ему присуще несомненное убеждение в универсальности природы, что ему по крайней мере в зачаточном виде врождено убеждение в ее единственности, бесконечности и неизмеримости.
Духовенство убеждено, что его всемогущее божество не может делать ничего злостного и злого. Почему нам не быть убежденными, что «естественное всемогущество», творец человеческого рассудка, не может создать непонятных и бессмысленных вещей? В природе, правда, достаточно непонятных вещей, т. е. достаточно сравнительной или второстепенной бессмыслицы, но той чрезмерной, полной, исключительной бессмыслицы мы не можем мыслить; природа не позволяет этого нашей мыслительной способности; от этой последней наш ум унаследовал убеждение, что она не может быть непонятной и бессмысленной.
Всемогущая природа создала разум и дала ему сознание, что ее всемогущество есть разумное могущество, которое не может быть настолько бессмысленным, чтобы творить таких духов и создания, которые были бы еще всемогущественнее, чем всемогущество природы. Закон естественной логики и разумной природы гласит, что каждая вещь принадлежит своему роду, что роды и виды, правда, изменчивы, но не в такой чрезмерной степени, чтобы они могли выйти за пределы всеобщего рода, за границы естественного. Не может быть поэтому духа, столь глубоко проникающего в сущность природы, чтобы он мог как бы сложить и спрятать ее в карман.
Разве эта уверенность, сообщенная нам природой, есть нечто чудесное? Разве непонятно, что эта мыслящая часть природы унаследовала от своей матери убеждение, что всемогущество природы — разумное всемогущество? Не было ли бы более непонятным, если бы дочь стала думать о своей матери, что она всемогуща и вездесуща в противном рассудку смысле?
Да! Природа во всех отношениях чудесна, смотрим ли мы на нее поверхностно или вдумчиво вникаем в ее сущность. Но все же естественная чудесность объяснима. Гораздо удивительнее люди, мечтающие о безмерно чудесном интеллекте, который должен превратить бесконечные чудеса природы в тривиальность.
2. Абсолютная истина и естественные ее проявления
Был это Гете или Гейне? Мне вспоминается изречение одного из них: «Только нищие скромны». Я отрекаюсь от всякой «нищенской» скромности, так как я убежден в том, что сумею внести маленький вклад в великое дело науки. В этом моем мнении укрепляет меня майский номер «Neue Zeit» 1886 г., где заслуженный Фридрих Энгельс в своей статье о Людвиге Фейербахе с похвалой отзывается о моих трудах. В подобных случаях существенное столь тесно связано с личным, что чрезмерная скромность может повредить выяснению существенного.
То, что я намерен изложить здесь, мною уже было высказано в одном из моих сочинений, появившемся 17 лет назад. Но это было сделано так неудовлетворительно, что я ввиду серьезных успехов, сделанных критикой познания за это время, считаю нужным вернуться к этой теме. Уже Гегель в своем предисловии к «Феноменологии духа» сделал меткое замечание: «Легче всего высказать суждение о том, что имеет содержание и завершенность, труднее — понять его и еще труднее — что соединяет то и другое — изложить его». Принимая к сведению эти слова, я и отказался от исчерпывающего изложения разбираемого сложного вопроса; я пытаюсь лишь дать, и по возможности выпукло, квинт-эссенцию близкого моему сердцу вопроса. Поставленная мною таким образом задача объясняет, почему я считаю себя вправе для разъяснения моей темы рассказать в нескольких словах, каким образом я пришел к ней.
1848 год со своими реакционерами, конституционалистами, демократами и социалистами возбудил в моем, тогда молодом, сердце непреоборимую потребность приобрести критически прочную, несомненную точку зрения, положительное мнение о том, что из всего написанного и услышанного за и против, собственно говоря, является несомненно и безусловно истинным, добрым и правильным. Так как я вполне основательно сомневался относительно существования бога, а к церкви не питал никакой веры, то мне было очень трудно разобраться во всем этом. В поисках я набрел на Людвига Фейербаха и познакомился с его учением; тщательное изучение этого последнего меня сильно подвинуло вперед. Еще в большей степени моя жажда знания была утолена «Манифестом коммунистической партии», с которым я познакомился благодаря газетам в связи с кёльнским процессом коммунистов. Но больше всего я своим дальнейшим развитием обязан, после ознакомления с различными философскими писаками в своей уединенной сельской жизни, появившейся в 1859 г. книге Маркса «К критике политической экономии». В предисловии к этой книге сказано, что способ — так приблизительно гласит цитируемое здесь положение, — каким человек приобретает кусок хлеба, культурный уровень, при котором данному поколению приходится работать физически, определяют умственный уровень или то, как оно мыслит и должно мыслить об истине, добре и праве, о боге, свободе и бессмертии, о философии, политике и юриспруденции.
Все, что я в продолжение своей жизни читал и изучал, преследовало одну цель, достигнуть которой я стремился всеми помыслами, всеми фибрами своей души: я постоянно задавался вопросом, как можно приобрести положительное знание, т. е. мерило для оценки того, что истинно и правильно.— Цитированное положение наводит на правильный путь и учит нас, как вообще обстоит дело с человеческим познанием и с абсолютной и относительной истиной.
То, что я сейчас передаю как личное переживание, есть опыт, приобретенный также и человечеством в течение веков. Если бы эти вопросы и это стремление к абсолютной истине я первый поставил так необдуманно, то я оставался бы тем дураком, который бесконечно ждет ответа. Тем, однако, что я дураком не остался, а получил удовлетворительный ответ, я обязан историческому ходу вещей, побудившему меня поставить упомянутые вопросы в такое время, когда уже целый ряд предшествовавших поколений в лице лучших своих представителей занимался их изучением, подготовляя то объяснение, которое, как видно из предыдущего рассказа, мне было дано Фейербахом и Марксом. Я хочу этим сказать, что то, что мне дали эти ученые, было не только их индивидуальным делом, а коллективным продуктом движения культуры, восходящего к доисторическому времени.
Правда, в среде предшественников, в среде тех, кто, начиная от грека Фалеса вплоть до пруссака Юрген-Бона Мейера из Бонна, стремился к абсолютной истине и искал ее, царит мало единодушия. Но тот, кто присмотрится ближе, должен заметить красную нить, проходящую от поколения к поколению и становящуюся все яснее и очевиднее. Недостаточное понимание значения истории еще в настоящее время заставляет многих мыслителей искать философское просвещение во внутренних продуктах своей головы, а ведь было бы гораздо целесообразнее, вооружившись хоть несколько большим историческим чутьем, обратиться к тем результатам, которые достигнуты постепенным развитием науки в течение тысячелетий.
Но перейдем к делу! На вопрос, что такое истина, абсолютная истина, Пилат пожимает плечами, как бы желая сказать: «Это для меня слишком серьезно, ступай и спроси первосвященника Каиафу». А этот говорит то же, что говорят священники еще и теперь: бог — это истина, она надземна и сверхъестественна. На опровержении этого ответа теперь, в конце XIX столетия, долго останавливаться не приходится. С другой стороны, Пилаты довольно еще многочисленны даже среди представителей науки и сильно мешают выработке правильных взглядов как раз в отношении этого пункта.
Чтобы точнее познать природу абсолютной истины, прежде всего необходимо преодолеть укоренившийся предрассудок, будто бы она — духовного свойства. Нет, абсолютную истину можно видеть, слышать, обонять, осязать, несомненно также познавать, но она не входит целиком в познание, она не есть чистый дух. Ее природа ни телесна, ни духовна, ни то, ни другое, — она всеобъемлюща, она как телесна, так и духовна. Абсолютная истина не имеет особенной природы, ее природа скорее природа всеобщего. Или, выражаясь без всяких иносказаний: всеобщая естественная природа совпадает с абсолютной истиной. Не существует двух природ: одной телесной, другой духовной, есть только одна природа, в которой заключается все телесное и все духовное.
Вселенная тождественна природе, мировому целому и абсолютной истине. Естественные науки делят природу на части, области, дисциплины, но при этом они знают или чувствуют, что подобное деление лишь формально, что природа и вселенная, несмотря на всякие деления, нераздельна; несмотря на все различия и разнообразия, есть лишь неделимая, универсальная и всеобщая природа — мир, или истина.
Существует только одно бытие, а все формы — модусы, виды или относительные истины одной всеобщей истины, абсолютной, вечной и бесконечной для всех времен и пространств. Человеческое познание, подобно всему другому, есть ограниченная часть неограниченного, модус, вид действительного бытия, или всеобщей истины.
Так как до сих пор природа истины считалась духовной, а истину принимали как бы за вещь, заключающуюся только в познании, то исследование человеческого познания относится к разбираемой нами теме, к вопросу об абсолютной и относительной истине и их взаимоотношениях.
Духовный мир человека, т. е. все, что мы знаем, во что мы верим и что мы мыслим, образует лишь часть универсального миропорядка, который только в своей абсолютной связи, в своей совокупности имеет неограниченное, совершенное, абсолютное, истинное, в самом высшем смысле этого слова, существование. Однако в своих частях, модусах, видах, продуктах или явлениях он обладает бесконечным множеством существований, которые все вместе также истинны, но по отношению к целому составляют лишь относительные истины.
Человеческое познание, будучи само относительной истиной, ставит нас в связь с другими явлениями и отношениями абсолютного бытия. Однако познавательную способность, познающий субъект, следует отличать от объекта, но эта разница должна оставаться ограниченной, относительной разницей, потому что как субъект, так и объект не только различны; они похожи друг на друга в том, что составляют части или явления той всеобщей сущности, которую мы называем вселенной. Мы различаем между природой и ее частями, подразделениями, или явлениями, хотя все они неразрывно переплетаются со всеобщей сущностью, возникают в ней и в ней же исчезают. Ни природа не мыслима без ее явлений, ни явления без всеобщей, абсолютной природы. Это разделение, этот умственный анализ производится именно нашим познанием для того, чтобы составить себе картину о происходящем.— Познанию, ясно сознающему процесс своей деятельности, должно быть известно, что разграниченные и различаемые умственно вещи в действительности и вместе с ней переходят друг в друга.
То, что мы познаем, суть истины, относительные истины, или явления природы. Самое природу, абсолютную истину, нельзя познать непосредственно, а только при посредстве ее явлений. Но откуда мы можем знать, что за этими явлениями скрывается абсолютная истина, всеобщая природа? Разве это не новая мистика?
Конечно, да. Так как человеческое познание не есть нечто абсолютное, а является лишь художником, создающим об истине известные образы, истинные, настоящие и правдивые образы, то само собою разумеется, что картина не может исчерпать предмета, что художник остается позади своей модели. Никогда не было сказано ни об истине, ни о познании ничего более бессмысленного, чем то, что о ней говорит ходячая логика уже целые тысячелетия: истина — это совпадение нашего познания с предметом последнего. Как может картина «совпадать» со своей моделью? Приблизительно, да. Но какая картина не соответствует приблизительно своему предмету? Ведь всякий портрет более или менее похож. Но целиком и нераздельно похожий портрет — это неестественная мысль.
Итак, мы можем познавать природу и ее части лишь относительно, но так как каждая часть, хотя и является лишь отношением природы, имеет все же в себе черты природы абсолютного, свойства всей природы, которая не может быть исчерпана при помощи познания.
Откуда же мы знаем, что за явлениями природы, за относительными истинами, стоит универсальная, неограниченная абсолютная природа, которая не открывается всецело человеку? Наше зрение ограниченно, то же самое нужно сказать о нашем слухе, осязании и также о нашем познании, и все же мы знаем относительно всех этих вещей, что они ограниченные части безграничного. Откуда же у нас это знание?
Оно нам прирожденно; оно нам дано вместе с сознанием. Сознание человека есть знание о своей личности, как о части человеческого рода, человечества и вселенной. Знать — это значит рисовать себе образы и при этом сознавать, что образы и вещи, с которых они сняты, имеют общую мать, от которой они все происходят и в лоно которой они возвращаются. Это материнское лоно и есть абсолютная истина; оно вполне истинно и все же мистично, т. е. оно неисчерпаемый источник познания, следовательно, непознаваемо до конца.
То, что мы познаем в мире и о мире, несмотря на всю свою истинность и правильность, является все же только познанной истиной, т. е. видоизменением, видом или частью истины. Если я говорю, что сознание бесконечной и абсолютной истины нам прирождено, что оно есть единое и единственное знание a priori, то это подтверждается также опытом этого прирожденного сознания. Мы узнаем, что всякое начало и всякий конец есть лишь относительное начало и относительный конец, в основе которого лежит не исчерпаемое никаким опытом абсолютное. Мы узнаем на опыте, что всякий опыт есть часть того, что — говоря вместе с Кантом — выходит за пределы всякого опыта.
Мистик, пожалуй, скажет: значит есть нечто такое, что выводит нас за пределы физического опыта. Мы отвечаем на это да и нет одновременно. В смысле старого, не признающего границ метафизика ничего подобного нет. В смысле сознающего свою сущность познания каждая частичка, будь то частица дерева, камня или пылинки, есть нечто непознаваемое до конца, т. е. каждая частичка есть неисчерпаемый материал для человеческой познавательной способности, следовательно, нечто выходящее за пределы познания.
Когда я говорю, что сознание безначальности и бесконечности физического мира есть прирожденное, а не приобретенное путем опыта сознание, что оно есть сознание, существующее a priori и предшествующее всякому опыту, я должен все же добавить, что оно первоначально имеется лишь как зародыш и что оно при помощи опыта в борьбе за существование и при помощи полового подбора развилось в то, чем оно является в настоящее время.
В этом смысле и познание всего мира как абсолютной истины есть опытная наука, которая точно так же, как все остальное знание и все остальные вещи, существовала как зародыш a priori и возникает из бесконечности. Из этого следует, что человеческая голова, познавшая ясно отношение всеобщей истины к естественным ее проявлениям, не будет уже слишком резко разграничивать опытное знание от прирожденной способности к знанию, познаванию и т. д.
Эта мистика не отличается той вредной туманностью, как та, которая учит, что человеческая познавательная способность слишком незначительна, чтобы постичь абсолютную истину; человеческий рассудок слишком незначителен, чтобы исчерпывающим образом разобраться в абсолютном миропорядке или какой-нибудь его частице. Но так как подобная неисчерпаемость или бесконечность есть предикат, свойственный всем без исключения вещам и также нашей познавательной способности, то было бы хвастовством придавать этому так много значения, как это случалось до сих пор.
Нездоровая мистика ненаучно отделяет абсолютную истину от относительной. Вещь как явление и «вещь в себе», т. е. явление и истину, она рассматривает как две категории, которые радикально отличаются друг от друга и которые не «содержатся в снятом виде» ни в какой общей им обеим категории. Эта туманная мистика превращает наше познание и нашу способность познания в «суррогаты», которые дают нам возможность чувствовать в трансцендентном небе олицетворенную Истину, сверхчеловеческий чудовищный дух.
Смирение всегда приличествует человеку. Однако утверждение о неспособности человека познавать истину имеет двойственный — достойный и недостойный человека смысл.— Все, что мы познаем, все научные выводы, все явления — это части действительной, настоящей и абсолютной истины. Хотя последняя неисчерпаема и не может быть точно воспроизведена в познании или представлении, все же картины, даваемые наукой о ней, — превосходные картины в человеческом, относительном смысле этого слова, точно так же как и те положения, которые я здесь пишу, имеют определенный точный смысл и в то же самое время не имеют его, если кому-нибудь вздумается извращать их или истолковывать ложно.
Допустим, что истина непознаваема до конца; тем не менее она не настолько далека от нашего познания, как того хотят плохие мистики, которым недостаточно одного человеческого духа, так как в их голове заключен чудовищный дух.
Научное познание не должно стремиться к достижению абсолютной истины, ибо последняя, абсолютная истина, дана непосредственно — как чувственно, так и духовно. А то, что мы стремимся познать, — это отдельные явления, особенности данной в общем виде истины. Она охотно раскрывается перед нами в своих деталях. Наше познание должно давать верные изображения, картины познания. При этом речь идет только об относительной правильности или совершенстве. Большего человеческий рассудок не должен хотеть. Это не самоотречение, как проповедуют монахи. Напротив, мы можем познать истину; она охотно раскрывается перед нами. Что мы при этом не можем вылезать из своей кожи, вполне естественно. Так же естественно, конечно, и то, что есть трансцендентные философские или религиозные мечтатели, которые носятся с подобными затеями. Их стремление к другой, абсолютной истине есть не что иное, как преодоленная историей человеческого познания мечта; между тем скромное желание ограничиться познанием относительных истин может быть названо разумной образованностью.
Спиноза говорит: существует только одна субстанция; она универсальна, бесконечна, или абсолютна. Все другие, так называемые конечные субстанции вытекают из нее, всплывают в ней или же в ней тонут; они имеют только относительное, преходящее, случайное бытие. Все конечные вещи Спиноза вполне основательно считал лишь модусами бесконечной субстанции, подобно тому как наше новейшее естествознание стоит на точке зрения вечности материи и неисчерпаемости силы, т. е. вполне подтверждает положение, что все конечные вещи суть модусы бесконечной субстанции. Лишь кое в чем, хотя и в весьма существенном, оставалось последующей философии исправить Спинозу.
Согласно Спинозе, бесконечная, абсолютная субстанция имеет два атрибута: она бесконечна в пространстве и обладает бесконечным мышлением. Мышление и протяженность — таковы два спинозовских атрибута абсолютной субстанции.— Это ошибочно: именно абсолютное мышление совершенно не обосновано. И абсолютная протяженность также мало говорит нам. Мир, или абсолют, или природа, или вселенная, или как бы ни называть еще эту вещь вещей — нечто единственное и бесконечное, бесконечно распространяется в пространстве и во времени, и все же каждая частичка пространства, каждый кусочек времени, как и всякая другая вещь, в них заключающаяся, есть вещь индивидуальная, изменчивая, преходящая, ограниченная, и мышление не составляет в этой ограниченности и конечности никакого исключения.
Наше современное знание о мышлении и о мыслях гораздо выше спинозовского по ясности и определенности. Мы теперь знаем, что мышление, или сознание, не есть таинственное вместилище истины, скорее по своей истинной природе оно не имеет никакой другой природы, кроме естественной, к которой причастны все вещи и которая столь же тривиальна, сколь и таинственна, и, разумеется, она бесконечный объект исследования, но она не более бесконечна, чем каждая отдельная материя и каждая отдельная сила.
То, что Спиноза называл бесконечной субстанцией, то, что мы называем вселенной или абсолютной истиной, так же совпадает с конечными явлениями, с относительными истинами, которые мы встречаем во вселенной, как лес тождествен своим деревьям или как вообще род — своим видам. Относительное и абсолютное находятся не так уже далеко друг от друга, как то рисовало человеку неразвитое чувство бесконечности, называемое религией. И то исследование, которое назвало себя спекулятивной философией, находилось в плену религии; оно произошло из заблуждения, которое ошибочно признало относительность человеческого духа за абсолютную истину. Исследование, которое требовало от познающего духа ясной картины, не только первоначально, но и вплоть до наших последних классических философов находилось в плену ложного представления о чрезмерном своем значении; оно не понимает, что все относительное, не исключая и способности человека к познанию, точно так же заключается в абсолютном, как — я повторяю прежнее сравнение — деревья в лесу; оно не понимает той квинт-эссенции всякой логики, что все без исключения частности заключаются в одном роде и все роды — в общем роде, во вселенной, которая и является абсолютной истиной.
Философия, так же как и религия, жила верой в чрезмерную, абсолютную истину. Разрешение проблемы лежит в признании, что абсолютная истина есть не более как обобщенная истина, что последняя живет не в духе — в нем, по крайней мере, не более, чем где бы то ни было, — а в объекте духа, который мы называем общим именем «универсум».
Чрезмерная, абсолютная истина, которую религия и философия обозначали именем бога, была мистификацией человеческого духа, который сам себя мистифицировал этим фантастическим образом. Кант, который занимался критикой познавательной способности нашего духа, находил, что человек не может познать чрезмерной абсолютной истины. Мы прибавляем к этому: человек не может чрезмерно познавать даже обыденные объекты. Но если он скромно пользуется своей способностью и применяет ее относительно, так как ко всему следует относиться именно таким образом, то все для него открыто и ничего не скрыто, и он может познать и понять также общую истину.
Подобно тому как наш глаз может все видеть, хотя бы с помощью стекол, и все же не все, ибо он не может видеть ни звуков, ни запахов, ни вообще ничего невидимого, так и наша познавательная способность может познавать все и однакоже не все. Непознаваемое она познать не может. Но это ведь также претензия или чрезмерное желание.
Если мы познаем, что абсолютная истина, которую религия и философия искали в чрезмерном, или трансцендентном, существует реально, как материальная вселенная, и что человеческий дух есть лишь телесная, или реальная, действительная и действующая часть общей истины, призванная отображать другие части общей истины, то этим проблема ограниченного и неограниченного будет совершенно разрешена. Абсолютное и относительное не так радикально разграничены, оба они связаны между собой, так что неограниченное состоит из бесконечных ограничений, и каждое ограниченное явление заключает в себе природу бесконечного.
Как и каким путем связывается то, что здесь мною развито, с цитированным вначале положением Маркса, с тем, что истинно, справедливо и правильно в политической и социальной жизни, я должен предоставить рассудить читателю самому, так как дальнейшее рассмотрение вопроса должно было бы отнять слишком много места. Быть может, я найду возможность в другой раз вернуться к этому вопросу.
3. Материализм против материализма
«Уразумение того, что господствовавший до тех пор в Германии идеализм совершенно ложен, должно было неизбежно привести к материализму, но, разумеется, не к простому метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века», — говорит Фридрих Энгельс.
Этот новейший материализм, который выводится здесь из полной несостоятельности немецкого идеализма и который был обоснован при ближайшем участии Фридриха Энгельса, обыкновенно плохо понимают, хотя он и составляет главное теоретическое основание немецкой социал-демократии. Подвергнем его поэтому более подробному рассмотрению.
Этот специально немецкий, или, если угодно, социал-демократический материализм лучше всего охарактеризовать путем противопоставления его «метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII столетия»; и если мы, далее, сопоставим его с немецким идеализмом, из несостоятельности которого он возник, то совершенно ясно раскроется характер его социал-демократической основы, которая вследствие своего материалистического названия нередко вызывает недоразумения.
Прежде всего вопрос: почему Энгельс называет материализм XVIII столетия «метафизическим»? Метафизиками были люди, которые не довольствовались физическим или естественным миром, а постоянно имели в голове сверхъестественный, метафизический мир. В предисловии к своей «Критике чистого разума» Кант сводит проблему метафизики к трем словам: бог, свобода, бессмертие. Ведь известно, что всеблагой бог был дух, сверхъестественный дух, который создал естественный физический, материальный мир. Знаменитые материалисты XVIII столетия не были друзьями или поклонниками этой библейской истории. Проблема бога, свободы и бессмертия, поскольку это касается сверхъестественного мира, совершенно не интересовала этих атеистов; они придерживались физического мира и ее были поэтому метафизиками.
Энгельс, следовательно, называет их метафизиками в другом смысле.
С первичным, живущим над облаками великим духом французские и английские материалисты прошлого столетия кое-как справились, но все же и они продолжали заниматься производным человеческим духом. Два противоположных понимания этого духа, его природы, происхождения и сущности отделяют материалистов от идеалистов. Последние рассматривают человеческий дух и его идеи как продукт сверхъестественного, метафизического мира. Однако они не ограничивались одной верой в это отдаленное происхождение, а относились к этому уже со времен Сократа и Платона гораздо серьезнее, стараясь научно обосновать свою веру, доказать и объяснить ее точно так же, как доказывают и объясняют физические вещи конкретного мира. Этим путем идеалисты перенесли науку о свойствах человеческого духа из царства сверхъестественного и метафизического в реальный, физический, материальный мир, который проявляется как мир с диалектическими свойствами, где дух и материя, несмотря на свою двойственность, объединены, т. е. являются как бы братом и сестрой одной крови, от общей матери.
Первоначально идеалисты были убежденными приверженцами той религиозной предпосылки, что дух создал мир, но они были в этом неправы, так как в конце концов следствием из их собственных исканий оказалось, что, наоборот, естественный материальный мир есть нечто первичное, не созданное никаким духом, что он сам скорее творец, создавший из себя и развивший человека с его интеллектом. И, таким образом, оказалось, что несозданный высший дух есть только фантастическое изображение естественного духа, выросшего вместе о человеческой головой и в ней.
Идеализм, получивший свое название от того, что он идею как таковую, а также идеи, возникающие в человеческой голове, считал стоящими как по времени, так и по значению над материальным миром и ему предшествующими, — этот идеализм взялся за свою задачу в высшей степени мечтательно и метафизически; но в дальнейшем развитии мечтательность уменьшилась, и он становился все более трезвым, так что в конце концов Кант на поставленный самому себе вопрос: как возможна метафизика как наука? ответил: метафизика как наука невозможна, другой мир, т. е. сверхъестественный, можно только воображать и постичь верой. Таким образом, несостоятельность идеализма была постепенно преодолена, и современный материализм явился продуктом философского, а также общенаучного развития.
Так как несостоятельность идеалистической философии в лице ее последних знаменитых представителей — Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля — была чисто немецкой, то и результат этой последней — диалектический материализм — является по преимуществу продуктом немецкого происхождения.
Идеализм выводит телесный мир из духа, следуя по стопам религии, где великий дух, витая над водами, лишь должен сказать: «Да будет», чтобы все возникло. Такое идеалистическое выведение метафизично. Но, как уже сказано, последние знаменитые представители немецкого идеализма были уже не столь ярыми метафизиками. От внемирового, сверхъестественного, небесного духа они в значительной степени эмансипировались; но они не освободились от мечтаний о естественном, посюстороннем духе. Христиане, как известно, обоготворяли дух, и этим обоготворением настолько проникнуты философы, что они не могли удержаться, чтобы не сделать наш интеллект создателем или производителем материального мира даже тогда, когда трезвым объектом их исследования сделался физический, человеческий дух. Они не перестают трудиться над тем, чтобы ясно понять отношение между нашими умственными представлениями и материальными вещами, которые мы себе представляем, мыслим и понимаем.
Для нас, диалектических, или социал-демократических, материалистов, духовная мыслительная способность есть развившийся продукт материальной природы, между тем, согласно немецкому идеализму, дело обстоит как раз наоборот. Поэтому Энгельс и говорит об «извращенности» этого образа мышления. Увлечение духом являлось пережитком старой метафизики.
Английские и французские материалисты прошлого столетия были, так сказать, преждевременными оппонентами мечтательности. Эта преждевременность мешала им вполне эмансипироваться от последней. Они были чрезмерно радикальны и впали в противоположную ошибку. Как философские идеалисты носились с духом и духовным, так они увлекались только телом и телесным. Идеалисты носились с идеей, старые материалисты — с материей; и те и другие были мечтателями и, следовательно, метафизиками; и те и другие хватали через край, чрезмерно разграничивая дух и материю. Ни одна из этих двух партий не поднялась до сознания единства и единственности, общности и универсальности природы, которая вовсе не является или материальной, или духовной, а и тем и другим вместе.
Метафизические материалисты прошлого столетия и их современные, еще не вымершие продолжатели недооценивают человеческий дух и исследование его сущности и его действительного приложения, точно так же как идеалисты чрезмерно его переоценивают. Они, материалисты, объясняют, например, силы природы как свойства осязаемой материи и в частности духовные силы, силу мышления, — как свойство мозга. Материя и материальное, т. е. весомое и осязаемое, — вот что, по их мнению, самое главное в мире, нечто первичное, или субстанция, а мыслительная деятельность, подобно всяким иным неосязаемым силам, есть лишь вторичное свойство. Иными словами, для старых материалистов лишь материя есть верховный субъект, а все прочее– подчиненный ему предикат.
В этом образе мышления заключается переоценка субъекта и недооценка предиката. Упускают из виду, что отношение между субъектом и предикатом безусловно изменчиво. Человеческий дух может совершенно свободно сделать всякий предикат субъектом и, наоборот, всякий субъект — предикатом. Белоснежный цвет, хотя и не осязаем, все же так же субстанциален, как и белого цвета снег. Полагать, что материя — субстанция, или главная причина, а ее предикаты, или свойства, — лишь второстепенные придатки, — это старый, ограниченный образ мышления, который совершенно не считается с завоеваниями немецких диалектиков. Следует, наконец, понять, что субъекты образуются исключительно из предикатов.
Утверждение, что мысль есть выделение, продукт или отделение мозга, подобно тому как желчь есть отделение печени, не вызывает опоров, но вместе с тем не следует забывать, что мы имеем здесь очень плохое и недостаточное сравнение. Печень, субъект этого восприятия, есть нечто осязаемое и весомое; точно так же и желчь есть то, что создается печенью, она ее продукт и следствие. В этом примере и субъект и предикат, т. е. и печень и желчь, весомы и осязаемы, но этим самым затемняется как раз то, что хотели, собственно, сказать материалисты, представляя желчь как действие, а печень как главенствующую причину. Мы должны поэтому особенно подчеркнуть то, что в этом примере не вызывает возражений, в вопросе же взаимоотношения мозга и мыслительной деятельности совершенно упускается из виду. А именно: желчь есть не столько результат деятельности печени, сколько результат всего жизненного процесса. В жизненном процессе человеческой природы, так же как в космическом жизненном процессе естественной вселенной, печень и желчь одинаково самостоятельны и одинаково подчинены, являясь одновременно и причиной, и действием, и субъектом, и предикатом.
Заявляя, что желчь есть продукт печени, материалисты нисколько не отрицают и не должны отрицать, что оба объекта являются равноценными объектами научного исследования. Но когда говорят, что сознание, способность мышления есть свойство мозга, то лишь осязаемый субъект оказывается единственно достойным объектом, и с духовным предикатом тем самым уже покончено. Этот образ мышления механических материалистов мы называем ограниченным, потому что он делает все осязаемое и весомое в некотором смысле субъектом, носителем всех других свойств, не замечая, что эта чрезмерно возвеличиваемая осязаемость играет в мировом целом такую же подчиненную, придаточную роль, как всякий другой подчиненный субъект всеобщей природы. Отношение между субъектом и предикатом не объясняет ни материи, ни мысли. Однако для выяснения связи между мозгом и мыслительной деятельностью важно понять связь между субъектом и предикатом.
Быть может, мы приблизимся к разрешению вопроса, если выберем другой пример — пример, в котором субъект материален, а предикат таков, что во всяком случае сомнительно — относится ли он к материальной или духовной категории. Если, например, ноги ходят, глаза видят, уши слышат, то является вопрос, относятся ли и субъект и предикат к категории материального: есть ли свет, который мы видим, звук, который мы слышим, и движение, которое совершается ногами, нечто материальное или нематериальное? Глаза, уши, ноги — осязаемые и весомые субъекты, между тем предикаты — зрение и свет, слух и звук, движение и шаги (если не принимать во внимание ноги, которые производят движение) — неосязаемы и невесомы.
Каков же объем понятия материи? Относятся ли цвета, свет, звук, пространство, время, теплота и электричество к этому понятию или необходимо подыскать для них другую категорию? Одним различением субъекта и предиката, вещей и свойств мы здесь не обойдемся. Когда глаз видит, то осязаемый глаз, во всяком случае, является субъектом. Но точно так же можно перевернуть фразу и сказать, что невесомое зрение, силы света и зрения составляют суть, субъект, а материальный глаз — лишь второстепенная вещь, атрибут, или предикат.
Одно очевидно: вещества имеют не большее значение, чем силы, силы — не большее, чем вещества. Тот материализм ограничен, который отдает предпочтение веществу и за счет силы увлекается вещественным. Кто делает силы свойствами или предикатами вещества, тот мало разобрался в относительности, в подвижности различия между субстанцией и свойством.
Понятие материи и материального до сих пор оставалось чрезвычайно запутанным понятием. Подобно тому как юристы не могут прийти к соглашению относительно начала жизни ребенка в утробе матери или как языковеды спорят о том, где начало языка, есть ли призывный крик или любовное пение птицы язык или нет, должен ли быть отнесен к категории членораздельной речи язык мимики и жестов или нет, — точно так же и материалисты старой механической школы спорят о том, что такое материя: подходит ли под это понятие только осязаемое и весомое или же все видимое, обоняемое, слышимое, и, наконец, вся природа есть материал для исследования и соответственно с этим все может быть названо материальным, даже и человеческий дух, ибо и этот объект служит теории познания в качестве материала.
Итак, признак, отличающий механических материалистов прошлого столетия от социал-демократических материалистов, прошедших школу немецких идеалистов, состоит в том, что последние ограниченное понятие только осязаемой материи распространили на все вообще материальное.
Нельзя ничего возразить против того, что крайние материалисты отличают весомое или осязаемое от обоняемого, от слышимого или, наконец, от мира мыслей. Мы можем их лишь упрекнуть в том, что они чрезмерно настаивают на этом различии, что они упускают из виду родственное или общее в вещах или свойствах и различают весомую и осязаемую материю «метафизически» или радикально и тем обнаруживают непонимание общего класса, обнимающего противоположности.
Старые материалисты оперировали непримиримыми противоположностями, точно так же как и идеалисты с их извращенной точки зрения. И у тех и у других получается слишком большой разрыв между познанием и его материалом; они неестественно преувеличивают противоположность, поэтому Энгельс и называет их образ мышления «метафизическим». В качестве примера для пояснения этого укажем на весьма распространенный взгляд, забывающий, что смерть, завершающая собой жизнь, в сущности только акт жизни и с жизнью находится в тесной связи, точно так же как в противоположности между словом и делом при некотором размышлении можно усмотреть, что и слово есть дело, слова — это воплощенные понятия, и что «метафизическое» различие совершенно недопустимо и тут.
Современное естествознание еще до сих пор во многих отношениях стоит всецело на точке зрения материалистов прошлого столетия. Эти материалисты были общими теоретиками, так сказать, философами естествознания, поскольку оно и до сих пор еще ограничивает свое исследование механическим, т. е. конкретным, осязаемым и весомым. Правда, естествознание уже давно начало преодолевать эту точку зрения; уже химия вышла за пределы механической ограниченности, и вот появились новые познания об изменении формы, сил, о переходе тяжести в теплоту, электричество и т. д. Но естествознание все еще оставалось ограниченным. Исследование человеческого духа и всех тех отношений, которые им вызываются в человеческой жизни, т. е. политических, юридических, экономических и всех прочих, естествознание исключает из сферы своего изучения, все еще находясь под влиянием старого предрассудка, что дух есть нечто метафизическое, дитя некоего другого мира.
Не потому естествознание заслуживает упрека в ограниченности, что оно разграничивает механические, химические, электротехнические и прочие познания, выделяя их в особые области, но потому, что оно это разделение преувеличивает и упускает из виду связь между духом и материей и до сих пор не в силах отделаться от «метафизического» образа мышления. Лишь постольку, поскольку оно игнорирует тот факт, что политика, логика, история, право и политическая экономия — словом, все духовные явления — представляют собой естественные и естественно-научные явления, естествознание вместе с механическими материалистами и немецкими идеалистами облекается в «метафизическое» одеяние, т. е. одеяние чрезмерного.
Люди разделяются на материалистов и идеалистов не по своим взглядам на звезды или животных, растения или камни; определяющим моментом является исключительно взгляд на отношение между телом и духом.
Убеждение в полной ошибочности немецкого идеализма, не перестававшего считать метафизической первоосновой дух, который якобы создает и производит осязаемые, видимые, обоняемые и прочие материи, с неизбежной необходимостью привело к социалистическому материализму, который называет себя «социалистическим» потому, что социалисты Маркс и Энгельс впервые ясно и точно установили, что материальные и именно экономические отношения человеческого общества образуют основу, которая в конечном счете обусловливает собой всю надстройку правовых и политических учреждений, так же как и религиозных, философских и иных представлений известной эпохи. Вместо прежнего объяснения бытия людей из их сознания теперь, наоборот, объясняют сознание из бытия и главным образом из экономического положения, из способа добывания хлеба.
Социалистический материализм под «материей» понимает не только весомое и осязаемое, но и все реальное — (все, что содержится во вселенной, а ведь в ней содержится все, ибо все и вселенная — это только два названия одной и той же вещи, и социалистический материализм хочет охватить все одним понятием, одним названием, одним классом — безразлично, называется ли этот универсальный класс действительностью, реальностью, природой или материей.
Мы, новейшие материалисты, не придерживаемся той узкой точки зрения, будто весомая и осязаемая материя есть материя par excellence, мы стоим на той точке зрения, что и запах цветов, и звуки, и всякие запахи — тоже материя. Мы не смотрим на силы, как на простой придаток, как на чистый предикат вещества, и на вещество, осязаемое вещество, как на «вещь», которая господствует над всеми свойствами. Мы смотрим на вещество и на силу демократически. И те и другие имеют для нас одинаковую ценность; взятые в отдельности, они не больше, как свойства, придатки, предикаты или атрибуты великого целого — природы. Нельзя смотреть на мозг, как на повелителя, а на духовные функции — как на подчиненных ему слуг. Нет, мы, современные материалисты, утверждаем, что функции в такой же степени есть самостоятельная вещь, как и осязаемое мозговое вещество или какая-либо иная материальная вещь. И мысли, их источник и их природа — точно такая же реальная материя и столь же заслуживающий изучения материал, как и все иное.
Мы потому материалисты, что не делаем из духа ничего «метафизического», чудовищного. Мыслительная сила для нас столь же мало «вещь в себе», как и сила тяжести или глыба земли. Все вещи суть только звенья великой универсальной связи; она одна вечна и истинна, постоянна, она не явление, а единственная «вещь в себе» и абсолютная истина.
Так как мы, социалистические материалисты, имеем одно соотносительное понятие о материи и духе, то для нас и так называемые духовные отношения, как политика, религия, мораль и пр., тоже материальные отношения; а на материальную работу, ее вещества и вопросы желудка мы лишь постольку смотрим, как на базис, предпосылку и основу всякого духовного развития, поскольку животный мир по времени предшествует человеческому, что нисколько не мешает нам высоко ставить человека и его интеллект, оценивая его выше животного.
Социалистический материализм отличается тем, что он не обесценивает, подобно материалистам старой школы, человеческого духа, но также не переоценивает его, подобно немецким идеалистам, а в своей оценке знает меру, рассматривая механизм, как и философию, критичееки-диалектическим взглядом, как звенья нераздельного мирового процесса и мирового прогресса.
Эрнст Геккель в «своей «Общей морфологии» высказывается следующим образом:
«Общий и быстрый рост зоологии и ботаники, вызванный необыкновенными заслугами Линнея в деле систематизации наших познаний о животных и растениях, привел к ошибочному взгляду, что будто бы сама систематизация является целью науки и что нужно только обогатить систему возможно большим количеством новых форм, чтобы оказать незаменимые услуги зоологии и ботанике. Так возникла огромная и жалкая толпа музейных зоологов и гербаризаторов-ботаников, из которых каждый умел назвать по имени тысячи видов, но не имел ни малейшего представления о более грубых и более тонких структурных отношениях этих видов, об их развитии и истории, физиологических и анатомических особенностях... Но мы должны здесь указать на странный самообман, которому поддавалась новейшая биология, считая научной зоологией и научной ботаникой голое, бессмысленное описание внутренних и более тонких, в особенности микроскопических, соотношений форм и относясь свысока к прежнему, безусловно господствовавшему, чистому описанию внешних и более крупных соотношений форм, которыми занимались так называемые систематики. Но раз оба эти направления, которые стараются так резко противопоставить друг другу, имеют своей целью описание (безразлично, внешних или внутренних, более тонких или более крупных форм), то оба они одинаково ценны. Оба направления только тогда могут быть названы научными, когда они поставят себе целью объяснить форму и свести ее к определенным законам. По нашему глубокому убеждению, реакция, которую раньше или позже должна была вызвать эта столь односторонняя и поэтому ограниченная эмпирическая точка зрения, фактически уже наступила. Открытие Чарльзом Дарвином естественного подбора в борьбе за существование, опубликованное в 1859 г., — одно из величайших открытий человеческого мышления — сразу внесло в мрачный хаос нагроможденных биологических фактов такой могучий и яркий свет, что даже самым грубым эмпирикам больше невозможно будет, если только они вообще хотят двинуться вперед в изучении науки, уклониться от нарождающейся новой натурфилософии».
Мы цитируем эти слова Геккеля, безусловно одного из самых знаменитых естествоиспытателей нашего времени, чтобы показать, как он относится к старым вопросам: что такое наука? что мы должны сделать, чтобы понять, познать, объяснить камни, растения, людей и человеческие побуждения? У человека в его голове есть деятельная сила, которая способна заниматься объяснением всего этого. Различные мнения, представления и взгляды на эту деятельность — эта деятельность иначе называется еще духом, интеллектом, разумом, способностью понимания — и разделяют старых и новых материалистов, так же как и идеалистов, на враждебные лагери. Все эти партии сильно различаются во взглядах на дух и на тот способ, как этот дух доходит до науки и какова должна быть истинная наука.
В естествознании по этому поводу не так много разногласий но все же, как мы только что слышали от Геккеля, достаточна много для того, чтобы спорить, что является наукой и что нет. Классическим этот спор, однако, становится только в так называемых «философских» дисциплинах, где речь идет об учениях и о жизни учителей религии, государственных мужей, политиков, юристов, социологов, экономистов и др., о самых жизненных интересах человеческого общества. Только здесь обнаруживается, что большое значение имеет то, что и как мы думаем о духе и насколько важен субстанциальный образ мышления или даже какая-либо его теория для человеческого общества.
Без сомнения, естествознание понимает, как действует человеческий дух; об этом свидетельствуют его успехи. Однако те же самые естествоиспытатели вместе с тем спорят о религии, политике, социализме и пр.; и вот оказывается, что если они и умеют пользоваться своей головой в естественно-научных исследованиях, то этого привычного пользования недостаточно, чтобы и в других областях с тем же успехом и единодушием разрешать поставленные вопросы. И мы думаем, что этими фактами нам удалось обосновать свой взгляд и что мы можем продолжать исследование о природе мыслительной способности и о правильном, наиболее успешном способе ее приложения.
Так как мы не сходимся со старыми материалистами, которые полагают, что они уже достаточно объяснили, что такое интеллект, назвав его свойством мозга, то мы и не можем отделаться от нашего объекта, человеческого духа, одним взмахом ножа. Спекулятивный путь, который старается одними умствованиями понять сущность духа по тому, что находится внутри черепа, не может быть нашим путем, так как идеалисты-метафизики этим достигли слишком незначительных результатов. И вот очень кстати является Геккель со своим взглядом на правильный метод науки. Он рассматривает человеческий дух как он действовал исторически, и это нам кажется совершенно правильным методом.
Каждый естественный продукт проявляется различно — камень остается на одном и том же месте, а ветер несется из страны в страну. Также и ум не такая вещь, которую можно схватить на одном месте; хотя мы и чувствуем его присутствие в голове, но здесь он остается недолго и убегает в широкий мир, и если! не химически, то все же фактически он связывается со всеми объектами универсальной природы. Так же мало, как мы можем отделить ветер от воздуха, так и дух наш трудно отделить от других объектов природы, так как он нигде не проявляется иначе, как в духовной связи с такими же природными вещами. Без естественной связи с каким-либо другим материалом нет духа. Он, вероятно, не химический элемент, который можно получить в чистом виде. Да и почему все должно быть химично?
Итак, дух знает кое-что о растениях и животных. Ботаника и зоология — это духовные связи. В естественных науках и вообще во всем, что мы знаем положительно, человеческий интеллект духовно связан с соответствующими природными вещами, и лишь в таких связях он может быть понят и представлен.
Геккель нам и рассказывает о жалкой толпе музейных зоологов и гербарных ботаников, объясняя, что метод, по которому они связывали дух с животными и травами, не был правильным методом. Точно так же и позднейшие ученые, исследовавшие более тонкую и внутреннюю структуру даже микроскопически, но все же ограничивавшиеся «описанием» своих объектов, не сумели установить правильной связи между духом и материей. Лишь опубликованное в 1859 г. открытие Дарвина о естественном подборе в борьбе за существование доставило надлежащую духовную связь. Так полагает Геккель, но мы позволяем себе быть на этот счет другого мнения.
Пусть уважаемый читатель не истолкует меня неправильно; мы не хотим оспаривать, что Дарвин и Геккель основательно и научно связали свой индивидуальный дух с миром растений и животных и создали чистые кристаллы познания, но мы хотим лишь отметить точку зрения новейшего диалектического материализма, что Дарвин и Геккель, как бы высока ни была их заслуга, не были первыми и единственными, сумевшими создать такие кристаллы; «жалкие» музейные зоологи и гербарные ботаники также оставили нам частицу настоящей науки. Распределение мира растений и животных на классы, роды и виды по найденным признакам их было чрезвычайно важным научным Соединением духа и материи; хотя это было лишь «голое описание». Но без участия мысли его произвести нельзя было. Конечно, Дарвин сделал больше, но только больше; он прибавил к старому свету новый; однако свет, который пролил Дарвин, того же рода, что и линнеевский. Дарвин пользуется «кучами собранных биологических фактов» и прибавляет к ним новые; он описывает эмбриологию и то, как передаются по наследству путем подбора различные изменения, как благодаря борьбе за существование унаследованные изменения усиливаются и таким образом создаются переходные типы и новые виды. Путем восприятия и собирания фактов и описания их добывается новый свет или, вернее, увеличивается прежде добытый. Заслуга Дарвина велика, но не так безгранична, чтобы Геккель имел основание считать «науку» чем-то более высоким, чем повседневное соединение человеческого духа о материальными фактами.
В первой части настоящего исследования было указано на то, что односторонний материализм не только считает человеческий дух свойством мозга, — с этим никто не спорит, — но из этой связи непосредственно или косвенно выводит, что приписываемый мозгу предикат разумности или познавательной способности не есть субстанциальный объект исследования, а, наоборот, изучение материального мозга способно дать достаточно для объяснения свойств духа. В противовес этому наш диалектический материализм доказывает, что вопрос следует рассматривать с точки зрения универсума, согласно предписанию Спинозы, sub specie aeternitatis. В бесконечной вселенной материя старых и уже устарелых материалистов, осязаемая материя, не получает ни малейшего права считать себя более субстанциальной, т. е. более непосредственной, ясной или определенной, чем какое-либо другое явление приводы.
Мы можем засвидетельствовать существенное расширение наших познаний, если примем во внимание, что материальный мозг вместе со своим духовным предикатом, следовательно, как мозг, так и дух — только свойства, или явления, или изменения абсолютного субъекта, естественной природы, которая не имеет другой природы рядом о собой, над собой или вне себя. Этим умеряется та чрезмерность, с которой материалисты возводят свою материю, а идеалисты — свою мозговую функцию на седьмое небо мечтательности.
Материалисты, которые превращают осязаемую материю в субстанцию, а неосязаемую мозговую функцию в акциденцию, слишком умаляют эту функцию. Чтобы получить о ней более верное и правильное представление, прежде всего необходимо вернуться к тому факту, что это дети одной матери, что это два явления природы, которые мы освещаем, описывая их, подразделяя на классы, виды и подвиды.
Если мы удостоверяем относительно материи — с чем никто, конечно, не спорит, — что она есть явление природы, и то же самое говорим о духовной способности человека, то мы знаем еще довольно мало и о том и о другом; но мы знаем, что это — братья и что никто не может их чрезмерно отделять друг от друга; никто не может проводить между ними различия toto genere, toto coelo.
Если мы хотим больше узнать, например, о материи, то мы для того должны поступить так, как это делали музейные зоологи и гербаризаторы-ботаники, — мы должны исследовать, узнать ее различные классы, семейства, виды, должны описать их возникновение, уничтожение и превращение одного в другое. Это и есть наука о материи. Кто хочет большего, тот хочет чрезмерного, тот не понимает, что такое знание; не понимает ни органа науки, ни его применения. Когда старым материалистам приходится иметь дело со специальными формами материи, то они поступают безусловно научно; но когда они имеют дело с абстрактной материей, с всеобщим понятием ее, то они оказываются совершенно беспомощными в этой отвлеченной науке. Заслуга идеалистов в том, что они во всяком случае настолько продвинули вперед умение пользоваться абстракцией и общими понятиями, что новейший социалистический материализм наконец может убедиться, что и материи и понятия являются обыкновенными продуктами природы, и нет и ничего не может быть такого, что не относилось бы к единой, неограниченной категории естественного мира.
Наш материализм выделяется своим специфическим освоением общей природы духа и материи. Там, где этот современный материализм ставит объектом своего исследования человеческий дух, он рассматривает его как всякий другой материал для исследования, т. е. так же, как музейные зоологи, гербаризаторы-ботаники и дарвинисты поступают с исследованием и описанием своих объектов. Бесспорно, первые своей классификацией пролили свет на тысячи видов, однако это был скудный свет, и Дарвин его настолько усилил, что это добавочное освещение затмило начало; но и старые систематики должны были ведь также «познавать», прежде чем классифицировать, поэтому и дарвиновское понимание есть не что иное, как подведенная под понятие развития классификация, которая благодаря описанию процессов природы дает более точную картину собранных фактов.
Конечно, старые зоологи и ботаники давали одностороннее объяснение: они объясняли мир животных и растений лишь на основании многообразия сосуществующих явлений, но упускали из виду объяснение многообразия явлений, следующих друг за другом. Включение в круг своего изучения исторических изменений составляет заслугу главным образом Дарвина. Не следует забывать, что дарвиновское учение впервые представило в надлежащем свете собранные музейными зоологами результаты. То же самое, несомненно, повторится и в новейшем естествознании: будущие открытия восполнят уже сделанные и, следовательно, будут неизменно поднимать их ценность. Никто и ничто не является самодовлеющим, само по себе спасающим, все абсолютно следует рассматривать и изучать под углом зрения универсума.
Поэтому материалистическая теория познания и старается констатировать, что человеческий познавательный орган не излучает метафизического света, а есть лишь часть природы, которая отображает другие части ее и творческая природа которой выясняется из нашего описания ее. Такое описание требует от теоретика познания, или от философа, чтобы он рассматривал свой объект так же точно, как зоолог изучаемое им животное. Если же мне бросят упрек, почему я сам не делаю этого тотчас, то ведь нельзя же забывать, что и Рим был выстроен не в один день.
Удивительно, что эти просвещенные естествоиспытатели, которые так хорошо понимают, что вечное движение природы благодаря приспособлению, унаследованию, подбору, борьбе за существование и т. д. создало из протоплазмы и моллюсков слонов и обезьян, не могут понять, что таким же путем развился и дух. То, что могло случиться с костями, почему же не могло случиться с разумом? Но хорошо: ни сами кости этого не сделают, ни разум этого сделать не в состоянии — это делает субстанциальная сила вселенной, которой они причастны, она создала существующие вещи, а ведь нарисовать картину их постепенного, закономерного и разумного действия — это все, что может сделать и совершить человеческий дух. Почему же он хочет большего? Он хочет этого по той причине, что он считает себя неограниченным властелином.
Если мы не только о природе разума, но и о всей остальной природе говорим, что она разумна, то в связи с этим мы вовсе не хотим, чтобы эта разумная природа и ее действия рассматривались как предусмотренное и преднамеренное следствие фантастического разума. Природа, которая могла произвести человеческий разум, — это такая удивительная природа, что ей для ее разумного развития нет надобности в центральном органе. Чудесная природа не перестает быть чудесной оттого, что мы ее «познаем», «понимаем», «объясняем», но более подробным описанием или более точным изображением можно освободить ее от всяких преувеличений и всякой мистификации и вместе с тем объяснить ее и понять, поскольку об этих духовных функциях не будут составлять никаких преувеличенных представлений, а будут вырабатывать разумное понятие о них.
Подобно тому как музейный зоолог изучал своих животных путем описания класса, вида, семейства, по которым они распределены, так и человеческий дух должен быть исследован путем изучения различных видов этого духа. Каждая личность обладает своим особым интеллектом, а все интеллекты вместе можно рассматривать как продукт одного общего духа. С этой стороны этот общий человеческий дух, как и личный, уже развивался в прошлом, с другой стороны, это развитие ему еще предстоит; он проделал различные многообразные метаморфозы, и если мы, проследя их, дойдем до начала человеческого рода, то мы подойдем к той ступени, когда божественная искра снизилась до степени животного инстинкта. Таким образом, на этой ступени человеческий дух является мостом к собственно животным духам, и так мы доходим до духа растений, деревьев и гор. Это значит: мы, таким образом, доходим до понимания, что между духом и материей, как между всякими частями универсального единства природы, существуют постепенные переходы и незаметное, лишь количественное, не метафизическое различие.
Так как старый материализм этих фактов не понял, так как он не сумел понять материю и дух как абстрактные образы конкретных явлений и, несмотря на свое религиозное вольнодумство и низкую оценку божественного духа, не знал, как ему быть с естественным духом, и вследствие этого незнания никак не мог одолеть метафизики, — то Фридрих Энгельс назвал этот беспомощный, не способный разобраться в абстрактной науке материализм метафизическим, а материализм социал-демократии, которая благодаря предшествовавшему немецкому идеализму была лучше дисциплинирована, — диалектическим.
С точки зрения этого материализма дух есть собирательное название духовных явлений, точно так же как материя — собирательное название материальных явлений, а оба вместе образуют одно понятие и называются одним именем — явления природы. Это есть новый теоретико-познавательный способ мышления, который вторгается во все отдельные науки, во все отдельные мысли и устанавливает положение, что все вещи в мире подлежат рассмотрению sub specie aeternitatis, с точки зрения вселенной. Эта вечная вселенная так тесно спаяна со своими временными явлениями, что вся вечность — временна и все временное — вечно.
Субстанциальный способ мышления социал-демократии также по-новому освещает эту проблему, над разрешением которой так мучился идеализм, ставя вопрос: в чем истинное мышление, как отличить субъективные мысли от объективных? Ответ таков: не следует слишком преувеличивать различие; и наиболее точное представление и самая истинная мысль могут дать лишь образ универсального многообразия, в котором мы живем и которое нас окружает. Отличить реальные образы от фантастических совсем не так трудно, и каждый художник сумеет сделать это с величайшей точностью. Фантастические представления взяты из действительности, а самые совершенные представления действительности неизбежно оживляются дыханием фантазии. Верные представления и понятия оказывают нам большие услуги именно потому, что они не идеально точны, а лишь относительно.
Наши мысли не могут и нe должны «совпадать» со своими объектами в преувеличенном метафизическом смысле этого слова. Мы хотим, должны и можем получить лишь приблизительную идею о действительности. Поэтому и действительность может лишь приблизиться к нашим идеалам. Помимо идеальных представлений, нет ни математических точек, ни математических прямых линий. Всем прямым линиям в действительности присуща полная противоречий кривизна, точно так же и высшая справедливость все еще тесно связана с несправедливостью. Природа истины не идеальна, а субстанциальна; она материалистична; ее невозможно охватить мыслью, она постигается глазами, ушами и руками; она не продукт мысли, а наоборот: мысль есть продукт универсальной жизни. Живая вселенная — это воплощенная истина.
4. Дарвин и Гегель
Известно, что философы, как говорят, открывают новые перспективы, которые впоследствии находят подтверждение в точных науках. Так, например, Декарт хорошо известен физикам, Лейбниц — математикам и Кант — ученым, занимающимся исследованием происхождения небесных светил. Вообще философы пользуются во всяком случае славой, что они гениальными мыслями оказали плодотворное влияние на успехи науки. Этим мы пока желаем указать на то, что философия и естествознание вовсе не отстоят так далеко друг от друга. Человеческий дух работает как в той, так и в другой области согласно одному и тому же методу. Естественно-научный метод точнее, но лишь по степени, а не по сущности. В каждом знании, следовательно и в естественно-научном, помимо ясного и материального, имеется также темный, мистический «элемент» — элемент познания, и самые гениальные мысли наших философов все же «естественны», несмотря или, наоборот, в силу своей таинственной природы. Общая заслуга Дарвина и Гегеля состоит в том именно, что они с успехом содействовали известному сближению естественного и духовного.
Мы охотно признаем за почти уже забытым Гегелем честь быть предшественником Дарвина.— Мендельсон в свое время называл Спинозу «дохлой собакой». Точно так же в настоящее время отжил свой век Гегель, несмотря на то что в свое время, по словам его биографа Гайма, он пользовался в литературном мире таким значением, каким пользовался Наполеон I в мире политическом. Спиноза — эта «дохлая собака» — давно уже воскрес, и Гегель также встретит заслуженное признание у потомства. Если этого признания нет в настоящее время, то это только преходящее явление.
Как известно, Гегель говорил, что в среде многочисленных его учеников только один его понял, да и тот понял неверно. Это непонимание, по нашему мнению, есть скорее следствие неясности учения, чем бестолковости учеников, — в этом не может быть никакого сомнения. Гегеля нельзя вполне понять потому, что он и сам не вполне себя понимал. И несмотря на это, он гениальный предшественник дарвиновского учения о развитии; точно так же правильно и верно будет, если мы скажем наоборот: Дарвин является гениальным завершителем гегелевской теории познания. Эта последняя есть учение о развитии, обнимающее не только происхождение видов всей животной жизни, но и происхождение и развитие всех вещей; она космическая теория развития вообще. Присущие ей еще у Гегеля неясности так же мало можно поставить в вину философу, как мало можно винить Дарвина в том, что он не сказал последнего слова по вопросу о происхождении видов.
Безусловно верно одно: кто объясняет все, тот не объясняет ничего. От подобных фантастических желаний великий мыслитель был очень далек, хотя его школа чуть ли не обоготворила его. Многие гегельянцы в свое время действительно полагали, что учитель может положить им в открытый рот спасительную истину. Однако после него остались и такие ученики, которые серьезно взялись за возделывание оставленной им почвы и способствовали появлению великолепных плодов на древе знания.
Будем относиться критически к богу и ко всем людям, а также к Гегелю и Дарвину. — Учение Дарвина о развитии есть вечный вклад в науку. Кто станет отрицать это? Однако немцы, выросшие под влиянием своих великих философов, не должны упускать из виду, что великий Дарвин далеко не так велик, как его учение. Как он боялся неизбежных выводов! Никто не может переоценивать значение точной работы; но тот, кто не понимает, что она должна сопровождаться если не полетом в бесконечное, то все же бесконечным полетом и неустанными порывами мысли вперед, — тот не понял полного значения точного экспериментального исследования.
Учение о развитии, если и не окончательно выясненное Гегелем, то все же обязанное ему в значительной степени своим ростом, получило у Дарвина в области зоологии чрезвычайно точную разработку, или спецификацию. Однако нужно обратить внимание на то, что спецификация по ценности не выше генерализации, которой с таким совершенством владеет Гегель; одна не должна и не может быть без другой. Естествоиспытатель соединяет их вместе, и ни один философ — поскольку он заслуживает это имя — не имеет права забывать об этой связи; только бо?льшая или меньшая степень характерна для той и другой дисциплины. Правда, необходимость специализации иногда забывалась наилучшими философами или даже не была в полной своей ясности ими осознана. Но не менее часто точное естествознание забывало обобщающий момент своей задачи и, нужно сознаться, далеко не худшие работники в области точных наук давали слишком много воли смелому полету своей фантазии. Полеты в поднебесье, предпринимаемые отдельными естествоиспытателями, и проблески точного образа мышления у философов должны показать читателю, что общее и специальное находятся в гармонии друг с другом.
Всякое искусство есть естественное искусство, несмотря на то что природу и искусство разграничивают очень резко; точно так же всякая наука, включая сюда и философию, — естественная наука. И спекулятивная философия имеет точный объект: «проблему познания». Однако мы оказали бы философам слишком много чести, если бы захотели сказать, что они разрешили свою проблему. Представители других дисциплин, естествоиспытатели-специалисты в точном смысле этого слова, оказывали им содействие; да и вообще науки всех специальностей, всех народов и всех времен тесно переплетены в смысле всестороннего взаимодействия. Философы оказывали содействие естествоиспытателям, а естествоиспытатели — философам, одни помогали другим, пока, наконец, проблема познания не стала нам ясной, пока она не была разработана, четко выявлена и отмежевана.
Как назвать тот предмет, который врач или астроном выбирают объектом своего исследования, это ясно; между тем предмет философии первоначально очень сильно оспаривался, так что вполне основательно можно было сказать, что философы не знают, чего они хотят. В настоящее время, после продолжавшегося целые тысячелетия развития философии, пришли к единогласному выводу, что «проблема познания», или «учение о науке», составляла предмет и результат философской работы.
Чтобы выяснить отношение между Дарвином и Гегелем, нам необходимо коснуться самых глубоких и самых темных вопросов науки. К числу таковых и относится именно предмет философии. Объект Дарвина не двусмыслен; он знал свой предмет, но при этом следует заметить, что Дарвин, знавший свой предмет, все же хотел его исследовать, т. е. все-таки не исчерпал его вполне. Дарвин исследовал свой предмет — «происхождение видов», но не исследовал его до конца. Это значит, что предмет всякой науки бесконечен. Желает ли кто-нибудь измерять бесконечность или мельчайший из атомов — все равно он всегда имеет дело с чем-то, что до конца неизмеримо. Природа как в целом, так и в отдельных своих частях не может быть исследована до конца, она неисчерпаема, непознаваема до конца, она, следовательно, без конца и без начала.
Познание этой естественной бесконечности есть результат науки, в то время как исходным пунктом последней была необычная религиозная или метафизическая бесконечность.
Предмет Дарвина столь же бесконечен и столь же неисчерпаем, как и предмет Гегеля. Первый исследовал вопрос о происхождении видов, второй старался объяснить процесс мышления у человека. Результатом у того и другого явилось учение о развитии.
Перед нами два выдающихся человека и одно очень великое дело. Мы стараемся доказать, что оба они работали не в противоположном друг другу направлении, а делали одно общее дело. Они подняли монистическое миросозерцание на такую высоту и подкрепили его такими положительными открытиями, которые до этого оставались неизвестными.
Учение Дарвина о развитии ограничивается животными видами; оно уничтожает пропасти, вырытые религиозным миросозерцанием между родами и видами тварей. Дарвин освобождает науку от этой религиозной точки зрения на родовые отличия и устраняет из науки в этом специальном вопросе божественный творческий акт. Как раз здесь он ставит на место трансцендентного, исключительного творческого акта обыкновенное саморазвитие. Чтобы показать, что Дарвин не свалился к нам с неба, достаточно напомнить, что, как известно, Ламарк оспаривает у Дарвина приоритет. Этим нисколько не умаляется заслуга Дарвина; Ламарку принадлежит честь философского освещения Дарвину же — специальное исследование этого вопроса.
Нашему Гегелю принадлежит заслуга установления саморазвития природы на широчайшей основе и освобождения науки в самой общей форме от классифицирующей точки зрения. Дарвин критикует традиционный классифицирующий метод с точки зрения зоологии, Гегель же — с общей точки зрения.
Наука идет от мрака к свету. Развивалась и философия, центр тяжести которой лежит в выяснении процесса мышления человека. Что она на специальном своем объекте останавливалась скорее инстинктивно, это до известной степени ей уже было ясно еще до Гегеля.
Главные философские сочинения имели своим предметом «метод», критическое использование разума, учение о науке, или учение об истине и о способе, как человек должен мыслить, пользоваться своей головой; они стремились выяснить себе ту специальную часть мира, которая служит орудием при исследовании этого самого мира.
Мы обращаем особое внимание на дуализм, на двойственность этого стремления: подлежит выяснению мир и в то же время тот светильник, которым он освещается. Эта двойственность, главным образом, и вносит полнейшую путаницу в философские исследования. Наука исходит из стремления к полной ясности и первоначально не знает, с чего ей начать — со всего ли космоса сразу или постепенно, с отдельных его частей. Во многих отношениях она на практике нашла уже правильный путь, еще не придя к норме. В эпоху Гегеля вопрос был далеко еще не ясен, однако очень много было сделано для того, чтобы подготовить его разрешение. Именно Кант оставил в стороне стремление постигнуть всю мировую мудрость и прежде всего обратил главное свое внимание на одну часть мира — процесс мышления. Эта часть, согласно традиционному взгляду, принадлежала преимущественно к метафизической категории запредельных вещей. Кант при помощи своей критики сделал много для того, чтобы освободить интеллект от этого злого тяготения к запредельному. Если бы ему это удалось вполне и если бы он окончательно доказал, что разум есть существо, относящееся со всеми остальными существами к разряду естественных, то он, подобно Дарвину, нанес бы сильный удар чрезмерному классифицированию и в значительной степени уронил бы авторитет религии. Правда, смелый Кант это сделал, но все же он отрубил ухо Малху не начисто, а оставил еще кусочек для своих преемников.
Гегель является достойным преемником Канта. Если сопоставить этих двух философов, то легко увидеть, что они дополняют друг друга и оба вместе — Дарвина. Кант избрал разум предметом своего специального исследования. При рассмотрении этого последнего он не может обойтись без того, чтобы не подвергнуть рассмотрению и другие объекты. Он рассматривает разум таким, каким он функционирует при деятельной разработке других наук; он рассматривает разум в его отношении ко всему остальному миру и повторяет нам бесчисленное множество раз, что он должен ограничиваться опытом, т. е. единым, нераздельным миром, одновременно вечным и временным. Отсюда читатель может усмотреть, как в учении Канта внутренне связаны общая мировая мудрость, истина и специальная критика разума.
С первого взгляда ясно, что кантовское открытие ограниченности человеческого разума пределами опыта было одновременно и философским естествознанием и естественно-научной философией. Точно так же обстоит дело с учением Дарвина о «происхождении видов». Оно доказывает в отношении этого пункта естественно-научно, что мир развивается в самом себе и что это развитие не приходит к нам с неба, не трансцендентно, как выражаются философы. Дарвин — философ, хотя он на это и не претендует. Двойственность, заключающаяся в том, что в монистическом мировоззрении соединяются в одно и то же время точная специализация и обобщение, присуща ему и его произведениям так же, как она присуща Канту и Гегелю.
Гегель дает нам теорию развития; он учит, что мир не был сделан, не был сотворен, что он есть не неизменное бытие, а самосоздающее становление. Как у Дарвина все классы животных переходят друг в друга, так и у Гегеля все категории мира — ничто и нечто, бытие и становление, количество и качество, время и вечность, сознательное и бессознательное, прогресс и застой — неизбежно переходят друг в друга. Он учит, что везде существуют различия, но нигде нет чрезмерных, «метафизических», или несоизмеримых, различий. Вещей, «существенно» разнящихся друг от друга, по Гегелю, не существует. Различение между существенным и несущественным нужно понимать лишь с относительной точки зрения. Существует лишь одна абсолютная сущность — космос, и все, находящееся в нем, около него и вокруг него, это лишь текучие, преходящие, изменчивые формы, акциденции, или свойства всеобщей сущности, которая на языке Гегеля носит название абсолюта.
Никто не станет утверждать, что философ блестяще довел свое дело до конца. Его учение, как и учение Дарвина, не исчерпало дальнейшего развития, но оно дало толчок всей науке и всей человеческой жизни, толчок громадной важности. Гегель предвосхитил Дарвина, но Дарвин, к сожалению, не знал Гегеля. Этим «к сожалению» мы не думаем упрекать великого натуралиста; мы этим хотим лишь напомнить, что дело специалиста Дарвина должно быть дополнено великой обобщающей работой Гегеля, чтобы таким путем, перегнав их, добиться большей ясности.
Мы видели, что философия Гегеля была настолько темной, что учитель должен был сказать о лучшем своем ученике, что тот неправильно его понял. Прояснению этой темноты содействовали не только его преемник Фейербах и другие гегельянцы, но все научное, политическое и экономическое развитие мира. Если мы вникнем особенно в открытия Дарвина и в новейшую теорию «превращения сил», то нам, наконец, станет ясным то, что уже в течение целых трех тысячелетий культурной жизни занимало самые выдающиеся головы, а именно: что мир не составлен из вечных классов, а есть текучее единство, телесный абсолют, вечно развивающийся и классифицируемый человеческим умом в целях отображения его в понятиях.
Эрнст Геккель, почтенный исследователь и ученик Чарльза Дарвина, в предисловии к прочитанному в Эйзенахе 18 сентября 1882 г., а затем напечатанному в Иене у Густава Фишера реферату говорит следующее: «Теперешняя точка зрения Вирхова на дарвинизм совершенно отлична от той, которой он придерживался пять лет назад в Мюнхене. На упомянутом уже собрании антропологов Вирхов взял слово непосредственно после д-ра Лукаса и не только высказался против основных утверждений этого последнего и отдал Дарвину должную дань высокого к нему уважения, но безусловно согласился с тем, что его наиболее важные положения — логические постулаты, неопровержимые требования нашего разума». «Да, — говорит Вирхов, — я нисколько не сомневаюсь, что generatio aequivoca[7] Дарвина есть своего рода всеобщее требование человеческого ума... Представление, что человек в результате медленного и постепенного развития произошел от ряда низших животных, также является логическим постулатом».
«Очищенное познание природы, — говорится дальше в реферате Геккеля, — знает лишь то естественное откровение, которое перед каждым открыто в книге природы и которому может из этой книги научиться каждый свободный от предрассудков и одаренный здравыми чувствами и здравым умом человек. Из этого вытекает та чистейшая, монистическая форма веры, которая сводится к убеждению в единстве бога и природы и которая давно уже нашла наиболее совершенное свое выражение в пантеистических взглядах наших величайших поэтов и мыслителей».
В том, что у наших величайших поэтов и мыслителей выражена тенденция к «монистической, чистейшей форме веры» и стремление к физическому воззрению на природу, делающему невозможной всякую метафизику и устраняющему сверхприродного бога со всем хламом чудес из области науки, — в этом Геккель вполне прав. Но когда он настолько увлекается и говорит, что эта тенденция «давно уже нашла наиболее совершенное свое выражение», то он в этом очень сильно ошибается, ошибается даже относительно самого себя и своего собственного символа веры. Даже Геккель еще не умеет мыслить монистически.
Мы сейчас дадим более подробное обоснование этого упрека. Мы предварительно желаем лишь подчеркнуть, что этот упрек заслужен не только Геккелем, но и всей школой нашего современного естествознания, так как она пренебрегает почти трехтысячелетним развитием философии, имеющей за собой длинную и богатую опытом историю, столь же содержательную, как и опытное естествознание.
На странице 45 упомянутого нами реферата Геккеля далее говорится:
«Мы считаем нужным здесь особенно подчеркнуть сближающее и примиряющее действие нашего генетического воззрения на природу, и это тем более, что наши противники постоянно стремятся к тому, чтобы приписать ему разрушительные и разлагающие тенденции. Эти разрушительные тенденции направлены будто бы не только против науки, но также и против религии и, следовательно, против важнейших основ нашей культурной жизни. Подобного рода тяжелые обвинения, поскольку они покоятся действительно на убеждении, а не только на ложных софистических умозаключениях, можно объяснить лишь полным незнанием того, что составляет истинную сущность всякой религии. Эта сущность заключается не в специальной форме символа веры, вероисповедания, а скорее в критически проверенном убеждении в существовании единой, последней, безусловно всеобщей первопричины всех вещей.
В признании того, что последняя первопричина всех явлений, при данной организации нашего мозга, нами не может быть познана, критическая натурфилософия соприкасается с догматической религией».
В этих словах Геккеля заключаются три пункта, которые мы хотим выделить и которые нам докажут, что «монистическое миросозерцание» не нашло еще себе совершенного выражения в наиболее радикальном, естественно-научном своем представителе.
Во-первых, Геккель хочет снять с естествознания упрек в «разрушительной тенденции». Она, очищенная наука, знающая только естественное откровение и имеющая свою религию, или форму веры, только в единстве бога и природы, не может быть, во-вторых, противопоставлена как разрушительная сила господствующей религии, покоящейся на сверхъестественном откровении. Эта неестественная религия, по его мнению, должна иметь зерно истины, которое признается также естественной или естественно-научной религией, а именно, общую первооснову всех вещей.
Совершенно правильно! Общую первооснову всего бытия старая вера усматривает в своем личном боге, который сверхприроден, неописуем, непостижим нашими понятиями, это дух, нечто таинственное. Новая религия a la Геккель полагает, что природа, которой она дает старое имя бога, именно и есть общая первооснова всех вещей. Разница только та, что естественно-научная первооснова есть самая обыкновенная природа; правда, она еще в высшей степени таинственна, но она все же содержит лишь такие тайны, такие загадки, разрешением которых и занимаются естественные науки.— Обожествленная, обоготворенная Геккелем природа тоже есть какая-то тайна, но лишь естественная, самая обыденная, в то время как божество, открывающееся нам свыше, согласно существующим на него взглядам, обладает совершенно невыразимой, не передаваемой никакими словами природой. Так как совершенно невозможно говорить о всемилостивом боге религии иначе, как человеческими словами, то вполне понятно, что эти имена и слова при этом теряют всякий человеческий смысл. Поставим, например, рядом бога религии и геккелевского бога-природу: оба они всемогущи; все совершается, исходит от природы, но лишь в обыденном, естественном смысле. Всемилостивый бог тоже делает все, но не естественным, а сверхприродным способом, так что этого словами не раскроешь и никак не выразишь. Говорят, что всемилостивый бог — это дух, но не такой дух, который бродит по старым замкам; также не такой ограниченный дух, как обитающий в человеческой голове, т. е. он есть дух, не как другие, он — чудовищный дух; невозможно определить словами его свойств.
Прежде чем перейти к третьему пункту «чистейшей формы веры», мы должны подробнее остановиться на уже рассмотренных нами пунктах; мы таким образом легче справимся с третьим и последним пунктом и легко подведем итог всем трем пунктам.
Разница между обыденным, естественным и сверхъестественным, между физическим и метафизическим откровением, религией и божеством так громадна, что очищенный от всяких посторонних элементов взгляд на природу, как она представляется дарвинисту Геккелю, имел бы полное право отказаться от старых имен и от божественной, откровенной религии и выступить «разрушительно» против последней во всеоружии монистического миросозерцания. Отказываясь от этого, дарвинизм обнаруживает лишь ограниченность своего эволюционного учения. Поскольку он хочет быть монистическим, он должен смотреть на природу исключительно с точки зрения физической, но никак не метафизической; он в ней должен усматривать первооснову всех вещей, не мистическую, основу, правда неисследованную, но доступную исследованию, а не закрытую для всякого изучения в метафизическом смысле слова.
Что Геккель, наиболее выдающийся представитель естественнонаучного монизма, все же еще сидит та этом дуалистическом коньке, доказывается ярко его третьим пунктом, утверждающим, что при современной организации нашего мозга последняя первопричина всех явлений непознаваема.
Что значит непознаваема?
Весь контекст предложений, в которых употребляется это слово, с очевидностью доказывает, что наш естествоиспытатель еще всецело опутан сетями метафизики. Ни одна вещь, ни один атом не познаваем до конца. Каждая вещь неисчерпаема в своих тайнах, вечна и неразрушима. Тем не менее мы ежедневно ближе знакомимся с вещами и узнаем, что нет ничего такого, что недоступно нашему уму. Как неограничен человеческий дух в раскрытии тайны, как неисчерпаем он по богатству новых открытий, так неограниченно и во всей своей полноте познается им неисчерпаемое и непознаваемое как в частностях, так и в целом.
«Старая вера» повинна в том, что слова, речь, имеют двойственный смысл — естественный, относительный, обыденный и — запредельный, метафизический. Пусть читатель обратит внимание на двоякое действие связанного с метафизикой естествознания. Оно содержит тайны и, раскрывая их, заставляет убеждаться, что то, что было тайной, благодаря исследованию становится простой, обыденной связью явлений. Природа полна тайн, которые перед исследующим умом оказываются самыми простыми, обыденными явлениями. Природа неисчерпаема по богатству научных проблем. Мы их исследуем, но никогда не доходим до конца в своих исследованиях. Здравый человеческий рассудок вполне прав, когда он находит, что мир и природа не могут быть исследованы до конца, но он не менее прав, когда он отвергает метафизическую непостижимость мира как исключительное недомыслие, как суеверие. Мы в своем исследовании природы никогда не доходим до конца, и, однако, чем дальше идет естествознание в своих исследованиях, тем очевиднее становится, что ему решительно нечего бояться неисчерпаемых тайн природы, что здесь — согласно словам Гегеля — «ничего нет такого, что было бы ему недоступно». Из этого следует, что мы ежедневно черпаем из неисчерпаемой «первоосновы всех вещей», а именно при помощи нашего познавательного аппарата, способность которого к исследованию так же универсальна и бесконечна, как бесконечно богата природа своими обычными тайнами.
При современной организации нашего мозга! — Конечно! Наш мозг благодаря половому подбору и борьбе за существование еще разовьется во всей своей силе и все больше и больше будет проникать в естественную первооснову. Если это имеется в виду, то мы охотно согласимся. Но в том-то и дело, что все еще опутанный метафизикой дарвинист такого смысла им не придает. Человеческий рассудок, хочет он сказать, слишком мал для полного исследования мира; мы поэтому должны верить в еще «более высокий», чудовищный дух и не бороться против него «разрушительно».
Дарвин, несмотря на все свои крупные заслуги, был крайне скромным человеком; он довольствовался исследованием в пределах своей специальности. Не мешало бы каждому быть столь же мало претенциозным, но не каждому или не всем следует довольствоваться одной и той же специальностью. Наука не только должна исследовать морфологию растений и животных, но должна и может наблюдать, как непознаваемое становится познаваемым, и не должна исключать из области своего исследования последнюю причину всякого бытия и развития.
Гегель изложил учение о развитии гораздо шире, чем Дарвин. Говоря так, мы не думаем предпочитать или ставить одного из них выше другого, а считаем только необходимым дополнить одного другим. Если Дарвин учит нас, что амфибии и птицы — это не изолированные друг от друга виды, а живые существа, возникающие друг из друга и переходящие друг в друга, то Гегель учит, что все виды, весь мир представляет собой живое существо, нигде не имеющее неподвижных границ; познаваемое и непознаваемое, физическое и метафизическое постоянно переходят одно в другое; абсолютно непостижимое есть нечто такое, что относится не к монистическому, но к религиозному, дуалистическому миросозерцанию.
«Нам нужно вернуться на 25 столетий назад, к самым первобытным временам классической древности, чтобы найти первые зародыши натурфилософии, вполне сознательно преследовавшей цель Дарвина: доказать естественные причины явлений природы и этим самым подорвать веру в сверхприродную причинность, веру в чудеса. Основоположники греческой натурфилософии, жившие в VII и VI вв. до р. х., первые заложили этот прочный фундамент познания, стараясь отыскать естественную, общую первооснову всех вещей» (Геккель, там же, стр. 14).
Когда заслуженный естествоиспытатель оставляет без внимания эту «естественную» первооснову и ставит на ее место «метафизическую» первооснову, которая переполнена таких чудес, что мы ее никак не можем познать, другими словами, таинственную, мистическую первооснову, в которую мы должны верить и которая связывает нас с религией, — разве он не изменяет в таком случае общей цели Дарвина и его критической натурфилософии?!
Согласно нашему монизму, природа — последняя основа всех вещей; она также основа нашей познавательной способности, и тем не менее, согласно взгляду Геккеля, эта способность слишком ограниченна, чтобы познать последнюю основу.— Как это совместить? Природа, познанная как последнее основание, в то же время оказывается «непознаваемой»!?
Страх перед разрушительными тенденциями захватил даже такого решительного теоретика эволюционной теории, как Геккель; он изменяет своей теории и отдается той вере, будто человеческий дух должен удовлетвориться явлениями природы, будто он не может добраться до настоящей сущности природы; последней первоосновой оказывается объект, не относящийся к области естествознания.
«Эта скромность получающего или скупость дающего не подобает науке», — говорит Гегель в своем предисловии к «Феноменологии духа»; затем он продолжает: «Кто ищет только назидания, кто хочет окутать мраком земное разнообразие бытия и мысли и ищет неопределенного наслаждения этим неопределенным божеством, пусть сам позаботится о том, где ему найти это; ему легко будет настроить себя мечтательно и упиваться мечтаниями. Но философия должна остерегаться быть назидательной».
Цель Дарвина наиболее признанным его учеником была представлена как цель философская: доказать существование естественных причин и подорвать веру в сверхприродную причинность, веру в чудеса. И, несмотря на все это, загадочная непостижимость общей первоосновы всех вещей, загадочная ограниченность человеческого духа должна оставаться в целях назидательного примирения.
Наш упрек Геккелю-дарвинисту сводится к тому, что он недостаточно усвоил себе результаты чуть ли не трехтысячелетнего развития философии, и поэтому, имея, может быть, очень точное знакомство с устройством «нашей теперешней мозговой организации», он все же не имеет никакого понятия о качестве отличного от нее познавательного процесса. Во всяком случае приведенные выше цитаты показывают, что суждение Геккеля о естественном и сверхъестественном, о загадочном и познаваемом, а также его понятия о естественном божестве и божественной природе не построены монистически, но все еще находятся в плену у очень отсталого дуализма.
Что касается пантеистических взглядов наших величайших поэтов и мыслителей, взглядов, находящих свое завершение в убеждении о единстве бога и природы, то Гегель оставил нам особенно характерную теорию. Согласно ей, мы знаем не только единство, но и различие вещей. Шпиц такая же собака, как мопс, но это единство не исключает различия. У природы много общего с «милосердным» богом: она царствует от вечности до вечности. Так как наш ум — естественный ее аппарат, то природа знает вообще все, что доступно знанию; она всеведуща, но, несмотря на это, природная мудрость настолько отлична от божественной, что имеется достаточно научных причин к «разрушительной» тенденции, направленной на полное вытеснение понятий бога, религии, метафизики, — вытеснение в разумном смысле этого слова, насколько это возможно. Путанные идеи всегда существовали и будут существовать до глубокой вечности.
И гегельянец занимает по отношению к религии только научную, но никак не непримиримую позицию. Мы охотно признаем ее как естественное явление, имевшее полное право на существование в свое время и при известных обстоятельствах и носящее, как и все явления, например дерево и камень, всегда зернышко вечности в преходящей оболочке. То, что было упущено и недоделано Гегелем, было доделано его учеником Людвигом Фейербахом; он в достаточной степени выяснил всю сущность предмета, он показал, что сгоревшее дерево не превращается в ничто, а превращается в пепел и претерпевает такое изменение, что пользоваться прежним именем становится невозможно. Превращение дерева в пепел есть развитие; точно так же эволюционирует в науку религия. Но если дарвинист склонен оставлять в первооснове нечто замкнутое и недоступное развитию, нечто таинственное и метафизическое, то он этим только доказывает, что он не понял учения о развитии во всей его универсальности, что великий Гегель, разработавший учение о мышлении, для него является «дохлой собакой».
Бросим беглый взгляд на работу Дарвина. Объектом его исследования является родовое животное, животность, животная жизнь с точки зрения рода. До Дарвина мы знали лишь отдельные живые индивиды, родовое животное было для нас лишь абстракцией. Но с тех пор мы узнали, что не только индивиды, но и родовое животное есть живое существо. Животный мир существует, движется и изменяется, он имеет свою историю, он — организм, расчлененный организм. Разделение животного мира до Дарвина сводилось к известному шаблону; его делили на классы: насекомые, рыбы, амфибии, пресмыкающиеся и т. д. Дарвин внес жизнь в этот шаблон; он показал, что это родовое животное не есть мертвая абстракция, а постоянно движущийся процесс, о котором наше познание до настоящего времени давало нам лишь очень бледную картину. И если старое знание животного мира дает лишь неполную, а новое знание, по Дарвину, более правдивую, полную и настоящую картину, то вытекающая отсюда для наших знаний выгода не ограничивается одной животной жизнью: мы в то же время приобретаем знание нашей познавательной способности, а именно: что последняя не есть сверхъестественный источник истины, а лишь инструмент, подобный зеркалу, отражающий вещи мира, или природу.
Дарвин был вдвойне противником метафизики. Он наголову разбил метафизику, веру в чудеса, может быть не сознавая и не желая этого; он устранил неестественные границы классов из области зоологии и нанес сокрушительный удар исцеляющей вере в метафизическую, чудесную природу человеческого познавательного органа; удар этот существенным образом осветил путь философии, критику разума и учение о науке.
Если не Дарвин сам, то, во всяком случае, ученик его Геккель поведал нам, что его учитель был славным борцом против метафизики. Вот где он сходится с Гегелем и со всеми остальными философами. Все эти философы стремились к просвещению, в частности к разъяснению метафизической запредельности, несмотря на то что они так или иначе находились еще в метафизических сетях.
Гегель имеет много общего со старым Гераклитом, который носит прозвище «темного». И тот и другой учат, что вещи в нашем мире не постоянны, но текучи, т. е. развиваются, и оба заслуживают прозвище «темного». Чтобы бросить некоторый свет на гегелевскую темноту, мы должны дать краткий обзор развития философии.
Наука начала свой жизненный путь скорее с философии, чем с естествознания, т. е. жила вначале больше в метафизической запредельности, чем в реальной природе. Попытки естественнонаучного исследования человечество делало, должно быть, в глубокой древности, подобно тому как наши самые передовые естествоиспытатели нередко ударяются в отсталую философию; тем не менее можно, не искажая истины, сказать, что старые ученые были философами, а современные являются естествоиспытателями. Теперь сближение, наконец, возможно или даже осуществлено. Теперь идет речь о законченном, систематическом, естественном миросозерцании, не имеющем ни впереди, ни позади себя ничего сверхъестественного, ничего «назидательного», ничего метафизического.
Со времени греческих классиков — начиная с Фалеса, Демокрита и Гераклита, Пифагора, Сократа и Платона — философы старались разрешить загадки природы. Они вечно колебались и находились в сомнении относительно самого способа исследования, относительно того, следует ли искать разрешения всех этих проблем во внутреннем или во внешнем мире, в материи или в духе. Но даже в новейшее время, когда после тысячелетней ночи замерцал новый научный день и когда исследователи снова взялись за продолжение дела своих предков, во времена Бэкона, Картезия и Лейбница, все еще спорили «о методе» и настоящем «органоне» для постижения истины. Было в высшей степени сомнительно, главным образом, относительно природы той истины, которую надлежало исследовать, и относительно тех загадок, которые предстояло разрешить: естественного ли они свойства или сверхъестественного, — все было до того сомнительно, что Картезий, как известно, смотрел на сомнение, как на первое условие и основное достоинство исследования.
Однако наука не могла на этом остановиться, она должна была добиться уверенности — главным образом в отношении также того пункта, который и самим Картезием и всеми остальными философами очень близко принимался к сердцу.
Она добивалась уверенности в том методе, которому нужно следовать, чтобы достигнуть научной истины, совпадающей с уверенностью. В это же время естествознание уже начало применять на практике тот метод, который философы все еще искали. Даже гениальный Картезий, или Декарт, как он обыкновенно себя называл, был отчасти естествоиспытателем и дошел даже в философии до того, что вполне определенно и сознательно положил упомянутый «метод» в основание своей главной книги.
Но свет все больше и больше разгорается. Метафизическое, непонятное, таинственное должно быть бесповоротно изгнано из области науки, и его место должно быть занято несомненной достоверностью. Развитие идет блестяще. Философы делают громадные успехи, и естествоиспытатели оказывают им громадную помощь.
В это время выступает гениальный Кант с вопросом: «Как возможна метафизика как наука?»
Посмотрим ближе, что кенигсбергский мудрец хотел и имел в виду сказать своей «метафизикой»? Он этим обозначает чудо, таинственное, непонятное, и оставляет ему традиционное, теологическое, им же выразительно сочиненное название: «бог, свобода и бессмертие».
Об этом вы уже достаточно много толковали, говорит Кант. Поэтому я хочу исследовать, можно ли что-нибудь знать в этих вопросах. И он берет себе в пример Коперника. После того как астрономия долгое время утверждала, что солнце вращается вокруг земли, но этим никак не могла дать удовлетворительного объяснения явлениям, он, Коперник, перевернул весь метод и задался вопросом, не будет ли более целесообразно предположение, что солнце стоит, а земля вращается.— До Канта продолжались попытки с помощью мыслительной способности объяснить великую метафизическую тайну, существование мирового чуда. Знаменитый критик разума перевертывает всю проблему, ближе всматривается в тот созданный природой предмет, присутствие которого каждый ощущает в своей голове, в тот источник света, относительно которого уже раньше были сделаны кое-какие наблюдения, и хочет исследовать вопрос, можно ли этим светочем осветить чудовище, которое со времени христианства носит имя бога, свободы и бессмертия и которое фигурирует у мудрецов классической древности под названием истинного, доброго и прекрасного.
Это классическое название очень легко может нас ввести в заблуждение. Истинные, добрые и прекрасные отдельные объекты, ежедневно разрабатываемые в наше время точными науками, все же следует отличать от того большого чудовища, которое носилось перед воображением древних при исследовании только что упомянутых отвлеченных понятий. Христианское название, которым Кант обозначает запредельное, метафизическое чудовище, скорее годится для того, чтобы при современном положении данного вопроса резко подчеркнуть различие между физикой и метафизикой, между чувственным, естественным миром и сверхчувственным или бессмысленным, потусторонним миром.
С другой стороны, однако, недостаточно оценивают значение этого чудовища, если исключительно направляют все свое внимание на его религиозную окраску. Под животом оно окрашено в желтый цвет и испускает свет, который называется богом, свободой и бессмертием; на спине его, однако, отражается цвет окружающей природы, благодаря чему оно, подобно белым зайцам на снежной поверхности, ускользает от нашего внимания. Если мы подойдем поближе и хорошенько всмотримся, то мы увидим, как темными красками на серой спине написано древнегреческими буквами: «истинное, доброе, прекрасное». Если тем надписям, которые носит философски-теологически-метафизическое чудовище на своем животе и на спине, дать общее выражение, это животное скорее и правильнее всего возможно будет окрестить прекрасным именем «истины». Мы должны учесть двойственный смысл этого слова. Истина этого чудовища запределына. Она, однако, покоится на естественной почве, на почве естественной истины, которую следует, впрочем, отличать от запредельной. Естественная истина есть научная истина; на нее нельзя взирать ни с воодушевлением, ни с «религиозным умилением»; она требует трезвого рассмотрения, она так обща или всеобща, что все материальные вещи, даже булыжники на мостовой, относятся к ней. Истина, исходящая от этого чудовища, есть заблуждение детства человечества, в то время как трезвая истина есть собирательное название, обнимающее одним понятием как истинные фантазии, так и истинные булыжники мостовой.
Кант ставит вопрос: как возможна метафизика, т. е. вера в запредельное, в качестве науки? И отвечает: эта вера ненаучна. После того как Кант исследовал способности интеллекта, он приходит к выводу, что человеческий ум может рисовать себе только картины явлений природы; в науке он не знает и не хочет знать о каком-то другом, «истинном» духе. Если время для такого радикального заявления тогда еще и не совсем настало, то все же всему миру известен результат кантовского исследования, что разум, под которым подразумевается высшая степень наших интеллектуальных способностей, может постигнуть лишь явления вещей.
Вопрос об этом чудовище в руках философа Канта превратился в трезвый научный вопрос: что за вещь человеческий дух, что за светильник он собой представляет и что им можно осветить? Из запутанного хаоса — следует ли бороться против метафизического чудовища, или заниматься критикой разума, или преследовать одновременно и то, и другое — Канту не удается окончательно выбраться. Его преемники — Фихте, Шеллинг, Гегель — должны прийти ему на помощь. Исследование человеческого ума должно раздавить голову чудовища — это неоспоримо; для решения этого вопроса кенигсбергский Коперник расчистил путь. Но воодушевление его геройским деянием не должно нас увлекать настолько, чтобы забыть, что им и его преемниками все же владеет метафизика, вера в иную истину, более возвышенную, чем естественная. Они скорее чувствуют чудовищное, чем постигают его, и лишь шаг за шагом подвигаются на пути к победе.
Кант рассуждает следующим образом: если наш разум и должен ограничиться одним лишь познанием естественных явлений, если мы и дальше не можем ничего знать, то все же должны верить в нечто таинственное, высшее, метафизическое. Тут должно нечто скрываться, «ибо где имеются явления, там должно быть нечто, что проявляется», — заканчивает Кант; этот вывод отличается лишь мнимой точностью.— Разве не достаточно, что проявляют себя естественные явления, а не нечто сверхъестественное, нечто непонятное, что за ними ничего не скрывается, помимо собственной природы? Но оставим это. Формально, во всяком случае, Кант изгнал метафизику из науки, но она застряла у него в вере.
Этого было слишком много для его преемников и, главным образом, для Гегеля. Вера в ограниченный человеческий ум, оставленная нам Кантом, границы, поставленные им научному исследованию, были слишком узки для нашего гиганта мысли; он рвался во вселенную, и «здесь не должно было быть ничего такого, что могло бы противостоять ему». Он хочет вырваться из метафизической тюрьмы на свежий физический воздух; но это не следует понимать в том смысле, что Гегель сам в умственном отношении был свободен и хотел содействовать другим в достижении свободы. Нет, сам исследователь ограничен и ищет повсюду наставления; его ум, его огонь, есть лишь часть общего светильника, горящего во всяком человеке, который все хочет освещать и все может освещать, тем не менее двигается вперед лишь шаг за шагом, постепенно.
Вследствие более или менее запутанного характера исследуемого нами предмета наше изложение также по необходимости сложно. Мы хотим выяснить связь между старыми философами и их «последним рыцарем», между Гегелем, Дарвином и наукой в целом; этим объясняется то обстоятельство, что мы то забегаем вперед, то возвращаемся назад.
Чтобы выяснить отношение гегелевского учения к дарвиновскому, прежде всего необходимо иметь постоянно в виду сбивчивую, двойственную природу всякой науки. Каждый исследователь, также и Дарвин, освещает не только тот специальный предмет, который он сознательно себе выбирает, но его отдельные работы одновременно и неизбежно способствуют выяснению отношения человеческого ума ко всему миру. Это отношение было первоначально рабским, религиозным, негуманным. Человеческий дух смотрел на себя и на мир, как на загадку, которую он не был в состоянии осветить светом своей науки и на которую он с изумлением смотрел как на нечто фантастическое, подавляющее своей метафизичностью. Каждый отдельный научный вклад, сделанный на низших ступенях культурной жизни, ослаблял эти прирожденные нашему роду рабские оковы. Ими были одинаково опутаны и философы и естествоиспытатели; облегчение оков производилось сообща и приносило до сих пор самые отрадные результаты. При этом, однако, естествоиспытатели не имеют ни малейшей причины смотреть свысока на своих товарищей философов. Одни, с Дарвином во главе, прямо останавливаются на специально выбранном ими предмете и косятся на мировую загадку. Если даже Дарвин определенно заявляет, что науке нет никакого дела до метафизического чудовища, и, таким образом, сам уклоняется от разрешения данного вопроса или, подобно Канту, ударяется в область веры, то ведь это все субъективные ограничения или опасения, которые простительны отдельным личностям, но которые никак не должны в чем-либо стеснять универсальную природу человеческого рода. Нельзя поэтому говорить: здесь — знание, там — вера; нет, здесь требуется разрешение всех сомнений, и если чье-либо учение противится этому, то это учение будет отвергнуто как трусость нашими потомками.
Раньше мы говорили: естествоиспытатели смело обозревали предметы своего специального исследования и косились на чудовищный мир чудес. Теперь мы к этому прибавим: философы направляют лучи своего интеллектуального светильника прямо на большое чудовище и при этом так непоследовательно, что постоянно озираются назад, на свой собственный свет. Эта обоюдная двойственность — к этому выводу привел нас ход событий — устранена благодаря открытию, что человеческий ум, или светильник, освещающий вещи, того же свойства, того же рода, как освещаемые им объекты.
Кант завещал своим последователям чрезвычайно скромную мысль, что светильник познания человеческого рода слишком незначителен, чтобы осветить большое чудовище. Доказав, что светильничек не слишком мал, что наш свет не меньше и не больше, не менее и не более чудесен, чем объект, подлежащий освещению, мы покончим с верой в чудеса, в чудовище, с метафизикой. Таким образом, человек теряет свою чрезмерную скромность, и наш Гегель немало содействовал этому делу.
Основательное изучение этого вопроса требует исторического изложения всего хода дела, самого подробного и детального изображения. Но я думаю, что мы можем ограничиться несколькими замечаниями, потому что общий уровень образования настолько поднялся, что нашему уважаемому читателю нетрудно будет самому точнее иллюстрировать себе незаконченную картину.
Труды Дарвина и Гегеля, несмотря на все их различия, имели еще общую черту: борьбу против метафизики, против сверхчувственного и бессмысленного. Ставя своей задачей выяснить как то, что объединяет, так и то, что различает названных исследователей, мы не можем не подвергнуть серьезному рассмотрению великое чудовище. Однако наша затея сильно затрудняется массой многочисленных имен, которые в течение веков давались этому чудовищу.— Что такое метафизика? Она по своему названию была научной дисциплиной, бросающей свою тень до настоящего времени. Чего она ищет, чего она хочет? Конечно, просвещения! Но в отношении чего? — В отношении бога, свободы и бессмертия, — это звучит в наши дни совершенно по-пасторски. И если мы даже обозначим содержание этих трех понятий классическими названиями истины, добра и красоты, то все же будет чрезвычайно важно выяснить себе и читателю, чего, собственно, ищут и чего, собственно, хотят метафизики; без этого нельзя достаточно ни оценить, ни изобразить во всем их значении Дарвина и Гегеля, ни того, что они сделали, ни того, что они упустили сделать и что поэтому предстоит еще сделать потомству.
Одним метким именем вовсе нельзя охарактеризовать чудовище: у него слишком много имен. Его происхождение относится к детскому возрасту человеческого рода; сравнительное языковедение доказывает нам, что в эти первобытные времена вещи имели много имен, а имена обозначали много вещей, вследствие чего произошла большая путаница, которая в последнее время была исследована и признана источником мифологии.
Пусть читатель ознакомится с тем, например, что говорит по этому поводу Макс Мюллер в своей книге «Chips of a German workshop». Мы узнаем здесь, что басни и учения о богах у христиан и язычников не являются чем-то необъяснимым, а представляют естественное развитие сокровищ языка. Поэтическое дарование первобытных народов вылилось в их языке. Несмотря на то, что мы теперь стали очень трезвыми, мы все же говорим: «Он убил время». Подобные богатые смыслом и рассудком образы и служили предкам, особенно склонным к поэзии и выспренности, для украшения метафизического мира чудес. Имена являются и всегда были образами самых простых вещей. Тот, кто забывает это и приписывает словам нечто сверхъестественное, ударяется в метафизику; она родовое понятие всех сказок. Поэт — сознательный мифолог; мифология — бессознательная поэзия. Из этого вытекает следующее: когда мы говорим о мире чудес, то все зависит от того, какое сознание сопровождает эти слова. Удивительно возвышенно, божественно, неописуемо и непонятно ведь все, что существует, если мы этим словом хотим дать выход только нашим поэтическим чувствам. Но в обыденной речи никто не должен говорить, что все существующее есть чудовище и связано с неестественной истиной или с чем-то вроде того, что метафизический мечтатель называет богом, свободой и бессмертием.
Преодолеть не всякую вообще поэзию, а лишь бессознательную, преувеличенную фантастику — вот в чем состояла задача человеческого прогресса, и этому делу, частью добровольно, частью против своей воли, содействовали все люди науки.
5. Свет познания
Откуда взять свет? Моисей добыл его на горе Синае; но после того как его последователи более трех тысяч лет повторяли: «Не укради», они все же и до сих пор еще крадут, как вороны, т. е. откровение оказалось несостоятельным. Затем явились философы и хотели добыть этот свет спекулятивно из своей головы, как они выражались, a priori. Но то, что извлекал один, то другой отбрасывал. Естествознание вступило на третий путь — индуктивный; оно стало черпать мудрость из наблюдения; наконец, оно добилось подлинной, настоящей, положительной науки — науки, которую признает весь мир, против которой никто не спорит и спорить не может. Из этого с несомненной ясностью вытекает, что мы должны искать свет познания на этом испытанном, естественнонаучном пути.
Однако есть много людей — много их также и в «высших кругах», среди людей высокообразованных, — которые не удовлетворяются этим светом. Они говорят о «метафизической потребности», создают особую литературу и беспрестанно стараются показать, что естественнонаучное объяснение и познание, как бы плодотворно оно ни было в отдельных дисциплинах, в общем и целом недостаточно. «Сущность материи, — говорят они, — просто непостижима; всякое механическое объяснение природы распространяется только на воспринимаемые в этом загадочном субстрате изменения и оставляет нашу потребность в причинном объяснении в конечном счете неудовлетворенной».
«Метафизическую потребность, — говорит Юлиус Фрауэнштед, — Шопенгауэр сравнил с потребностью человека, который попал в совершенно ему не знакомое общество, и вот все по очереди знакомят его с остальными членами общества, которые все оказываются родными или друзьями. Но, что за чёрт, как же я узнаю это общество в целом? — Это и есть специфически философский вопрос. Где перестает действовать естественная наука, там начинается философия». «Хотя предмет обоих, — говорит Фрауэнштед, — один и тот же, весь мир, космос, — естественная наука рассматривает предмет со стороны закономерности его явления, а философия со стороны его внутренней сущности».— Но, должны мы сейчас же добавить, философское исследование не принесло никаких плодов, оно совершенно не раскрыло внутренней сущности природы.
Как известно, в природе имеются только явления или изменения; все течет, развивается и исчезает. Но философы хотят найти нечто субстанциальное, существенное, или дюринговские «непреходящие истины». Так как всего этого нельзя найти, то по большей части от дальнейшего искания отказываются и, по примеру Канта, переходят от философии к «критической философии», т. е. причину того, что не удается отыскать существенное, неизменяемое пугало, усматривают в ограниченности нашей познавательной способности, которая, не будучи способной к более высокому, возится с богатствами, пожираемыми ржавчиной и молью.
И вот мы и теперь, как и тысячу лет назад, висим между небом и землей. Многие, правда, выбрались из этой тины, но только практически. Так как религия и метафизика не могут дать ничего положительного, то материалисты старой школы отделывались от сверхъестественного отговорками и переходили к своим очередным делам в области естествознания. Штибелинг говорит: «Мост можно прокладывать лишь с одного берега — с того, где разбили свой лагерь естественные науки; это будет понтонный мост. Все новые факты, наблюдения и открытия продвигаются одни за другими в известном порядке, пока они не достигнут лежащего в туманной дали противоположного берега; только тогда, и не раньше, удастся достигнуть истинной системы».
Но вот являются очень компетентные исследователи и доказывают, с другой стороны, что эта система не только бесконечно далеко отодвигает разрешение проблемы, но что она совершенно безнадежна, так как все быки и сваи, которые должны соединить естественную науку с другим берегом, не достигают цели. «И если кому-либо, — говорит Шопенгауэр, — удастся обойти все планеты, все неподвижные звезды, то все же он не сделает ни шага по пути к метафизике». Не только умершие философы, но и современные естествоиспытатели утверждают это. Дюбуа-Реймон говорит о «границах познания природы» и «доказывает», что существуют естественные вещи, к которым мы с нашим познанием, пониманием, объяснением и пр. и подступиться не можем. В 271-й тетради «Sammlung gemeinverständlicher Vorträge» Вирхова и Гольцендорфа некто д-р Тепфер говорит: «Мы знаем, конечно, что с принятием теории атомов сущность материи еще не выяснена, но естествоиспытатель и не ставит себе задачи познания сущности материи: он придерживается того, что дано, и скромно признает, что человеческому уму поставлены пределы, коих он никогда не переступит».
Можно привести множество цитат из современной литературы, констатирующих абсолютную пропасть между общим познанием природы и метафизической потребностью, — это значит, что вопрос «откуда взять свет?» бесконечно запутан. Поистине классический образец этой запутанности представляет собой «История материализма» Ф. А. Ланге.
Хотя в книге попутно высказывается много умных и превосходных мыслей, хотя автор демократически связан с социалистической партией, — что мы отмечаем с большим удовольствием, — все же философская точка зрения Ланге — самое жалкое барахтанье в метафизическом капкане, какое только когда-либо существовало. Именно в этой постоянной нерешительности и неуверенности и заключается смысл книги, потому что, хотя в ней задача и не разрешается, но проблема поставлена так ясно, что окончательно ее разрешение оказывается неизбежно близким.
Затем являются противники, как д-р Гедеон Спикер («Об отношении естественной науки к философии»), и, указывая на это барахтанье, злоупотребляют своей справедливой критикой, чтобы вместе с Ланге дискредитировать также и материализм. Таким образом, не только вечная, метафизическая, но и реальная потребность современности вынуждает нас пойти дальше практических материалистов. Они незаконно обходят вопрос о сущности, о субстанции или о «границах познания» и продолжают строить естественнонаучные мосты, не видя или не желая видеть, что можно легко уплыть вместе с потоком и не добраться до другого берега, где находится метафизический призрак.
Материализм, удачно справляющийся с изучением и объяснением самых разнообразных научных областей, до сих пор не пытался объяснить область познания, и поэтому его благосклонный историк не мог одержать полной победы над руинами идеализма. Способность познавать или объяснять — это единственная сила в мире, которую все еще превозносят. Она действует в мире, но не должна быть ни мировой, ни физической, ни механической. Какой же? Метафизической. И все же никто не может объяснить, что это значит. Все определения, которые мы получаем, отрицательны. Метафизическое есть нефизическое, неосязаемое и непознаваемое. Чем же другим это может быть, как не чувством, которое милостиво позволило идеалистам возиться с ним, в то время как они не знают, где оно находится.
Человек хочет знать все, но все же есть нечто, чего нельзя ни знать, ни объяснить, ни понять. Тогда ученые смиряются и начинают указывать на ограниченность человеческих органов. Ланге говорит: «Существуют два вопроса, перед которыми дух должен остановиться. Мы не в состоянии понять атомов, и мы не можем объяснить из атомов и их движения даже самого незначительного явления сознания... Как ни вертеть понятие материи и ее сил, все же всегда приходится наталкиваться на что-то последнее, непонятное... Не без основания поэтому Дюбуа-Реймон заходит даже так далеко, что утверждает, будто все наше познание природы в действительности еще не есть познание, что оно дает только суррогат объяснения... Это тот пункт, мимо которого систематики и апостолы механического миросозерцания проходят с таким пренебрежением, — вопрос о границах познания природы»[8].
Эта точная ссылка, в сущности, была бы излишней, так как подобного рода высказывания общеизвестны. Так заявляет не только Ланге, но и Юрген-Бона Мейер и фон Зибель, так высказались бы Шеффле и Замтер, если бы им пришлось коснуться этой темы; так говорит весь авторитетный мир, поскольку он перерос капуцинов. Но социал-демократов Ланге как следует не знал, иначе ему было бы известно, что они в этом пункте дополнили механическое миросозерцание.
Я прошу читателей хоть немного задуматься над тем, к чему может привести взгляд, будто наше знание и познавательная способность, наш умственный аппарат, за последние столетия применявшийся наукой с таким успехом, — лишь «суррогат». Где же в таком случае настоящая истина? И если бы мы перерыли все фолианты философии, то мы также не нашли бы положительных указаний на это, потому что именно эти философы разрушили веру в личного властелина земли и неба. Нефилософский, религиозный мир в самом деле обладал на небе истинным источником разума, который вдохнул в прах земной свое дыхание, и верующие потому имели полное право различать святой дух от людского, истинную субстанцию от ее суррогата. Но совершенно непостижимо, как защищать это различие тем, благодаря чьим усилиям великий, всемогущий и бесконечный дух остался объектом веры лишь для толпы.
«Большой недостаток Гегеля по сравнению с Кантом, — говорит Ланге, — состоит в том, что он совершенно утратил мысль о более всеобщем источнике познания, чем человеческий». Итак, Ланге сожалеет о том, что Гегель не допускал сверхчеловеческого познания, а мы на это ответим: реакционный лозунг «назад к Канту!», который теперь раздается со всех сторон, исходит из чудовищной тенденции — повернуть назад науку и подчинить человеческое познание «более общему способу познания». В ней заметно опять желание отказаться от уже завоеванного господства человека над природой и достать для старого пугала из кладовой корону и скипетр, чтобы вновь воцарилось суеверие. Философское стремление нашего времени состоит в сознательной или бессознательной реакции против явно крепнущей свободы народа.
Достаточно самого общего анализа метафизической мысли о «границах познания», проходящей красной нитью по всей знаменитой книге Ланге и так часто повторяющейся современными учеными, чтобы немедленно признать ее бессмысленной фразой. «Нельзя понять атомов, нельзя объяснить сознания». Но ведь весь мир состоит из атомов и сознания, из материи и духа. Если и то и другое непонятно, то что же остается тогда рассудку понимать и объяснять? Ланге прав: собственно ничего. Ведь наше понимание, как сказано, вовсе не понимание, а только суррогат. Может быть, и те серые животные, которых обыкновенно называют ослами, лишь суррогаты ослов, а настоящих ослов нужно искать среди более высоко организованных существ. Я уже раньше охарактеризовал умозрительную философию как науку, которая в поисках истины лезет на стену. Если перестают доверять языку и обвинять его в том, что он дал неверные названия вещам, то это, разумеется, ясный признак того, что начался бред. Так во втором томе «Истории материализма» (стр. 99) мы читаем: «Следует ли нам определить понятие истины, добра, действительности и пр. так, чтобы называть этими именами лишь то, что истина, добро или действительность для человека, или же мы должны вообразить, что то, что человек признает таким, таково и для всех мыслящих существ в настоящем и будущем?»
На это мы отвечаем коротко и ясно: насколько верно, что истинная глупость есть то, что общепринято называть глупостью, настолько же странно воображать себе, что доброе, истинное, действительное или мыслящее существо где-нибудь могло быть создано иначе, чем в том виде, какому наш обычный язык дал имя доброго, истинного, действительного или мыслящего существа. И метафизическая вода должна быть непременно мокрой, ибо к тому, что не мокро, не подходит и наименование воды.
Мы, конечно, не знаем, сколько неизвестных сортов деревьев будет найдено в Центральной Африке, но одно мы знаем с кантовской аподиктической достоверностью, что доски, вырезанные из дерева, росло ли последнее на Марсе или на Юпитере, не выглядят и не могут быть такого же состава и вкуса, как говядина. Да простят мне эту грубую иллюстрацию, но когда метафизика начинает вносить путаницу в разговорную речь, то невольно становишься раздражительным.
Наш опыт, наши наблюдения или «явления» классифицируются мыслью и языком и получают наименования. Пока изменения несущественны, т. е. пока течение природы не выходит за пределы границ, как они установлены понятиями и языком, все остается по-старому. Но если бы случайно изменения или явления вышли за эти границы и истина, добро, мыслящее существо, доски, говядина или познание оказались бы существенно иными, то тут они превратились бы в другие вещи, и нам понадобились бы другие термины для их обозначения.
Свет познания делает человека господином природы. С его помощью человек может иметь летом лед, а зимой — плоды и цветы лета. Но всегда это господство остается ограниченным. Все, что человек может сделать, он может только с помощью естественных сил и материалов. Желание неограниченно господствовать над природой одними лишь словами «да будет» может прийти в голову только фантазеру. Как дети и дикие племена господствуют неограниченно, так и наши детски наивные ученые хотели бы неограниченно познавать. «Система удовлетворенности данным миром, — полагает Ланге, — находится в противоречии со стремлениями разума к единству, с искусством, поэзией и религией, в которых таится стремление выйти за пределы опыта». Искусство и поэзия, ведь, известны как фантазии, хотя и красивые и достойные поклонения; если религия и метафизическая потребность запротестуют и захотят принадлежать к той же категории, то ни один здравомыслящий человек не сможет ничего против этого возразить. Пусть у человека действительно есть метафизическая потребность превозмогать всякие границы, но все же он должен сознавать, что это не научная потребность. Свет разума безусловно имеет свои границы, как и все вещи, как дерево и солома, как техника и рассудок, т. е. разумные границы, присущие всему, что не есть безумие.
Как человек все может сделать, точно так же он может и все познавать, но в разумных границах. Мы не можем творить, подобно тому как всеблагой бог сотворил мир из ничего. Мы должны держаться данных, имеющихся налицо сил и материи и считаться с их свойствами, направлять их, руководить ими и придавать им известные формы — это мы называем творить; приводить имеющийся материал в порядок и систему, обобщать или классифицировать, абстрагировать математические формулы естественных изменений — это мы называем познавать, понимать, объяснять
Соответственно этому все наше умственное просвещение есть формальное дело, механический процесс. Как в техническом производстве явления природы предстают в телесном своем виде, так в науке изменения природы являются нам с своей духовной стороны. Как производство оставляет в конечном счете неудовлетворенной преувеличенную потребность в творчестве, так наука, или «познание природы», не удовлетворяет всецело нашей преувеличенной потребности в причинном объяснении. Но как благоразумный человек не будет жаловаться на то, что мы для творчества вечно нуждаемся в материале и из ничего, из благих желаний, ничего не можем сделать, так и тот, кто постиг природу знания, не захочет выйти за пределы опыта. Как для творчества, так и для познания или объяснения нам нужен материал. Поэтому никакое познание не может выяснить, откуда происходит материал и откуда он берет начало. Мир явлений, или материал, — это нечто первичное, субстанциальное, не имеющее ни начала, ни конца, ни происхождения. Материал имеется налицо, существование его материально (в более широком смысле этого слова), и человеческая способность познавать или сознавать — часть этой материальной наличности: она, как и всякие другие части, может выполнить только одну определенную, ограниченную функцию, а именно познание природы.
Если Шопенгауэр хотел, чтобы ему было «представлено» все общество, то он не подумал, что это представление только церемония и что для каждой церемонии представления необходимо должно быть непредставленное общество. Как «представление» возможно лишь в пределах человеческого мира, так «опознавание» — лишь в опытном мире. Метафизическая потребность желает извратить этот порядок, желает при помощи познания выйти за пределы познания, вылезть из своей кожи или собственноручно вытащить себя за волосы из болота, подобно Мюнхгаузену. Только тот, у кого еще звучат в ушах вечные религиозные флейты и виолончели, кто не находит удовлетворения в многообразии мира, может думать о таком отчаянном предприятии.
Ланге правильно замечает, что отношения между именем и вещью, определения, доставляют философам бесконечно много труда; но он не замечает, что сам все время барахтается в той же петле. Слова или имена неизменно обозначают целый ряд различий. Черные и белые, русские и турки, китайцы и лапландцы — все подходят под слово «человек». Но как только различие выходит за пределы данного рода, как только оно становится больше чем формальным различием, исчезает самое имя. Поэтому никакая вещь не может выйти за пределы своей общей природы, за пределы своего определения. Почему же с интеллектом дело должно обстоять иначе? Разве он, или познание, не относится к явлениям, к мировым вещам? Лишь там, где есть два мира, один чувственный, повседневный, и другой «высший», религиозный, или метафизический, можно говорить о более высокой природе или происхождении сознания. Но здесь нет также основания ограничить стремление к еще большей бессмыслице. Почему не обоготворять, подобно познаванию, и жесть, доски и говядину? Задача людей, радикально настроенных, состоит в том, чтобы доказать, что и последний, самый тонкий метафизический остаток «чего-то высшего» должен наряду с безвкусными предрассудками быть выброшенным в тот же мусорный ящик.
Формы, изменения или превращения — вот что дает мир. Кому этого мало, тот пусть ищет вечное над звездами — такова религия, или вечное за явлениями — такова философия. Но «критические» философы смутно догадывались, что домогаются бредовой идеи, которую просвещение должно удалить из человеческой головы. Они поэтому отказались от искания субстанции и обратились к органу исследования, способности познания. При этом нужна была немалая критическая работа. Если раньше под каждым кустом можно было найти «нечто более высокое», то теперь, по крайней мере в руководящих сферах, оно отодвинуто в таинственную даль, в область непонятных нам атомов и еще более таинственного сознания.
Там «границы нашего познания», там и лежит камень преткновения. Освободиться от него тем труднее, что со времени притязаний четвертого сословия наши официальные ученые принуждены проводить консервативную, реакционную политику. Теперь они упрямятся, хотят упрочить свое заблуждение и пятятся назад к Канту. Пусть с покойным Ланге это случилось во время одной невинной, но полной ошибок экскурсии; но многие его последователи — хитрые иезуиты, которые пользуются работой своего предшественника как хорошим средством против нового общества и принуждают нас довести критику разума до самых его корней.
Все, что мы воспринимаем, говорят неокантианцы, можно воспринимать только через очки сознания. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, должно к нам прийти через посредство ощущения, следовательно, через душу. Поэтому мы не можем воспринимать вещи в их чистом, истинном виде, а только так, как они являются нашей субъективности. По Ланге «ощущения — это материал, из которого создается реальный внешний мир». «Основной вопрос, о котором идет речь (т. II, стр. 98), можно определить совершенно точно. Это своего рода яблоко грехопадения по Канту: отношение между субъектом и объектом в познании».
Так подсовывают собственную вину послекантовской философии. Вот что говорит Ланге: «По Канту, наше познание вытекает из взаимодействия обоих (субъекта и объекта) — бесконечно простое и все же часто игнорируемое положение. Из этого взгляда вытекает, — продолжает Ланге, — что наш мир явлений не только продукт нашего представления, но результат объективных воздействий и субъективного их оформления. Не то, что отдельное лицо так или иначе познает благодаря случайному настроению или «несовершенной организации, а то, что человечество в целом должно познавать благодаря своей чувственности и рассудку, — было названо Кантом в известном смысле объективным. Он называл такое знание объективным, поскольку мы говорим только о нашем опыте; напротив, он называл его трансцендентным или, иными словами, ложным, если мы распространим такое знание на вещи в себе, т. е. абсолютные, независимо от нашего познания существующие вещи».
Вот вам старое блюдо, бесконечное число раз подогретое. С ним можно было бы еще мириться, если бы оно нам преподносилось именно как подогретое, а не как свежее. Если бы я не знал, что за верой в трансцендентные объекты скрывается основа всех суеверий, то я не стал бы долго мудрствовать над разницей между простой объективностью, какую «человечество посредством своей чувственности и рассудка должно познавать», и высшей объективностью «вещей в себе», но оставил бы в стороне «существующие независимо от нашего познания вещи», пока они не сумеют быть замеченными моим познанием. Но теперь, когда я знаю, что между строк вышенаписанных слов скрывается стремление выйти за пределы общих объектов и перейти к вере в трансцендентные объекты, я чувствую очень ясно, что «это подогретое блюдо» испорчено старым противопоставлением святой и светской истины. За явлениями мира будто скрывается нечто более высокое и таинственное, недоступное нашему разуму, которое слишком высоко для нашего интеллекта и нами не может быть познано «формально», а потому мы должны его постигнуть если не при помощи религиозной веры, то, по крайней мере, трансцендентально-философски.
Да, материалисты до сих пор не потрудились учесть субъективный элемент нашего познания и принимали без критики чувственные объекты за чистую монету. Эта ошибка должна быть исправлена.
Примем мир за то, что он есть, по Канту: за смесь субъекта и объекта, но будем стоять на том, что весь мир — одна смесь, одно единство; признаем также, что это единство диалектично, т. е. составляется из своей противоположности, да смешения или множественности. И вот во множественности мира есть вещи, как доски, камни, деревья и кучи глины, которые называют безусловно объектами.— Я говорю: «их называют», но еще не говорю, что они объекты.— Есть также вещи, как цвета, запахи, теплота, свет и пр., объективность которых уже более сомнительна; затем идут вещи, которые отодвинуты еще дальше, как физическая боль, жажда любви и весенние чувства, — они безусловно субъективны. Наконец, есть еще объекты, которые являются более субъективными и самыми субъективными, в сравнительной и превосходной степени, как случайные настроения, сны, галлюцинации и т. п. Здесь мы подходим к самой сущности вопроса.
Материализм одержал победу, раз должно быть признано, что сновидение — действительный, несомненный, хотя и считающийся субъективным, процесс. Мы готовы в таком случае присоединиться к «критическим» философам, утверждающим, что доски и камни, все те вещи, которые называют несомненными объектами, также воспринимаются нашими органами зрения и осязания, следовательно, они не чистые объекты, а субъективные явления. Мы охотно признаем, что уже мысль о чистом объекте, или «вещи в себе», — несуразная мысль, которая, так сказать, скосила глаза в другой мир.
Различие между субъектом и объектом относительное. Оба они одного рода. Это две формы одного существа, два индивида одного рода: субъект всех предикатов называется естественным явлением, действительностью, эмпирией или существованием. Кто может отрицать, что случайное настроение имеет такое же реальное существование, как Монблан, т. е. качество существования обоих одно и то же, хотя бытие Монблана более общедоступно, чем настроение, «существующее» только для индивидуального сознания. Достаточно того, что оно существует и относится со всем своим существованием все к той же рубрике. Кто еще требует более подробного доказательства объективного существования своей субъективности, пусть обратится к Картезию, который, как известно, признавал за cogito, за сознанием, самое несомненное существование. Идеализм, вся новейшая философия, которая делает субъект познания предметом своего специального исследования, живет в полной уверенности, что интеллект, или сознательное, мыслящее бытие, — самое очевидное из всего очевидного. «Самочувствие и самосознание, самые трудные для физиолога понятия, являются для каждого отдельного лица, чисто фактически, самыми достоверными и прочными благодаря внутреннему опыту», — говорит Лацарус в «Жизни души». Внутренний ли или внешний опыт — с нас достаточно, что дух есть объект опыта.
«Стремление к единству, свойственное нашему разуму», требует от теологов и философов, чтобы они признавали «нечто более высокое», или непонятное. От нас они требуют, чтобы мы мыслили небо и землю, тело и душу, атомы и сознание как разносторонние проявления одной сущности, как многообразные формы одного рода, как многообразные предикаты одного субъекта.
Темная непостижимость или непостижимая темнота философии полностью проясняется в грамматическом отношении между субъектом и предикатом. Исследователи языка уже давно подчеркнули единство духа и языка. Из каждого предиката язык может сделать субъект, и наоборот. Цвет связан с листом, т. е. он его предикат, лист связан с деревом, дерево с землей, земля с солнцем, солнце с вселенной, и, наконец, вселенная есть последняя сущность, или субъект, единственный род, или субстанция, которая связана лишь с собой, не является уже предикатом и не имеет ничего выше над собой. То же, что в грамматике обозначается терминами субъект и предикат, в другой науке называют материей и формой. Камень есть материя, базальт, булыжник или мрамор — формы. Но и каменная материя в свою очередь — форма неорганического мира, а последний — форма существования. Мир — это сущность, материя, или «вещь в себе», все, что не форма; по отношению к ней все, не исключая и мышления, или познания, есть предикат, есть явление или нечто субъективное. Следовательно, понятия субъекта и предиката, материи и формы, сущности и явления находятся в непрерывной смене от высшего до низшего понятия. То, что мы воспринимаем способностью понимания, мы воспринимаем как часть целого и как целую часть. Уразумение этой диалектики освещает и вполне разъясняет мистическое стремление искать истину за видимостью, т. е. за каждым предикатом искать субъект. Только при неумении диалектически оперировать понятиями это стремление может принять настолько ложное направление, что будет искать субъекта и вне предиката, истины вне явлений. Критическая теория познания должна познавать сами органы опыта как нечто опытное, а вследствие этого полеты за пределы всякого опыта снимаются с обсуждения.
Если современные философы во главе с историком материализма, подойдя к самой сущности вопроса, заявляют, что мир — это явления, т. е. объекты познания природы, что это познание имеет дело с изменениями, но что мы ищем еще высшего познания или вечных, существенных объектов, то становится ясно, что это мистически пресыщенные люди, которые не довольствуются изучением всех песчинок кучи песка, а за всеми песчинками ищут еще какую-то не имеющую песчинок кучу песка.
Кто совершенно порвал с нашей юдолью плача — миром явлений, пусть усаживается вместе со своей бессмертной душой в огненную колесницу и отправляется на небо. Кто же хочет остаться здесь и верить в спасительность научного познания природы, тот должен довериться материалистической логике. А ее § 1 гласит: интеллектуальное царство — только от мира сего, § 2: деятельность, которую мы называем познанием, пониманием, объяснением, должна и может заключаться лишь в классификации по родам и видам чувственного мира, проникнутого единством наличного бытия: она должна и не может заниматься не чем иным, как формальным познанием природы. Другого познания не существует.
Но вот является метафизическое стремление, которое не довольствуется «формальным познанием» и хочет — само не зная как — познавать. Ему кажется недостаточным точно классифицировать при помощи ума данные опыта. То, что естествознание называет наукой, для него лишь суррогат, жалкое, ограниченное знание; он требует неограниченного одухотворения, так, чтобы вещи совершенно растворились в понятии. Но почему же это милое стремление не хочет понять, что оно только ставит чрезмерные требования? Мир не происходит из духа, а наоборот. Бытие не есть вид интеллекта, а наоборот, интеллект — вид эмпирического существования. Бытие есть абсолютное, что вездесуще и вечно; мышление — это только особая ограниченная форма его.
Если философ искажает этот факт, тогда неудивительно, что мир для него загадка. Раз он до такой степени извратил отношение между мышлением и бытием, что оно противоречит действительности, он невольно будет ломать себе голову над «противоречием в мышлении». Кто, напротив, считает рассудок одной из естественных вещей, явлением в числе прочих явлений, тот не захочет наряду с «формальной» наукой заниматься еще какой-то высшей глупостью; сущностью вещей он сделает не познание, а жизнь, эмпирическую материальную жизнь. Наука или познание не должны заменять жизни, жизнь не может исчерпываться наукой, потому что она есть нечто большее. Поэтому познанием или объяснением нельзя овладеть никакой вещью. Никакая вещь не может быть вполне познана, — вишня так же мало, как наше ощущение. Если я изучил и понял вишню по всем требованиям науки — ботанически, химически, физиологически и т. д., то все же я действительно ее узнал лишь после того, как одновременно воспринял: увидел, осязал и проглотил ее.— Пусть читатель имеет в виду, что разница между познанием и истинным познанием в наших устах имеет совсем другой смысл, чем у метафизиков. Мы можем отличать оторванное от жизни познание, как это практикуется на школьной скамье, от жизненного познания, которое развивается и тесно связано с материалом опыта. Наука имеет своей предпосылкой жизнь и своим условием — опыт. Это разум.— И кто его ищет другим путем, кто хочет познавать без предпосылок, может с таким же успехом искать четырехугольные круги, железные деревья и тому подобную бессмыслицу. Там, где выходят за естественные границы вещи, — а познание в этом случае не является исключением, — приходится выходить и за границы языка и всякого здравого смысла, там черное становится белым и разум — безумием.
Господствующей в настоящее время скудной философской критикой человеческий рассудок изображается, как жалкий бедняк, способный объяснить только поверхностные явления вещей, истинное же объяснение для него якобы закрыто, сущность вещей для него непостижима. И вот является вопрос: имеет ли каждая вещь свою особую сущность, что этих сущностей бесконечное множество или весь мир только одно целое? Тут легко видеть, что наша голова обладает способностью все приводить в связь, суммировать все части и делить все суммы. Все явления интеллект делает сущностями, а сущности познает как явления единой великой сущности — природы. Различие между явлениями и сущностью совсем не противоречие, а логическая операция, диалектическая формальность. Сущность вселенной есть явление, а ее явления выражают сущность.
Поэтому да здравствует это стремление, эта метафизическая потребность за всякой видимостью искать сущность, но при том условии, если она признает «формальное познание природы» единственно разумной практикой науки. Стремление выйти за пределы явлений к истине и сущности есть божественное, небесное, т. е. научное стремление. Но оно не должно хватать через край; оно должно знать свои границы. Оно должно искать божественное и небесное в земном и преходящем и не отделять своих истин и сущностей от явлений; оно должно только искать субъективных объектов и относительной истины.
С последним согласятся, пожалуй, и старые последователи Канта и неокантианцы, мы не можем только согласиться с их мрачным смирением, с тем взглядом, который они украдкой бросают на высший мир и которым они сопровождают свое учение. Мы не согласны с тем, что «границы познания» перестанут быть все-таки границами, причем везде имеется налицо вера в безграничный разум. Их разум говорит: «Где имеются явления, там должно быть также нечто трансцендентное, что является». А наша критика говорит: «То, что́ является, и есть само явление: субъект и предикат однородны».
Светом познания человек освещает все вещи мира. Чтобы его правильно применить и не злоупотреблять им, следует признать, что свет познания есть такая же вещь, как и другие вещи. Дарвиновская теория происхождения видов, согласно которой один вид происходит из другого, и здесь находит применение. Монистическое миросозерцание естествоиспытателей — естествоиспытателей в более узком смысле слова — недостаточно. С какой бы очевидностью ни доказывал Геккель «парагенезис пластидул» и происхождение организмов из неорганического мира, все же остается еще метафизическая лазейка — великая противоположность между духом и природой. Монистическим наш взгляд может стать лишь благодаря материалистической теории познания. Как только мы поймем в общем отношение между субъектом и предикатом, нельзя будет более отрицать, что наш интеллект — это вид или форма эмпирической действительности. Материализм, правда, уже давно установил это кардинальное положение, но оно осталось голым утверждением, скорее предвосхищением. Для доказательства необходим общий взгляд, что наука вообще не хочет и не может хотеть ничего иного, кроме классификации чувственных наблюдений по родам и по видам. Расчленение, или расчлененное единство, — это все, что она может и чего она желает.
Если относительно других объектов доказывают, что они относятся к разряду естественных вещей, то этим еще слишком мало о них сказано: желательны более специальные данные, например, является ли объект органическим или неорганическим, материей или силой, растением или животным и т. д. Что он естественный — само собой разумеется. Но относительно духа, который обоготворялся столько тысячелетий, трансцендентность которого с таким трудом отстаивают, уже много сказано, если установлено, что он только род, форма или предикат природы и что он им должен быть, так как единство названия и смысла допускает существование только одной природы. Как всякая вода необходимо мокра, с такой же необходимостью всякая вещь, имеющая природу, — а какая же вещь мыслима без природы? — имеет одну, именно естественную природу. Слово и его смысл не допускают ничего другого.
Дикари обоготворяют солнце, луну и другие вещи. Цивилизованные люди сделали дух богом, а способность мышления своим фетишем. В новом обществе этого не должно быть. Там люди живут в диалектическом общении, как множество в единстве; и свету познания также суждено будет стать орудием среди других орудий. Но вместе с тем этот свет имеет право действительно быть тем, что он есть. Человеческое познание не имеет никаких оснований для рабской покорности, как того требовали в Мюнхене профессора Негели и Вирхов. Они коварно говорили о границах познания, потому что в метафизической тьме перед ними носился блуждающий огонек какого-то «высшего» безграничного познания.
Аквизит философии
Предисловие
Как отец о ребенке, так автор заботится о своем произведении. Быть может, мне удастся придать содержанию этой книжки некоторый вес и дать в этом смысле нечто поясняющее, рассказав, каким образом я пришел к ней.
Хоть мать и родила меня в 1828 г., но впервые в сознательную жизнь я вступил лишь два десятилетия спустя, в так называемый «безумный» 1848 год. Я тогда изучал ремесло отца в отцовской мастерской, когда из «Kolnische Zeitung» узнал, как берлинский народ потеснил прусского короля и завоевал «свободу». Эта свобода прежде всего явилась для меня предметом раздумья. В среде тогдашних партий «крикунов» и «разрушителей» об этом было всюду много разговора и болтовни. Однако, чем более я об этом слышал и не мог не воодушевляться, тем расплывчатее, тяжелее и туманнее становилось само понятие свободы, которое, «как мельничное колесо», вращалось в моей голове. Психологи давно заметили, как глубоко различны воодушевление какой-либо вещью и ее понимание. С какой напыщенностью распевают католические крестьяне, не понимая латыни, свои вечерние молитвы.
Что такое политическая свобода? Где ее начало и где конец? Где и как приходим мы в этом вопросе к положительному, несомненному знанию? В средних партиях, у «конституционалистов», как и у буржуазных «демократов», спорам и распрям не было конца. Здесь ничего хорошего нельзя было ожидать. Здесь, как в протестантизме, любой субъект являлся непогрешимым истолкователем слова божия.
Однако что и свобода должна иметь свою субстанциальную основу, — это я почувствовал из газет двух противоположных крайних партий: из «Новой прусской» — «за бога, короля и родину» и «Новой рейнской» — «органа демократии».
В последующие годы реакции я в деревенской жизни нашел досуг, чтобы изучить веяния эпохи. С одной стороны, Герлах, Шталь и Лео, с другой стороны — Маркс и Энгельс помогли мне в этом.
Как далеко ни расходились выводы коммунистов и людей из лагеря «Kreizzeitung»[9] я, однако, чувствовал и читал между строк, что обе крайние партии для своих требований обладали одной фундаментальной предпосылкой, из которой они исходили. Обе они имели одно начало и один конец: они знали, чего хотели, и это заставляло предполагать существование у них общей философии. Прусские юнкера основывали свой ополченский крест, которым они, как девизом, украшали свои шляпы, на исторически приобретенном материальном королевском военном могуществе и на положительном библейски-божественном откровении, отпечатанном черными буквами и поддерживаемом облаченной в черную форму жандармерией. И таким же неоспоримым, несомненным, материальным был и исходный пункт у коммунизма: растущее превосходство народной массы с присущим ей противоположным, пролетарским, интересом, основанное на исторически приобретенной производительной силе труда.— Дух обоих военных лагерей опирайся на аквизит философии[10] и прежде всего на гегелевскую школу. Оба они были вооружены философским достоянием столетия, которое они восприняли не просто механически, но снабжали, как живое существо, свежей пищей.
В то время, в начале пятидесятых годов, появилась брошюрка названного «крестоносца» Шталя «Против Бунзена». Этот Бунзен был в то же время прусским посланником в Лондоне, задушевным другом царствовавшего тогда прусского короля Фридриха-Вильгельма IV и, помимо своей известности в другой области, либеральничал и интересовался политической и религиозной терпимостью.
Против такого влияния была направлена упомянутая брошюра «крестоносца» Шталя, и она превосходно показала, что терпимость может проповедывать лишь расплывчатый вольнодумец, для которого религия, как и отечество, стали индиферентными, безразличными вопросами. Религиозная вера, поскольку она является истиной и обладает истинной силой, должна двигать горами. Такая вера ни в коем случае не должна быть терпимой и равнодушной, но свою пропаганду должна вести огнем и мечом.
И как Шталь говорил в пользу заинтересованной религии юнкеров, так говорил в пользу неверующих революционеров философ Фейербах. Итак, оба они являлись двойниками или, вернее, тройниками с авторами «Коммунистического манифеста» в том смысле, что для всех них одинаково свобода представляла собой не туманную фантасмагорию, а сущность, облеченную плотью и кровью.
Когда я пережил это, мне стало яснее, что взятое из философии понятие, в данном случае понятие свободы, представляется следующим образом: свобода сама по себе еще есть абстрактная идея. Чтобы воплотить ее в действительность, она должна принять конкретную, специальную форму.
Политическая свобода в ее воздушной всеобщности есть нелепость. За ее фантастическим идеалом «конституционалисты» или «либералы» скрывают свободу денежного мешка. Они правы в своем стремлении к немецкому единству с прусской гегемонией или к республике с великим герцогом во главе. Вправе и юнкера желать прусской юнкерской свободы, и еще более правы коммунисты: они стремятся к пролетарской свободе, связанной с стремлением обеспечить народным массам еду и питье, к свободе, доставляющей полный простор материальным производительным силам.
Из этого переживания и этого вывода уясняется, как истинная свобода и лучшее право составляются из единичных свобод и прав, друг другу противоречащих и в то же время вполне мыслимых. Отсюда затем легко вытекает излагаемое в нижеследующем сочинении учение о мышлении, что для головы нет необходимости совершать экскурсии в трансцендентное, чтобы ориентироваться в полном противоречий реальном мире.
Таким образом, я перешел от политики к философии, от философии– к теории познания, как я представил ее перед публикой в появившемся уже в 1869 г. и теперь давно разошедшемся сочинении «Сущность головной работы человека». Дальнейшее изучение общей познавательной способности заставило меня детальнее заняться теоретико-познавательными вопросами, так что теперь, вместо повторения моего прежнего сочинения, я перелил старое вино в новые мехи.
Наука, которую я излагаю ниже, очень ограничена по своему объему, но тем глубже она обоснована и достаточно важна в своих выводах. Тем самым, думается мне, оправдывается частое высказывание одного и того же положения в измененной форме. То, что я ограничился небольшой областью, не нуждается ни в каких оговорках. Что не затронуто одним, то служит задачей для других.
Остается еще спорный вопрос, много ли из этого «аквизита философии» принадлежит самому автору и что следует отнести на долю его предшественников. Но это — безнадежное дело и было бы нелепой работой. Безразлично, кто вытащил теленка из колодца, лишь бы он был спасен. Во всяком случае в этом писании идет речь о связи и взаимодействии вещей, что имеет исключительное значение в смысле выяснения вопроса о «моем» и «твоем».
Чикаго, 30 марта 1887 г. И. Дицген.
1. Познание как специальный объект
То, что мы называем теперь наукой, у наших предков носило название, звучавшее тогда в высшей степени почтенно и даже возвышенно, но получившее позднее жалкий, несколько простоватый привкус, — название мудрости. Это постепенное превращение мудрости в науку и есть философский аквизит, заслуживающий нашего серьезного внимания.
Понятие «предков» — очень неопределенное понятие. Сюда относятся люди, жившие более трех тысяч лет назад, равно как и те люди, которые покоятся в могиле не более одного столетия. Да, сто лет назад мудрый человек еще пользовался уважением, теперь же к этому названию всегда примешивается немного насмешки и иронии.
Мудрость предков настолько стара, что даже совсем не имеет исторической даты. Начало мудрости, как и происхождение языка, теряется в той поре, когда человечество только еще стало выходить из своего животного состояния. Но если мы назовем мудрого праотца философом, что ведь лингвистически совершенно правильно, то сразу же становится ясно, что мудрость ведет свое начало от древних греков. Этот удивительно культурный народ дал первых философов.
К кому приложимо теперь это название: к тому ли, кто любит мудрость, или же к тому, кто любит науку, — это различие в настоящее время не имеет существенного значения, а в то время и подавно.
Вспомним, что древние греки совершенно не различали, был ли философ математиком или астрономом, брал ли он предметом своих исследований медицину, ораторское искусство или искусство жить. Тогда не проводилось различия между отдельными специальностями, они еще не успели обособиться и развернуться; скорее они были тогда в зачаточном виде, подобно эмбриону в утробе матери. В то время, когда люди знали еще немного, можно было легко стать мудрецом. Но теперь, когда сфера исследования слишком расширилась, необходимо специализироваться, необходимо серьезно заняться какой-либо специальной наукой. Философ теперь уже не мудрец, а специалист.
Звезды являются предметом астрономии, животные относятся к зоологии, растения — к ботанике. Что же тогда составляет предмет философии? Если имеешь дело с специалистом, достаточно ответить на этот вопрос одним словом. Но если мы хотим дать определение философии человеку с общим образованием, то это будет довольно-таки затруднительно.
Что, например, я знаю о сапожном ремесле, если я знаю только то, что сапожник изготовляет обувь? Я знаю об этом только нечто общее, но не частное, специальное. В немногих словах никому, даже образованному человеку, нельзя объяснить, что такое сапожное ремесло. Так же мало можно выяснить предмет философии, пользуясь таким методом. Правда, можно назвать предмет философии одним словом, но, одним словом нельзя выяснить его, сделать понятным и ясным, нельзя его усвоить.
«Познание» — вот о чем здесь идет речь. Познание и есть предмет философии.
Мы должны сейчас же обратить внимание читателя на двойственное значение, которое скрывается в этом ответе. Познание, уразумение есть предмет всякой науки. Ничего специального тут нет. Всякое исследование стремится прояснить предмет. И тем не менее философия хочет быть наукой и не желает снова возвращаться ко временам древности и быть всеобщей мудростью. Что предметом философии является познание, такой ответ дали бы нам и Фалес, и Пифагор, и Платон. Неужели же эта высокомерная наука ничего не приобрела за все это время? Что же составляет ее аквизит?– вот в чем вопрос.
И теперь философия имеет своим предметом познание, но уже не то неопределенное познание, которое стремится познать все. Она — как бы это сказать попроще — поставила себе целью изучить познание как таковое, т. е. исследовать метод познания. Она стремится познать, каким именно образом достигается то, что все другие объекты освещаются светом разума. Говоря еще яснее, предметом философского исследования является теперь уже не то познание, которое стремится знать все, как это было во времена Сократа, — предметом исследования сделался теперь рассудок как специальный объект, познавательная или мыслительная способность.
Если бы при этом все дело заключалось только в том, что мудрые мира сего нашли, наконец, объект и не сделали ничего более, то это действительно было бы более чем скудным аквизитом философии. Нет. Результат получился более значительный. Современная теория познания есть подлинная наука, вполне заслуживающая широкого распространения. Наши предки, например, подобно Сократу и Платону, искали знание в недрах человеческой головы, пренебрежительно относясь к внешнему опыту. Они надеялись отыскать истину путем мудрствования. «Слава Сократу, слава Платону, но еще большая слава истине!»
Уже Аристотель лучше понимал значение внешнего мира. С падением древней культуры пала, конечно, и древняя философия. И только в начале нового периода в истории, несколько столетий назад, она, наконец, вновь воскресла.
Не так давно Шекспир заставил много говорить о себе. Утверждали, что не он, а его современник Бэкон Веруламский, английский лорд-канцлер, был автором знаменитых драм и трагедий. Пусть слава Шекспира останется за ним! Имя Бэкона достаточно велико и так. Оно открывает собой, как общепризнано, новую эру в истории новой философии.
Можно сказать, что от Аристотеля до Бэкона философская мысль спала. Во всяком случае, у нее не было никаких заметных достижений, и нельзя отрицать того, что она, начиная с древнегреческого периода вплоть до наших дней, в общем вращалась в таком мистическом тумане, что потеряла всякий кредит в глазах многих образованных и честно мыслящих людей. Но в этом виноваты не столько философы, сколько таинственность самого объекта философии. И только тогда, когда вся культура настолько подвинула вперед человеческое знание, что лучи разума начинают уже светить из всех научных дисциплин, только тогда философ начинает осознавать свой специальный объект, извлекая его из груды прошлого.
Если сопоставить древнегреческую мудрость с современной наукой, то достижения последней по сравнению с первой почти аннулируют результаты философии. Тем не менее, как бы ни была значительна ценность всех научных выводов, она все-таки составлена из отдельных ценностей, и всякая, даже самая ничтожная ее частица достойна серьезного внимания. Это приложимо также и к методу, к пути, к форме, с помощью которых творчество нашего духа достигает прочных практических результатов. На пути своего развития от состояния невежества до своей современной высоты наш дух не только собрал множество отдельных знаний, но улучшил также и свой метод, так что научный прогресс развивается теперь более усиленным темпом. Кто станет отрицать, что материальный процесс по своим методам, при помощи которых он доставляет продукты, является весьма важным завоеванием, равноценным всем накопившимся благам национального богатства? В таком же точно отношении находятся достижения философии к приобретениям науки.
2. Познавательная способность находится в родственной связи со вселенной
Путь, ведущий к истине, или истинный путь, — это не мудрствование, но сознательная связь наших мыслей с реальной, чувственной, материальной жизнью. Такова квинт-эссенция созревшего в процессе развития философского учения. Но этим еще далеко не исчерпывается суть дела. Если, как сказано выше, я знаю о сапожнике только то, что он изготовляет обувь, то я знаю еще далеко не все, что он делает, ибо существенное значение имеет в данном случае и детальное знакомство со способом производства сапожника. Точно так же и для понимания положения о взаимной зависимости духа и материи, являющегося продуктом всей культуры, для понимания этого положения в качестве философского или теоретико-познавательного вывода необходимо обосновать его более подробно и детально. Если же этот вывод представить в голом виде, без всяких пояснений, то он действительно будет похож на яйцо Колумба; неизвестно, почему же люди так много говорят о нем? Но стоит только обратить внимание на те специальные манипуляции, с помощью которых изготовляется обувь в том виде, как она есть, тотчас же пробуждается не только уважение к философским знаменитостям, но открывается также в их работах богатый источник обширных специальных знаний.
Все научные дисциплины имеют тесную, внутреннюю связь между собой. Успехи в одной дисциплине подготовляют успешное продвижение в другой области науки. Астрономия немыслима без математики и оптики. Каждая область науки вначале была ненаучной, и только с течением времени, по мере накопления специальных знаний, она приходила к более или менее точной систематической обработке своих знаний. Еще ни одна научная специальность не достигла законченности и совершенства. Это скорее все попытки, чем законченные выводы. С философией дело обстоит нисколько не лучше. Напротив, мы думаем, что нам действительно удалось бы кое-что сделать для уничтожения вкоренившегося предрассудка, если бы мы смогли доказать, что с философией дело обстоит теперь не хуже, чем с другими специальностями, доказать, что и она имеет свои достижения и какие именно.
Философским достижением является то, что современный человеческий мир имеет ясное и недвусмысленное представление о том, насколько необходимым является для успеха «разделение труда». Современные философы уже не исследуют истину, добро и красоту как попало, как это делали прежние философы. Еще и теперь истина, добро и красота являются целью всякой науки. Но что наука отыскивает их путем специальных исследований, это уже есть приобретение культуры, а ясное, отчетливое сознание о таком положении дела есть философское сознание.
Теория познания привела к пониманию того, что, если желаешь чего-либо достигнуть, необходимо поставить себе границы. Это — общее требование при применении здравого человеческого рассудка, которое не всегда было известно первобытному мечтателю. Не с закрытыми глазами и не тупым, но вечно живым взором ты должен следить за своим процессом мышления. Это учение принадлежит науке о мышлении. Мы не хотим оспаривать того, что люди всегда мыслили сенсуалистически. Мы хотим только сказать, что они поступали так не принципиально; они игнорировали соответствующий принцип, — в противном случае старые жалобы на ненадежность чувственного познания и порицание обманчивости чувств не имели бы за собой столько веков давности. Не было бы, далее, такого чрезмерного преклонения пред нашим внутренним духом, не было бы такого прославления абстрактной мысли, как будто бы только она одна была продуктом высшего мира, высшего происхождения. Я не хочу оспаривать у нашей способности абстрагирования подобающей ей славы. Я утверждаю только то, что глина, из которой был сотворен Адам, была и является не менее божественной, чем духовное дуновение, вдунувшее в нее жизнь. Я этим не хочу также сказать, что только одна философия научила человечество тому, что оно должно стремиться не к «познанию» беспочвенной всеобщности, но итти по пути разделения труда и обратиться к сенсуалистическому изучению специальных знаний. Эта техника познания как философский аквизит явилась результатом развития всей культуры. Развитие культуры во всем ее объеме поставило философов на ноги.
Конечно, философия до сих пор была скорее стремлением и любовью к науке, чем мировой мудростью. С этой мудростью еще и теперь не так-то далеко ушли вперед. Живым примером тому служит широко распространенная путаница во взглядах образованных и необразованных людей на все вопросы, касающиеся жизненной мудрости. Может быть, Сократ на площади в Афинах и Платон в своих диалогах лучше высказывались по поводу вопросов, что такое добродетель, что такое справедливость, что нравственно и что разумно, чем современные профессора философии. После того как Кант так удачно установил, что из согласного мнения специалистов можно ясно понять, что является наукой и что простым пустословием, стало очевидным, что жизненная мудрость есть вещь очень туманная и ждет еще своего научного преобразования.
Мы объявили познание, как таковое, специальным объектом философии и теперь желали бы только показать, к чему привели современные результаты философского исследования.
Прежде всего для освещения предмета философии весьма важно дать себе ясный отчет в различных названиях этого предмета. Познание, или познавательная способность, называется также интеллектом, рассудком, разумом, духом, способностью к образованию понятий, представлений, суждений и заключений. Неоднократно пытались проанализировать или расчленить познание и подвергнуть особому рассмотрению его составные части с помощью вышеуказанных наименований. Логика дает теперь специальные разъяснения того, что такое представление, понятие, суждение и заключение. Даже и эти последние она расчленила еще дальше, каждое на несколько новых подразделений, так что любой опытный логик мог бы всегда упрекнуть меня в том, что мое указание различных наименований интеллекта ненаучно, что эти названия имеют обращение только среди простонародья, где они употребляются как синонимы, с научной же точки зрения они давно уже, и притом систематически, служат для обозначения отдельных, специальных функций интеллекта.
Против такого утверждения следует возразить, что Аристотель и следовавшие за ним представители формальной логики сделали в этой области очень остроумные наблюдения и удачные сопоставления, оказавшиеся все-таки преждевременными и недостаточными, поскольку те наблюдения, на которые опирались старые исследователи в области духа, были слишком скудны. Скудность наблюдений, сделанных над интеллектом и с помощью интеллекта, слишком долго держала человечество в атмосфере туманных, мистических предрассудков, чтобы прогрессивно настроенные умы могли глубже вникнуть в эту темную область. История философии — это сплошная, горькая, хотя и не бесплодная борьба над решением вопроса о том, что собой представляет познание, как оно происходит, из каких частей состоит и какова его природа, или, что то же, природа интеллекта, разума, рассудка и т. д. Пока не будет решена эта проблема, вопрошающий вправе не обращать внимания на отдельные подразделения и детальные расчленения интеллектуального объекта, а рассматривать отдельные части и названия как нечто равнозначное.
Важнейшим достижением при решении этой проблемы является приобретающее в наше время все большую ясность и точность выяснение того, что природа человеческого интеллекта одного происхождения, одного рода и одного вида со всей природой. Чтобы теория познания могла уяснить себе эту точку зрения, она должна более или менее отрешиться от характера специальной науки и заняться изучением всей природы в ее целом, т. е. стать космогонией.
Важнейшим завоеванием философии является тот факт, что мы определенно и во всех подробностях знаем теперь, что человеческий дух есть определенная, ограниченная часть неограниченного космоса, природы, или вселенной.
Как кусок дуба обладает двояким свойством, а именно, помимо своей специальной природы дуба, связан не только с общей природой дерева, но также и участвует в бесконечной универсальности всей природы, так и интеллект является ограниченной частностью, которая, будучи частью вселенной, обладает свойством быть универсальной и в то же время сознавать свою собственную и всякую другую универсальность. В человеческом, равно как и в животном, интеллекте скрывается бесконечная, общая природа космоса, подобно тому как она скрывается в дубе, во всех других деревьях, во всякой материи и во всякой силе. Мировая, монистическая природа, являясь в одно и то же время временной и вечной, ограниченной и неограниченной, частной и общей, существует во всем, и все существует в ней. Познание, или познавательная способность, не составляет здесь исключения.
Эта двойственная природа вселенной, конечной и в то же время бесконечной, бесконечная сущность и вечная истина которой появляется в смене явлений, и затруднила понимание познавательной способности людей. Религия изобразила эту запутанную раздвоенность в фантастической картине двух различных миров. Она без всякого основания строго разграничила временное от вечного, ограниченное от неограниченного. В наше время, напротив, неразрушимость данных в опыте веществ и вечность естественных сил стали в естествознании аксиомой.
Итак, завоевание философии заключается в познании того, как, каким образом двойственный характер универсальной природы проявляется в человеческом познании.
3. В какой степени интеллект ограничен и неограничен
Изощренное опытом знание более не мудрствует об универсальной природе, но получает свои знания с помощью специального исследования. Точно так же ведь и философия — сначала наполовину бессознательно, а потом уже ясно и точно — столетия три тому назад поставила перед собой специальную проблему добиться установления «границ познания».
Эта философская задача носила на первых порах полемический характер. Она выставлена была в противовес религиозной догме, которая смотрела на человеческий дух как на слабое, зависимое, предельное и ограниченное истечение неограниченного божественного духа. Поэтому это земное проявление было слишком ограничено, чтобы быть в состоянии понять и, исследовать небесный источник своего происхождения. В настоящее время исследование «границ дознания» уже успело эмансипироваться от этой догмы, но все же еще не настолько, чтобы таинственный мрак перестал окутывать познание и интеллект и в частности вопрос: может ли человеческий рассудок осветить лишь некоторые предметы, оставляя все прочее в непроницаемом мраке веры и догадок, или же он может смело и безостановочно проникать в бесконечность физической и химической вселенной?
Мы хотим представить здесь в качестве завоевания философии то, что она, наконец, составила себе ясное и точное представление, что «неограниченный» дух в религиозном смысле этого слова есть авантюристическая, ненаучная, фантастическая идея. В обычном смысле слова познавательная способность человека является универсальной способностью, и все же, несмотря на свою универсальность, она ограничена. Она имеет свои границы. Почему же нет? Только нужно раз и навсегда оставить сумасбродную мысль, что за этими границами скрывается темная мистерия.
Познание есть способность, существующая наряду с другими способностями, а все, что соприкасается с чем-либо другим, ограничено и отделено этим другим. Мы можем познать все, но мы можем также все осязать, видеть, слышать, чувствовать и обонять. Мы обладаем также способностью к передвижению и многими другими способностями. Одна способность ограничивает другую, и тем не менее каждая из них в своей сфере является неограниченной. Различные человеческие способности взаимно дополняют друг друга и все вместе создают богатство человека. Остерегайтесь лишь слишком сильно отрывать познавательную способность от всех других естественных способностей! До известной степени желательно отграничить познавательную способность, ибо она должна служить специальным объектом нашего исследования. И все же нужно постоянно иметь в виду, что подобное разграничение может иметь значение только в теории.
Подобно тому, как с помощью своей способности зрения мы можем все видеть, так и с помощью мыслительной способности мы можем все понять.
Попробуем вдуматься в это положение.
Как мы можем видеть все? Конечно, не с одного наблюдательного пункта, так как способность зрения очень ограничена. Что не видно издалека, все-таки проясняется, если мы подходим ближе. Что не видит один глаз, то видит другой, что не видно для невооруженного глаза, то показывают нам телескопы и микроскопы. И тем не менее наше зрение остается ограниченным даже в том случае, если бы оно было самым идеальным зрением и было бы вооружено всеми возможными приспособлениями. И если мы возьмем все глаза всех ранее живших и имеющих появиться на свет людей как орган общей зрительной способности человека, то и тогда способность зрения все-таки останется ограниченной. И тем не менее никто не станет жаловаться на ограниченность людей только потому, что наши глаза не могут видеть звука и наши уши не могут слышать света.
Рассудок человека ограничен, как ограничено его зрение. Глаз может видеть через стекло, но не через доску. И тем, не менее мы не станем считать зрение какого-нибудь человека ограниченным только потому, что он не может видеть через доску. Эти резкие сравнения вполне уместны, так как находятся такие ученые господа, которые с самым глубокомысленным видом толкуют об ограниченности нашего интеллекта в том смысле, что якобы познание, приобретаемое наукой на нашей земле, есть только номинальное познание, но ни в коем случае не знание и не постижение в настоящем смысле слова. Человеческий интеллект низводится до степени «суррогата» какого-то «высшего» загадочного интеллекта, который не может быть открыт ни в маленькой голове гнома-невидимки, ни в великой голове всемогущего громовержца и который может быть только предметом «веры». Кто же будет требовать, чтобы мы веровали в существование великого, всемогущего глаза, способного видеть через доски и пользоваться ими, как стеклом? Точно так же бессмысленна была бы мысль о духовном органе, способность познания которого безгранична. Неограниченная вещь, неограниченная сущность — это бессмыслица, если только мы не будем смотреть на весь мир, на мир без начала и конца, на мир безграничный, как на единую сущность и вещь, как на единство. Правда, в пределах этого мира все изменяется, но ничто не может выйти за границы своего рода, не теряя своего имени и характера. Существуют различные виды огня, но нет такого огня, который не горел бы и не имел бы одной, общей природы огня, нет воды, которая не имела бы одной, общей природы воды, и нет духа, способного возвыситься над общим свойством всех духов. В наше время, время ясных понятий, тенденция к запредельному стала фантастикой.
Не только не научно, но совершенно фантастично даже самое скромное желание думать о какой-то более высокой, чем человеческая, способности мышления или познания. В противном случае почему же тогда не представить себе лошадь высшего порядка, которая, имея восемь, шестнадцать или тысячу шестьсот ног, с высшей быстротой, быстротой ветра и света, несла бы по высшим сферам своего всадника!
К достижениям (аквизиту) философии, к правильному методу мышления, искусству мышления, или диалектике, относится тот факт, что мы должны все без исключения понятия употреблять лишь в ограниченном, понятном, житейском смысле, если мы не хотим попасть в ту область, где существуют горы без долин, где фабрикуются лихтенбергские ножи и где всякая теория познания теряет всякий смысл.
Правда, все вещи, равно как и все наши способности, могут совершенствоваться. Все развивается. Почему же дух не должен развиваться? И все-таки мы можем a priori знать, что как наше зрение никогда не станет настолько острым, чтобы мы могли видеть через доски, так и нашему интеллекту суждено быть и остаться ограниченным, конечно, не в жалком смысле тупоумия. Каждый отдельный индивид имеет отдельную ограниченную голову, рассудок же всего человечества обладает такой универсальной силой, какая только мыслима, возможна и необходима на земле и на небе. Понимание этого тоже есть аквизит исторического развития философии.
Мы утверждаем, что у прежней философии имеются известные достижения: она нам завещала ясную формулировку метода, которым мы должны пользоваться при употреблении своего интеллекта, чтобы давать точные отображения природы и ее явлений.
Чтобы познакомить читателя с этим методом, с этим философским наследием, мы должны более подробно рассмотреть свойства того орудия, с помощью которого завоеваны все блага науки. В особенности же нас интересует вопрос: ограничено или же неограничено то универсальнее орудие, которым мы пользуемся при исследовании истины? Многие весьма склонны умалять способность человеческого рассудка, чтобы держать его в подчинении у небесных, метафизических авгуров. В таком случае нетрудно, конечно, понять, что вопрос о свойствах нашей познавательной способности весьма тесно связан или даже совпадает с вопросом о том, как мы должны пользоваться рассудком — для исследования ли только ограниченного, предельного и конечного или же и для исследования вечного, бесконечного, беспредельного.
Мы полемизируем здесь против тенденции, стремящейся умалить значение человеческого духа. Приблизительно сто лет назад философ Кант нашел нужным выступить против тех, кто давал полный простор человеческому духу, — против так называемых метафизиков. Для них мыслительный аппарат превратился в какую-то диковину, во что-то сверхъестественное. Для ознакомления с достижениями философии мы должны показать теперь читателю, что мыслительный аппарат в своем роде является наилучшим и наиболее совершенным. Но в то же время мы должны показать читателю, что этот аппарат связан со своим родом или видом. Человеческое познание познает вполне совершенно. И все-таки создавать себе преувеличенное представление об этом совершенстве так же мало позволительно, как и думать об идеальном глазе и ухе, которые могут быть самыми совершенными и все-таки не в состоянии будут видеть, как растет трава, или слышать, как кашляет блоха.
Бог есть дух, говорится в библии. Бог есть неизмеримое. Если неизмеримое есть дух наподобие нашего духа, интеллекта, ума, то можно было бы думать, что и человеческий ум также неисчерпаем, или даже, что он-то и есть тот самый божественный дух, который обитает в человеческой голове. И пока современный предмет философии — интеллект — оставался тайной, до тех пор люди не могли выбраться из подобной путаницы понятий. Теперь человеческий интеллект познан как ограниченное, предельное, естественное явление, сила или потенция, которая не беспредельна, но подобно всем другим силам и материям составляет часть беспредельного, вечного, неограниченного.
Если оставить в стороне религиозное ханжество, то бесконечное, беспредельное, вечное будет иметь не личное существование, а только вещественное, т. е. не будет уже изображать собой Вечного, как прежде, но вечное. Оно имеет много названий: вселенная, космос, мир. Для более ясного и точного понимания того, что дух, заключающийся в нашей голове, является ограниченной частью мира, мы должны несколько ближе познакомиться с безграничным, вечным миром. Наш физический мир не может иметь возле себя, над собой или вне себя никакого другого мира, так как он есть вселенная. Много миров существует во вселенной, но все они вместе составляют один космос не имеющий ни начала, ни конца в пространстве и времени. Космос царит над всем пространством и временем «на небе, на земле и повсюду».
Но откуда же я знаю то, о чем я так положительно и уверенно говорю? Я отвечаю: знание вселенной, безграничного, нам так же врождено, как дано и в опыте. Это знание прирожденное, как и дар слова, а именно — в зародышевой форме. Опыт же дает нам безграничное в отрицательной форме. Нигде и ни о чем мы не узнаем, где начало и где конец. Напротив, опыт дал нам положительные сведения о том, что все так называемые начала и концы составляют лишь связь бесконечной, беспредельной, неисчерпаемой и в целом непознаваемой вселенной. В противоположность богатству космоса наш интеллект, конечно, не более, как только жалкий бедняга, что, впрочем, не мешает ему быть самым совершенным орудием, способным в самой ясной и отчетливой форме отображать ограниченные явления неограниченной сущности природы.
4. О всеобщности природы
Аквизитом философии является уяснение природы человеческого духа. Он показывает нам, что эта специально духовная природа не занимает никакого исключительного положения, но связана с природой в целом. Чтобы это показать, философия не может исследовать человеческий дух как обособленный объект. Она должна говорить об его общей природе. И так как общая природа нашего интеллекта есть именно та самая природа, которая является общей природой всякого другого предмета, то изучение общей природы или, что то же, вселенной, космоса, поскольку все эти три понятия совпадают, необходимо при специальном исследовании, касающемся природы человеческого духа.
Выше мы говорили, что изощренное опытом познание не размышляет уже теперь более об универсальной природе, но получает свои знания о ней путем специальных исследований. При этом нельзя, однако, игнорировать того, что изучение отдельных явлений бросает также свет и на универсальное целое, часть которого они составляют.
Человеческий интеллект составляет часть универсального целого, или природы, и именно ту часть, которая имеет потребность и желание составить себе представление о всех других частях, более того — составить представление о взаимной связи, о целом всех частей, целом, которое есть нечто неделимое и безграничное. Отсюда становится понятным, почему философы так долго трудились над выяснением этой самой реальной и самой совершенной сущности. Как бы ни называли прежде эту сущность, именем ли господа бога или же субстанцией, идеей, абсолютом, природой и материей, — нам это нисколько не помешает теперь с ясным и трезвым пониманием приблизиться к безграничной природе и, исходя из нее, нарисовать живую картину того, как человеческий интеллект является не мистической сущностью, а разумной частью той самой природы, которая разумна и доступна пониманию во всех своих проявлениях.
Недостаточно изощренная опытом различающая способность, поскольку она не понимала своих функций, преувеличивала разницу между безграничным и его ограниченными, отдельными явлениями. Но теперь, когда философский опыт показал, что универсальная природа, равно как и специальная природа человеческого интеллекта, допускает лишь относительную, ограниченную разницу, — ясно стало, что беспредельная, идеальная, вечная сущность состоит из ограниченных, измеримых, несовершенных, преходящих явлений, причем эта универсальная сущность объединяет в себе не только все совершенные, но также и все несовершенные явления. Эта противоречивая универсальная сущность, эта природа, которой с полным правом одновременно приписываются все противоречащие друг другу предикаты, до известной степени опровергает старое учение о том, что якобы бессмысленно приписывать субъекту какой-нибудь предикат и в то же время его отрицать.
Природа охватывает все и есть все. В ней заключаются все противоречия, рассудок и безрассудство, бытие и небытие. Вне природы нет никаких тез и никаких антитез. Так как человеческий дух вечно вращается в тезах и антитезах, чтобы получить ясное представление о природе, то изучение беспредельного объекта требует также и беспредельного труда.
Что противоречиво в природе, то должна разрешать наша голова. Если она познала самое себя и понимает, что она не составляет исключения из универсальной природы, но является естественной частицей той же самой материи (хотя она и называется «духом»), то она в то же время знает и должна знать, что между ее ясностью и неясностью природы, между разрешением загадки и самой загадкой лишь относительная разница.
Противоречия разрешаются только благодаря умеренному различению, только благодаря науке теории познания, которая говорит, что чрезмерные различия сами являются не более как только преувеличениями.
Различающая способность людей на первой, примитивной стадии склонна к преувеличениям. Слишком резкое разграничение между духом и остальной природой, силой или материей — это пережиток примитивной привычки.
Если достижение философии состоит в том, что она выработала ясное учение о применении интеллекта, то такое усовершенствованное применение состоит в том, чтобы проводить лишь относительное, но не преувеличенное, не toto coelo, не так называемое различие «по существу», или абсолютное различие между вещами. В этом отношении мы никогда не должны забывать, что имеется только одна сущность и все другие так называемые сущности являются лишь несущественными формами общей сущности, именуемой природой или вселенной.
Итак, люди, склонные первоначально к преувеличениям различий, смотрели на познавательную способность как на сущность иной природы в сравнении с естественными сущностями, существующими возле и вне интеллекта. Необходимо, однако, заметить, что каждая часть природы есть индивидуальная часть, отличная от всякой «другой» части, и, далее, что несмотря на это и в то же время всякая другая, иначе конструированная, индивидуальная часть не есть какая-нибудь «другая», но именно однородная часть универсальной природы. Вся суть во взаимной связи: общая сущность природы состоит из бесконечно многих индивидуальных частностей, а эти последние в свою очередь существуют лишь в универсальной, вместе с универсальной сущностью и через универсальную космическую сущность.
Природа, которую человеческий рассудок разделяет на восток и запад, север и юг и на сотни тысяч других известных частей, есть тем не менее неделимое целое. И можно вполне определенно сказать, что это целое — природа — имеет бесчисленное множество начал и концов и в то же время есть безначальная, беспредельная, материальная бесконечность. Давно известно, что ничего нет нового под луной, ничего не возникает вновь, ничего не исчезает, и тем не менее все вечно изменяется!
Человеческая голова имеет правую и левую сторону, верхнюю и нижнюю, заднюю и переднюю части, также что-то внешнее и внутреннее. Внутренняя часть этой головы в свою очередь также имеет две стороны или два качества — телесное и духовное. Они так мало разделены между собой, что, когда приходится говорить о человеческой голове, наша речь принимает двусмысленный характер. В обыденной речи под головой подразумевается то телесная оболочка головы, то ее духовная функция. Если же мы здесь говорим исключительно о духе, то мы молчаливо предполагаем при этом его органическую связь с телом.
Материальная голова и духовная голова — это две головы, образующие вместе одну голову. Точно так же часто бывает, что две, три, четыре, бесконечное множество вещей составляют одну вещь. Способность человека образовывать понятия по самой природе своей предназначена к тому, чтобы бесконечное разнообразие мира сводить к единству, объединять в одно понятие. Единство мира так же истинно и действительно, как и его множественность. Множественное является единым и единое множественным. Это не абсурд, а противоречие, которое вполне разъясняется при знакомстве с аквизитом философии.
Читатель, незнакомый с этим философским достоянием культуры, имеет привычку рассматривать тело как нечто другое, отличное от духа. Подобное разграничение весьма правомерно, но, чтобы мы не злоупотребляли этим правом, необходимо помнить, что тот же самый читатель имеет другую привычку — смотреть на различные вещи, как, например, на топор, ножницы, ножи, как на произведения одного рода, связывая их в общем понятии режущих инструментов. Научный метод философии требует, чтобы мы применяли тот же самый прием к предмету нашего специального исследования — к человеческому духу. Мы не вправе предъявлять к нему чрезмерных требований, но мы его силы вместе со всеми другими физическими силами, все равно, осязаемыми или неосязаемыми, должны считать детьми одного рода, бессмертной праматерью которых является вселенная.
Вселенная бесконечна не только в пространстве и времени, но и в разнообразии своих произведений. Точно так же и человеческие головы, являющиеся продуктом вселенной, как с внешней, так и с внутренней стороны бывают бесконечно разнообразны, что, однако, не мешает им составлять одну общую группу, связанную единством вида.
Группировать явления природы, продукты вселенной, по классам, родам, семействам и т. д., стремиться к систематической группировке этих явлений в целях их уяснения — вот в чем состоит деятельность познания, работа и свойство познающей человеческой головы. Познавать — это не что иное, как составлять универсальное и в то же время детальное представление о процессах и произведениях вселенной, группируя их, как это делает ботаника в мире растений и зоология в животном мире. Само собой разумеется, что мы, ограниченные дети неограниченного, в состоянии выполнить свою задачу лишь в ограниченном виде.
Однако нужно отличать естественную, физическую ограниченность человеческого познания от той жалкой ограниченности, которую приписывают ему метафизики со своими чрезмерными требованиями. Неисчерпаемая вселенная ни в какой мере не есть нечто недоступное для человеческого познания. Вся ее глубина открыта нашей способности различать и образовывать понятия. Наш интеллект составляет часть неисчерпаемой вселенной, а следовательно, он участвует в ее неисчерпаемой природе. Та часть природы, которая называется интеллектом, ограничена лишь постольку, поскольку всякая часть меньше целого.
5. Познавательная способность как часть человеческой души
Человеческий интеллект, или познавательная способность, — это специальный предмет философии в ее целом. Но эта способность есть в то же время часть, и для нас самая важная часть, человеческой души.
Густав-Теодор Фехнер — погасшее уже теперь светило на литературном небосклоне — в свое время выдвинул вопрос о душе и пытался дать на него ответ, причем выводы прежней философии он облек в такую странную форму, которая выглядит с первого взгляда довольно фантастически. Достижения в области философии на его взгляд не более, как продукты индивидуального творчества. Но при этом Фехнер настолько проникается благоговением к старым кумирам, каковы, например, «бессмертие души», «бог», «христианство», что даже и не думает с ними расставаться, хотя он и комментирует содержание их довольно свободно.
Фехнер наделяет душой и человека, и животных, и растения, и камни, и мировые тела, словом — весь мир.
В сущности, это равносильно тому, как если бы было сказано, что человеческая душа имеет ту же природу, какую имеет и всякий другой естественный продукт. Это значит, что все естественные вещи имеют ту же самую природу, что и человеческая душа. Не только животные, но и камни, и мировые тела имеют нечто общее с нашей душой.
Фехнер, в сущности, не фантазер, и все-таки как фантастично звучат его слова: «В одно прекрасное весеннее утро я вышел из дому; всходы зеленели, пели птицы, блестела роса, поднимался легкий дымок; то здесь, то там попадались люди; повсюду распространялось сияние света. Это был лишь маленький кусочек земли. Это был лишь один момент земного бытия. И все-таки, по мере того как я более и более охватывал все это всепроникающим взором, мне оно казалось не только красивым, но и правдивым и ясным, как будто бы это был ангел, летящий на небо, с обращенным к небу ликующим взором, окруженный изобилием, свежестью и цветами. И я удивлялся застывшим взглядам людей, которые в земле видят лишь засохшую глыбу и ищут ангелов над ней в небесах без надежды когда-нибудь их найти. Такое воззрение называется фантазерством».
«Земля есть глобус, а что она вообще собой представляет, это можно узнать в кабинетах естествоиспытателей». Вот как обстоит дело с Фехнером.
Решительно ничего нельзя возразить против того, что люди сравнивают прекрасную землю и звезды на небе с ангелами. Ведь с полным правом называет же любящий свою возлюбленную божественным ангелом.
По терминологии Фехнера, земля, луна, звезды — это ангельские, одаренные душой существа, посредники между человеком и богом. Он прекрасно знает, что это только аналогия и условная терминология. Он мыслит вполне атеистически. Но любовь и благоговение к издревле чтимым именам заставляют его наделять материальный мир душой, и эту великую, бесконечную мировую душу он наделяет божественным титулом.
Если отбросить в сторону религиозный конек, на котором гарцует Фехнер, то у него останется лишь своеобразная манера употреблять слова и имена в символическом смысле. Это старый способ передачи своих мыслей, излюбленный поэтами, которые голубые глаза своей милой называют небесными звездами, звезды же голубого неба — милыми глазами, которые женскую грудь превращают в белоснежный холмик, ветер — в зефир, источник воды — в наяду и в старых ивах видят лесного царя. Поэзия населяет весь мир добрыми и злыми духами, русалками, феями, эльфами и домовыми.
Подобная манера говорить не заслуживает непременно порицания, в особенности, если, подобно поэту, знаешь, что делаешь, т. е. когда символизируешь сознательно. Так поступает и Фехнер, правда, только до известной степени. У него в голове все-таки остается путаница, и мы хотим бросить сюда луч света, чтобы иллюстрировать на данном примере аквизит философии.
Фехнер не заметил, что со своим всеобщим одухотворением он передал не более половины аквизита прежней философской мысли. Другая половина, которая только и сделала понятным все целое, заключается в познании того, что не только все обыкновенные вещи обладают душой, но также и наоборот: всякая душа, не исключая и человеческой, является обыкновенной вещью.
Философия не только обоготворила и одухотворила весь мир, но и сделала богов и души мирскими. Целое есть истина, и всякая часть целого есть только часть истины.
Наряду с психологией, имеющей дело с индивидуальной душой человека, в последние десятилетия выступила на сцену «психология народов», которая рассматривает индивидуальные души как кусочки общей человеческой души, а именно как индивидуальные кусочки, составляющие одно целое, одну душу, которая есть нечто совершенно другое, чем только простая арифметическая сумма. Душа «психологии народов» так же относится к индивидуальным душам, как современное народное хозяйство относится к частному хозяйству. Обогащение вообще — это другая тема, имеющая мало общего с обогащением своего собственного кармана. Если народная душа существенно отличается от индивидуальной души, тогда что же будет представлять собой универсальная животная душа? Ведь тогда придется иметь дело с душами львов, тигров, мух, слонов, мышей и т. д. Если расширить это положение, распространить понятие психологии на царство растений, минералов, на отдельные мировые тела, на нашу солнечную систему и, наконец, на всю вселенную, что можно усмотреть в этом, как не простую градацию?
И все-таки одного обобщения недостаточно. Вследствие своей односторонности оно ведет к фантазерству, ибо здесь можно делать какие угодно комбинации. Необходимо также и общее расчленить на частности. Мы желаем отличать слонов от блох, мышей от вшей, но не следует при этом забывать взаимную связь частного с общим. Этой забывчивостью сильно грешат «музейные зоологи» и «гербаризаторы-ботаники», между тем как философские исследователи душ a la Фехнер, как раз наоборот, помешались на обобщениях.
Уметь находить всеобщее в его частных формах и частные формы охватывать в их универсальной связи, как части всеобщей природы, — вот что составляет, выражаясь абстрактно, аквизит всех прежних философских исследований. Правда, в такой абстрактной форме трудно понять сущность этого учения. Чтобы усвоить себе это учение в конкретной форме, нужно вникнуть в его детали, в отдельные его частности.
Название «критики разума», которое Кант дал своему специальному исследованию, является очень удачным общим названием, обнимающим собой всю совокупность философских исследований. Разум, являющийся важнейшей частью человеческой души, делает критику разума, философское исследование, важнейшей частью психологии.
Но почему же мы называем эту часть души важнейшей частью? Разве материальный мир и его познание менее важны, чем разум, чем интеллект, который ставит себе задачей исследование этого мира? Важное значение разума имеет здесь совершенно иной смысл. Я считаю интеллект важнейшей частью психики и психику важнейшей частью мира лишь постольку, поскольку они являются предпосылкой всякого исследования, и, кроме того, потому, что исследование как таковое, т. е. общая природа исследования, является в данный момент моим специальным предметом, моей главной задачей. Имею ли я при этом в виду выяснить универсальный характер исследования, или же я буду исследовать интеллект или теорию познания, — это в сущности значит об одном и том же говорить разными словами.
Возвратимся еще раз к фехнеровской мировой душе. При его странной манере наделять душой все вещи — растения, камни, звезды и т. д. — он может оказать нам некоторую услугу для доказательства того, что общая природа той части души, которую называют разумом, интеллектом, духом или познавательною способностью, не так-то уж значительно отличается от общей природы камней и дерева, как это представляли себе старые идеалисты и материалисты.
Мы уже видели, что Фехнер — поэт и, как поэт, он видит сходство там, где трезвый ум этого не видит. Но мы должны заметить при этом, что трезвый ум, который везде видит только одни черты различия, — очень жалкий ум. Предшествующие философы научили меня тому, что хороший ум может находить различие наряду со сходством и сходство всех вещей одновременно с их различием. Здоровое, трезвое поэтическое творчество и трезвая рассудительность, связанная с поэтическим полетом и широкой способностью к обобщению, а также и способность к различению — вот что является отличительным признаком хорошего ума. И все-таки как самая скудная, так и самая гениальная голова имеет одну общую природу головы, характерным признаком которой является то, что она находит сходное в несходстве, общее в частном, и наоборот. Никогда нет одного без другого, но всегда то и другое связано.
Если различие между человеком и камнем не настолько велико, чтобы такой гениальный ум, как Фехнер, не имел права рассматривать их как нечто, имеющее одну душу, то ведь и различие между телом и душой не так уж велико, чтобы между ними не было никакого сходства, ничего общего. Разве воздух и запах не эфирное тело?
Разум называется еще иначе способностью к различению. Аквизит прежней философии состоит в том, что мы теперь уже точно и ясно знаем, что эта способность различения не допускает никаких из ряда вон выходящих различий. Другими словами, все вещи так сходны между собой, что искусный поэт может из всего делать все, что угодно. Может быть, это в состоянии будут сделать и естествоиспытатели? О, да! Эти господа стремятся к тому же. Твердое они обращают в жидкое и жидкое — в газообразное. Силу тяжести они превращают в теплоту и теплоту — снова в двигательную силу. Но они не забывают при этом различия вещей, как это делает наш Фехнер.
Недостаточно знать, что тело духовно, а душа телесна, недостаточно знать, что все имеет душу. Необходимо также, чтобы души людей, растений, животных и т. д. были разграничены, разделены, точно обозначены и различны во всех их своеобразных, свойственных им проявлениях. Нужно лишь при этом остерегаться, чтобы не преувеличивать различий, не делать их чрезмерными, чтобы не получилось бессмыслицы.
Мы не ставим себе задачей более подробное рассмотрение теории мировой души Фехнера. Он сам заявил: «Заранее нужно сознаться в том, что вопрос о душе есть и будет вопросом веры» и что «аналогия еще не есть доказательство». «Можно с одинаковым правом привести доказательство за и против существования какой-то души».
Однако со времен Декарта твердо установлено, по крайней мере в философском мире, что самым достоверным знанием является сознание человеческой души своего собственного существования. Наиболее положительное знание о мире есть опытное восприятие мыслящей души себя самой. Этот субъект есть самый очевидный объект, который только может существовать. Точное представление о жизни и деятельности этой частицы души, называемой сознанием или способностью познания, — вот в чем состоит аквизит философии.
Если познавательная способность есть часть человеческой души, а эта последняя несомненная, очевидная часть всеобщего бытия, то все, следовательно, что составляет часть этого бытия, как куски дерева, так и лежащие вокруг нас камни, находится в родственной связи с человеческой душой. Индивидуальные души людей, души народов, души животных, куски дерева, каменные глыбы, мировые тела — все это братья, дети одной всеобщей беспредельной природы. Таких детей имеется, однако, так много, что они, чтобы их можно было друг от друга отличать, должны быть разделены на категории, классы, роды, семейства и т. д. Так по сходству к одной категории относятся души, к другой тела, что в свою очередь нуждается в дальнейшем подразделении. Так, в конце концов, мы приходим к тому, что души всех людей вместе образуют отдельный класс, отличающийся своим особым, свойственным ему характером. Промышленникам-фабрикантам хорошо известно, что труд десяти рабочих продуктивнее и отличается лучшим качеством в сравнении с удесятеренным трудом одной рабочей силы. Точно так же и общечеловеческая душа или какая-нибудь общенародная душа представляет собой нечто отличное от суммы входящих в нее индивидуальных душ. Да ведь и душа отдельного индивида в каждый данный момент и в разных местах не одна и та же. Она так же разнообразна, как и всякая народная или национальная душа.
«Есть ли душа у растения? Имеет ли душу земля наподобие человеческой души? Вот в чем вопрос».— Так говорит Фехнер. Как душа в известный момент своего бытия представляет собой нечто аналогичное моей же душе в другой момент, так она аналогична и душе моего брата и, наконец, душе животных, растений и камней. Отсюда ясно видно, что все имеет некоторое сходство с чем-либо другим. Стадо овец имеет сходство со стадом маленьких белых облачков на небе, и поэт прав, называя маленькие облачка барашками. В этом смысле прав, конечно, и Фехнер со своей теорией мировой души.
Но разве не следует отличать поэзию от действительности? Конечно, да. Моя душа и душа моего брата действительно аналогичны. Это души в собственном смысле слова. Но души камней — это уже образное выражение.
Здесь я хотел бы обратить внимание моего благосклонного читателя, которому я объясняю сущность аквизита философии, на то, что мы не должны пренебрежительно относиться к различию между прямым и переносным, образным, смыслом слова.
Слова — это имена, которые ничего другого не могут, не желают и не должны делать, как только олицетворять в образах вещи. Моя, твоя и всякая другая душа есть только образно выраженная одна и та же сущность.
Если я говорю, что такой-то человек имеет душу, как я, как и всякий другой, то я хочу и могу этим сказать лишь то, что он имеет нечто аналогичное со мной, тобой и всяким другим человеком. Его душа является подобием нашей души.— Спрашивается, где же предел уподоблению? Что не является подобием в абстрактном смысле и что составляет конкретно более чем образ?
Действительность и поэзия не абсолютно, не toto coelo различны. Поэт говорит правду — и истинное познание многое заимствует у поэта. Философия познала действительную природу души, особенно же ту ее часть, с которой мы здесь, главным образом, имеем дело, т. е. разум, или познавательную способность. Назначение разума — дать нашей голове картину происходящих в мире явлений, описать все события и изобразить, таким образом, всю вселенную во всех ее проявлениях как неисчерпаемый в пространстве и времени расчлененный процесс.
Если бы с помощью теории мировой души можно было все это выполнить, Фехнер был бы тогда величайшим из всех когда-либо живших философов. Ему недостает для этого сознания того, что интеллект, который может и должен связать все мировые явления в один общий узел, должен позаботиться также и о другой стороне дела — о спецификации этих явлений. Это, конечно, не по силам одному философу. Над этим должны поработать все научные дисциплины. И философия, как учение о науке, должна санкционировать эту работу.
6. Человеку прирождена не только общепознавательная возможность или способность, но и сознание универсальности всей природы
В философии на всем ее историческом протяжении особенно много споров возбуждал вопрос о том, как приобретаются наши знания, прирождены ли они человеку или же нет, и если да, то что является в данном случае прирожденным и что приобретается путем опыта. Если бы у нас не было прирожденной познавательной способности, то и при наличности опыта мы не имели бы никаких знаний; с другой стороны, при полном отсутствии опыта самая совершенная познавательная способность оказалась бы совершенно негодной. Всякое научное знание является, таким образом, результатом взаимодействия субъекта и объекта.
Если бы не было объектов для зрения, то не могло бы быть и субъективной зрительной способности. Обладание зрительной способностью есть в то же время и фактическое пользование зрительной функцией. Нельзя обладать зрительной способностью, ничего не видя. Правда, оба эти момента можно расчленить только теоретически, но не на практике, причем это расчленение сопровождается и должно сопровождаться сознанием того, что зрительная способность есть только понятие, отвлеченное от действительности, от фактического применения этой способности. Способность и ее практическое применение взаимно связаны, дополняя друг друга.
Человек впервые приобретает сознание, познавательную способность, когда он что-нибудь узнает, и сила его сознания растет по мере его применения на практике.
Читатель помнит наше указание на необходимость отнести к достижениям философии убеждение, к которому мы пришли, что нельзя слишком далеко проводить разделения явлений природы. Точно так же нельзя разрывать связь между прирожденной нам способностью к знанию вообще и приобретенным знанием.
Добытое из опыта универсальное правило гласит, что с точки зрения человеческого интеллекта во вселенной не может быть двух абсолютно различных между собой вещей, хотя ему и предоставлена интеллектуальная возможность бесконечно различать и расчленять в познавательных целях вселенную и ее объект.
Если мы теперь утверждаем, что понятие вселенной есть прирожденное понятие, то пусть благосклонный читатель не спешит делать отсюда вывод, что мы защищаем старый предрассудок, по которому рассудок, или разум человека, подобно ящику, был наполнен понятиями об истине, добре и красоте и тому подобными вещами. Нет, наш интеллект может самостоятельно созидать свои понятия, представления, суждения и т. д. только в том случае, если внешний мир будет давать материал для его работы; но это предполагает уже прирожденную способность к подобной работе. Сознание, знание бытия должно быть уже дано до применения иного, более специального знания. Сознание (Bewusstsein) есть знание бытия (Wissen vom Sein). Это значит, что человек имеет хотя и неясное и туманное, но все-таки зародышевое понятие о том, что бытие есть универсальное понятие. Бытие есть все. Вне его ничего нет и ничего не может быть, потому что бытие есть космос, бесконечное.
Сознание per se[11] есть сознание беспредельности. Сознание, прирожденное человеку, есть знание безграничности бытия. Когда я знаю, что я существую, я сознаю себя как часть бытия. В том, что это бытие, этот мир, по отношению к которому я, как и всякая другая частица мира, являюсь лишь частью, должен быть беспредельным миром, я могу удостовериться только тогда, когда я проанализирую понятие бытия с помощью искусного мыслительного аппарата. Если читатель выполняет эту работу, пользуясь при этом указанным аппаратом, то он тотчас же должен открыть, что его сознанию прирождено понятие беспредельности и что невозможно, немыслимо существование какой бы то ни было способности образовывать понятия без этого прирожденного понятия. Способность образовывать понятия, познавательная или мыслительная способность есть прежде всего способность схватывать универсальное понятие. Наш интеллект не может составить ни одного понятия, не может иметь ни одного представления, в основе которых не лежало бы более или менее ясное или смутное представление или понятие о вселенной. Cogito, ergo Sum (мыслю, следовательно, существую). То, что я представляю, имеет бытие, по крайней мере в представлении. Правда, бытие, существующее в представлении, и действительное бытие — не одно и то же, но различие между ними все-таки не выходит из рамок универсального бытия. Фантастические и реальные образы не абсолютно различны между собой. Они не настолько различны, чтобы их нельзя было объединить в одном универсальном понятии бытия. Вид, формы бытия различны. Гномы-невидимки существуют в фантазии, в образном представлении, польские же евреи существуют в действительности, и все-таки те и другие существуют. Универсальное бытие охватывает дух и тело, образы и действительность, гномов и польских евреев.
Что наша мыслительная способность является универсальной, прирожденной способностью мыслить, — это во всяком случае не более загадочно, чем, например, то, что круг появился на свет божий круглым, что между двумя горами лежит долина, что вода течет, а огонь горит. Все вещи обладают известными качествами per se, от природы. Нужно ли теперь еще объяснять все это? Цветы, появляющиеся с течением времени на растениях, сила и мудрость, свойственные человеку в зрелом возрасте, — все это не более понятно, чем существование прирожденных свойств, и прирожденные качества не более чудесны, чем позднее приобретенные. Лучшее объяснение не в состоянии отнять у чудес природы их природных чудесных свойств. Сильно заблуждается тот, кто думает, что интеллект, находящийся в нашей голове, разрушает естественную веру в чудеса. Философия, которая специально занимается изучением интеллекта и его свойств, дает теперь новое и гораздо лучшее представление об этом старом кудеснике. Тем самым она разрушает веру в метафизические чудеса, обращая внимание на то, что физическая природа настолько универсальна, что абсолютно исключает всякое другое существование реального чудесного мира помимо естественного.
Я и многие из моих читателей находим в своей голове в готовом виде сознание того, что универсальная природа, часть которой составляет наш интеллект, безгранична и бесконечна. Это понятие универсальности природы я называю «прирожденным», хотя оно и приобретается путем опыта. Я попробую выяснить читателю, что различие, которое обыкновенно проводят между прирожденными и приобретенными свойствами, между потенциальным состоянием и фактическим обладанием чем нибудь, не настолько уж велико, чтобы прирожденное не нуждалось в приобретенных качествах, а эти последние не предполагали бы прирожденности. В этом могут видеть противоречие только люди, незнакомые с аквизитом философии. Устанавливая различия, они не сохраняют чувства меры, доводя различия до крайности. Они не знают того, что примирение всякого различия, всех противоречий совершается в самой универсальной природе и что только в ней все противоречия перестают быть противоречивыми.
Философия поэтому старалась познать интеллект. Если мы хотим показать, в чем состоят ее завоевания, мы должны выяснить, что философское, равно как и всякое другое познание, является продуктом не изолированной способности познания, но продуктом всей природы. Родную мать нашего знания и понимания нужно искать не в одной лишь голове, но скорее в окружающем мире, который не только называется вселенной, но и на самом деле универсален. В доказательство своих слов я ссылаюсь на тот факт, что это понятие, это сознание бесконечности существует в развитом интеллекте как нечто, так сказать, прирожденное. Читатель, который на этом основании стал бы упрекать меня в том, что я смешиваю прирожденную способность с приобретенным знанием, пусть обратит внимание на то, что моя задача сводится, в сущности, к доказательству того, что всякое разделение, осуществляемое интеллектом, происходит фактически, в самой действительности, в неделимых частях неделимой вселенной. Тем самым мы считаем доказанным тот факт, что чудесный, таинственный интеллект не представляет собой ничего таинственного или он, во всяком случае, является не более таинственным и чудесным, чем всякая другая часть естественного, универсального чуда, совпадающего с бесконечной, чудесной, универсальной природой.
Обыкновенно люди обнаруживают склонность смотреть на сознание, как на сверхъестественную сущность, неумеренно разрывая при этом связь между мышлением и бытием, мыслью и действительностью. Философия, которая специально занимается изучением нашего сознания, показала нам, что подобное противопоставление хватает через край, что оно не соответствует действительности и не дает верного отображения ее истинной сущности.
Чтобы понять, чего достигла философия в смысле использования различающей деятельности интеллекта, необходимо принять во внимание, что между тем, что существует в чистой мысли, и тем, что существует в так называемой действительности, существует весьма умеренное различие, различие лишь в степени.
Как природная структура нашей способности мышления, так и универсальный характер природы не позволяют нам проводить радикальное различие между реальностью произведения фантазии и какой-нибудь другой, осязаемой действительностью. С другой стороны, научная потребность в ясных образах также не допускает, чтобы эти два вида действительности не различались вовсе. Правда, в обыденной речи отвлеченные мысли и чистые фантастические образы противопоставляются природе, или действительности, как нечто другое, находящееся в антагонизме с ними. И тем не менее обычная разговорная речь не может помешать нам сделать вывод, что вселенная, или универсальная природа, настолько безгранична, что в состоянии примирить ограниченный антагонизм. Ведь кошка и собака большие враги между собой, и все-таки зоология рассматривает их как законных собратьев в семье домашних животных.
Человеческое сознание прежде всего есть нечто индивидуальное. Каждый отдельный индивид имеет свое собственное сознание. Но своеобразная особенность моего, твоего и всякого другого сознания состоит в том, что оно является не только сознанием данного индивида, но всеобъемлющим сознанием вселенной — по крайней мере по своему назначению и возможностям. Но не всякий индивид уяснил себе универсальный характер природы, в противном случае откуда же появился бы уродливый дуализм? Почему же только многотомная философия должна была нас научить тому, что граница, вещь или мир вне вселенной есть абсурдная мысль, мысль, которая совершенно не вяжется со здравым смыслом и рассудком? Мы можем поэтому здесь самым положительным образом заявить, что наше сознание, наш интеллект, только «номинально» является нашим, в сущности же говоря, наше сознание, или интеллект, составляет часть универсального мира, или универсальной природы.
Если нельзя отрицать, что солнце, луна и звезды являются составными частями безграничного, беспредельного мира, то нельзя же оспаривать это свойство и у нашего сознания. А так как мы знаем, что интеллектуальная способность является составной частью беспредельного мира, есть его продукт, то мы не должны были бы удивляться тому, что тесно связанная со вселенной способность образовывать понятия обнаруживается в связи с возможностью иметь понятие о вселенной. Кто не находит это странным, тот должен во всяком случае считать его объяснимым, должен считать, что факт сознания выяснен.
Объяснить чудесное — вот в чем, собственно, состоит задача познания и интеллекта. Если нам удастся сорвать таинственный покров с того факта, что в ограниченном человеческом духе коренится понятие об абсолютном, неограниченном, понятие о вселенной, тогда будет объяснен этот факт и тем самым будет доказано, что объяснение факта сводится, в сущности, к получению точной копии его в нашей голове.
Резюмируя сущность сознания, все его внутреннее содержание можно выразить следующими словами: сознание есть знание бесконечного бытия. Оно стремится снять точную копию с этого бытия и выяснить его чудесные свойства. Но этими словами ни в коем случае нельзя исчерпать всю его сущность. Мы хотим и можем всей силой красноречия пробудить лишь общую, неопределенную идею о неисчерпаемости нашей задачи. Кто хочет иметь большее, тот должен путем наблюдения и размышления итти дальше. Одно все-таки остается несомненным: предмет нашего исследования не более мистичен, чем какая-нибудь другая часть универсальной мистерии.
7. О родстве, называемом также тождеством духа и природы
«Существует естественный закон аналогии, который говорит, что все вещи, объединенные во вселенной в одно целое, принадлежат к одной и той же категории, что они связаны между собой родством, которое уживается наряду с величайшим разнообразием индивидуальных различий и неустранимо даже при наличности крайних противоположностей». Если мы усвоим содержание этих слов со всеми вытекающими отсюда выводами, то тем самым мы познакомимся с современным аквизитом философии. Эти слова учат нас, каким образом мы должны пользоваться интеллектом, чтобы иметь точное представление о вселенной.
Интеллект иначе называется еще различающей способностью. Если мы станем в науке о силах этой способности на современную, естественнонаучную точку зрения, то мы получим ясное и точное представление о том, что во вселенной нет чрезмерных различий, нет ничего противоположного, что не имело бы родства между собой. Бесконечное родственно конечному. Все, что было и прошло в мире, является прямым отпрыском непроходящей, вечной вселенной. Универсальная природа и все ее частные явления взаимно переплетаются. Нет вещи абсолютно отличной от какой-либо другой вещи.
Это положение едва ли встретит возражение. Дело принимает другой оборот, если только мы захотим быть последовательными до конца. Если все без исключения вещи являются отпрысками вселенной, то ведь и дух и материя также должны быть произведениями одного вещества. Точно так же не следует искусственно преувеличивать различие между человеческим познанием и другими функциями человека и природы до размеров из ряда вон выходящего, радикального различия.
Чтобы систематически изучить метод установления различий, читатель должен подумать о том, что только тот может верить в призраки, кто отрицает единое родство всей действительности. Он верит в существование действительных призраков, действительность которых якобы должна быть иного рода, абсолютно иного рода, должна быть различна toto coelo. Такое различие хватает через край, и кто поступает так, тот не умеет различать, тот не умеет как следует пользоваться своей различающей способностью.
В разговоре искусство обыкновенно противопоставляют природе, при этом допускают ошибку, забывая, что искусство является частью природы, подобно тому как ночь является частью дня. Точно так же и человек, верующий в призраки, не знает, что рассудок и дерево, дух и материя, несмотря на все их различие, представляют собой две части одного целого, два явления универсальной действительности. Все действительно и истинно, ибо в конечном счете полнота бытия, мировое целое, или вселенная, единственная истина, единственная действительность.
По моему мнению, это просто lapsus linguae[12], если противопоставлять искусственной природе или естественному искусству еще естественную природу или же в противовес фантастической действительности говорить о действительной действительности, что было бы простой тавтологией. Для двенадцатичасового дня нужно было бы иметь другое название, чем для двадцатичетырехчасового, чтобы лучше видеть, что день и ночь не есть нечто абсолютно различное, но лишь два зубца одной вилки.
Как мыслительная способность ребенка прирождена ему и развивается вместе с его ростом, точно так же развивается и мыслительная способность человечества. До настоящего времени она проявлялась в речи, которая лишь инстинктивно изображала свойство и деятельность духа. Строение человеческой речи лишь до известной степени объясняет свойство человеческого духа, который до сих пор сам еще плохо познал самого себя. И как дефекты речи, которые я назвал выше lapsus?aми linguae, мы стали замечать только благодаря выяснению природы мыслительного процесса, так теперь те же самые дефекты в свою очередь дают нам в руки превосходное средство, чтобы показать и изобразить этот прогресс.
Дух должен дать человеку отображение мира; речь при этом служит кистью художнику-духу. Эта кисть, т. е. наш язык, рисует изложенное в начале этого параграфа универсальное родство всех вещей и рисует именно в следующей форме: он дает каждой вещи не только имя, но еще и «отчество и фамилию». К этому, далее, он присоединяет еще и другие названия, названия расы, рода, вида и, наконец, дает универсальное имя, которое гласит, что все вещи являются частью одного неделимого единства, именуемого миром, вселенной, бытием, мировым целым, космосом.
Это схематическое строение речи дает нам копию различных степеней родства всех вещей, в то же время оно указывает нам способ, с помощью которого человеческий дух приобретает свои познания, или отображения мира.
Под философией, как мы сказали, разумеется стремление уяснить процесс человеческого мышления. Эта работа была страшно трудной при неизбежном непонимании только что описанного универсального родства всего мира. Прежде всего, по мнению метафизиков, мышление и его продукт, мысль, не находятся в родственной связи с природой, не принадлежат физической природе, будучи творческим продуктом другой природы, носящей мистическое имя метафизики. Что такая природа, такая наука неестественна и нелогична, невозможна и недействительна, — это доказывает как нормальное строение речи, которое вышеописанным образом все приводит в родственную связь, так в частности и ее дефекты, называемые нами lapsus?aми.
Lapsus linguae, проливающий свет на характерную особенность современных достижений философии, состоит в том, что существуют вещи или явления, относящиеся к такой категории, в которой различие между индивидом, семейством, родом, видом и т. д. недостаточно ясно обозначено, — например, неизвестно, обозначает ли название «кошки» домашнюю кошку или тигра, потому что это название относится к одному значительному классу животных, в котором домашняя кошка является кошкой par excellence.
Но может быть этот пример выбран очень неудачно, чтобы охарактеризовать lapsus linguae, дающий возможность правильно учесть достижения философии? Возьмем другой, более подходящий пример, в котором именно этот переход от части к целому более прояснит нам темный смысл рассуждения.
Другой, более удачный пример недостаточного строения человеческой речи — это различие между рыбой и мясом. В данном случае уже вовсе не имеется особого, специального названия для мяса вообще, так как животное, живущее в воде, и животное, живущее на суше, дают нам каждое особый вид мяса.
Теперь пусть благосклонный читатель перенесет то, что здесь говорилось о строении речи, на различие между физикой и метафизикой, идеей и действительностью. В последнем случае недостает термина для правильного обозначения существующего здесь родства. Ведь мысли — это действительные мысли. Конечно, большая разница, имею ли я сто талеров только в мысли или же в действительности, т. е. в собственном кармане. Тем не менее мы не должны преувеличивать это различие, не должны делать его исключительным. И те деньги, которые я рисую на бумаге, мыслю или представляю себе, все же настоящие деньги — я мыслю их как реальные. Это значит: наш язык не имеет достаточно слов, чтобы ясно обозначить различные сферы действительности в рамках единства.
Усвоение этих фактов лингвистики прекрасно углубляет и расширяет наше понимание того таинственного светильника, который человек имеет в своей голове и с помощью которого он освещает все явления мира. Разработка теории познания, критика разума имеет первостепенное значение для освещения всех явлений. Этим я вовсе не хочу сказать, что философия, специальная наука, которой мы здесь занимаемся, должна быть универсальной наукой в том старом смысле, в каком она фигурировала в течение многих столетий. Но она все-таки универсальная наука в том же смысле, в каком этот термин применим по отношению, например, к азбуке и другим элементарным наукам. Всякий человек должен оперировать рассудком и должен поэтому стремиться изучить его. Хотя это изучение и не делает излишним всякие другие искания, но все же оно проясняет многие понятия, оно проясняет сущность всякого понятия, с чем каждому приходится иметь дело, но с чем часто обращаются более бесцеремонно, чем собака с сумой нищего.
Вышеописанный пример lapsus linguae показывает, где кроется причина того, что односторонние идеалисты, с одной стороны, и не менее односторонние материалисты — с другой, никак не могут здесь найти внутренне осмысленное примирение. В нашем распоряжении нет достаточного запаса соответствующих слов для обозначения родственных отношений между духовными явлениями природы, как, например, нашими представлениями, понятиями, суждениями, заключениями и многими другими явлениями того же рода, с одной стороны, и осязаемыми, измеримыми, весомыми вещами — с другой. Правда, отсутствие названий объясняется отсутствием понимания, а потому и спор не является одним лишь словесным спором. И все-таки его можно разрешить только с помощью более усовершенствованной терминологии.
Бюхнер в своем известном произведении «Сила и материя», а также и все прежние материалисты упустили из виду этот факт. Они так же односторонне держались за свою «материю», как идеалисты за свою «идею». Спор и ссора запутывают выяснение вопроса, только мир проливает свет. Противоположность между материальным и идеальным находит свое применение в современном аквизите философии. Он учит, что для нас всякое различие должно быть относительным, так как ни наш мыслительный аппарат, ни остальная природа не оправдывают коренных различий. Чтобы внести свет в спорный вопрос, необходимо усвоить взгляд, что идеи, развиваемые природой в нашей голове, если и не дают материала для наших рук, то все же дают материал для нашего познания. И как химия занимается изучением материи, физика изучением сил, так же и философия занималась и продолжает заниматься исследованием познания и природы понятий, имея в виду материальную сторону изучаемых явлений.
Соответственно с новыми задачами философии, материя, силы, идеи, понятия, представления, суждения, заключения, знание и понимание — все это должно быть истолковано, как многообразие или разные элементы одного монистического рода. Разнообразие этих вещей так же мало противоречит их единству, как единство разнообразию. Дарвин расширил понятие «вида» и тем самым внес в зоологию более осмысленное понимание. Философия развернула и расширила понятие вида еще дальше, чем Дарвин, научив понимать виды как небольшие роды, а величайший, абсолютный род, или космос, как нечто всеединое, как всеобъемлющее.
Чтобы вполне осмысленно объединить червей и слонов, низших и высших животных, растительный и животный мир, органическое и неорганическое как члены одного вида или рода, следует, главным образом, принять во внимание постепенность, известный порядок ступеней в природе, переходные стадии, промежуточные звенья и средние термины. Пониманию общности видов всех животных особенно много содействовала эмбриология, показывающая, что животная жизнь высших животных проходит через все ступени целого животного рода.
«В естественном порядке ступеней в природе существует неизменная непрерывность, ибо нет таких переходных ступеней, которые не имели бы своих представителей. Между различными ступенями нет такого различия, которое не заполнялось бы в силу закона природы каким-нибудь промежуточным звеном... В природе не существует абсолютного различия, нет метафизических скачков, пустоты, не заполненного чем-нибудь пространства в мировом порядке», — так говорит один знаменитый писатель нового времени. Я не называю его по имени, ибо приведенные слова сами за себя говорят[13]. Я хочу обосновать свои взгляды, ссылаясь не на имя, а на очевидную ясность самого дела.
И если Дарвин учил понимать животный мир в том смысле, что здесь нет никаких существенно различных видов, то философия то же самое делает по отношению ко всему космосу. Познание космоса затрудняется теперь благодаря лишь привычке делать неоправдываемое различие между духом и материей.
8. Познание материально
Скажем ли мы, что философия ставит себе предметом исследования познание, или скажем, что она исследует метод, каким должно пользоваться субъективное познание, чтобы получить верное, истинное, точное, объективное знание, — это, в конце концов, различные выражения для обозначения одного и того же процесса. Будем ли мы называть предмет нашего специального исследования вещью или деятельностью — это безразлично. Дело не в этом различении, а скорее в понимании того, что различие между вещью и деятельностью здесь не имеет большого значения.
Современное естествознание все бытие сводит к движению. Впрочем, это и без того давно известно и стало аксиомой, что даже скалы не стоят неподвижно, но находятся в процессе движения, возникновения и исчезновения.
Наше познание, наш интеллект есть деятельный предмет, предметная деятельность, подобно солнечному лучу, потоку воды, растущему дереву, выветривающемуся камню или какому-нибудь другому явлению природы. Познание, мышление, зарождающееся в нашей голове, — безразлично, произвольно или непроизвольно, — является также восприятием, столь же несомненно достоверным, как и любое наиматериальнейшее восприятие. Тот факт, что мы воспринимаем познавательную, мыслящую, интеллектуальную деятельность при помощи внутреннего, а не внешнего чувства, ни в коем случае не может поколебать наше утверждение о чувственной данности этой деятельности. Пусть камень существует во-вне, а мышление внутри. Разве это незначительное различие может что-либо изменить в том несомненном факте, что оба эти восприятия одного характера, именно чувственного характера? Почему не причислить мыслительную деятельность к одной категории с деятельностью сердца? И если биение сердца есть внутреннее действие, а вибрация голоса — внешнее, то что же может мешать нам связать эти два столь весьма различных вида вибрации в высшем единстве естественных материальных процессов?
Итак, если сердечная функция может удостоиться названия материальной функции, то почему же это не может иметь места по отношению к мозговой функции? Правда, этому мешает обычная разговорная речь. Но ведь следует заметить, что любая наука вследствие постоянного развития вступает в затяжной конфликт с разговорной речью. Всякое новое открытие в жизни растений и животных заставляет изменять или вводить новую терминологию. Понятие материи до настоящего времени не является строго определенным, имея более или менее расплывчатое значение. Так как для плодотворного понимания мозговой функции настоятельно требуется вывести ее из-под метафизической рубрики и подвести ее затем под одну общую рубрику со всеми материальными вещами, то теперь спрашивается, как лучше всего назвать такое соединение? Дух и материя — это два вида одного рода. Как назвать виды и как назвать род? Для надлежащей ясности следует иметь три различных названия: по одному для каждого вида и одно общее, родовое название. Но так как дело здесь идет не столько о названии, сколько об освещении, которое не может обойтись без термина, то мы здесь не станем догматически упорствовать в нашем утверждении, что познание «материально». Достаточно указать, что как мозговая, так и сердечная деятельность принадлежат к одному общему роду, все равно, называть ли эту деятельность материальной, реальной, физической или давать ей какое-нибудь другое название. Пока не выработаются в языке определенные термины, все эти названия будут одинаково точны и одинаково обманчивы.
Изложение достижений в области философской мысли, сводящихся к тому, что теория познания занесена в одну рубрику вместе со всеми другими теориями, чрезвычайно затрудняется стихийной путаницей понятий, которой соответствует такая же путаница в терминологии. В специальных отраслях физического и умственного, научного, труда теперь установлена уже определенная терминология, между тем как в повседневной жизни и в науке вообще господствует полнейшая неразбериха как в понятиях, так и в терминологии, выражающей эти неуклюжие понятия.
Где познание ясно, там ясна и речь. Кто не имеет ясного представления о сапожном ремесле, тот не знает и его терминологии. Это вовсе не значит, что знание какой-нибудь специальности и знание ее терминологии совпадают. Я лишь указываю на их взаимную связь, и только.
И если читатель имеет представление о колоссальной работе философии на протяжении более чем двух тысячелетий, проведенной для того, чтобы добыть то немногое в области теории познания, что мы теперь имеем, то он не удивится, что нам при изложении своих мыслей приходится сталкиваться с путаницей в терминологии.
Мозговая функция так же материальна, как и сердечная функция. Сердце и его функция различны, и тем не менее они настолько взаимно связаны, что одно не может существовать без другого. Можно, конечно, до известной степени чувствовать самое функцию. Мы слышим, например, биение сердца, чувствуем, как работает мозг. Биение сердца можно даже осязать, чего нельзя сказать относительно работы мозга. Было бы, однако, большой ошибкой думать, что знанием об осязаемости сердечной функции исчерпывается уже вся наука о деятельности сердца. Раз уже мы отрешились от привычки проводить радикальное различие между вещами и обращаем уже теперь свое внимание не только на различие вещей, «но и на их неразрывную связь, то становится понятным, что область наших возможных знаний о деятельности сердца бесконечна и связана со всеми остальными отраслями знания. Сердце не может работать без крови, кровь — без известного питания, которое связано с воздухом, растениями, животными, солнцем и луной.
Точно так же неотделима от вселенной и работа мозга вместе с ее продуктом — познанием. Здоровая кровь, являясь продуктом деятельности сердца, в такой же степени представляет собой материальное явление, как и всякая богатая знанием наука, являющаяся продуктом жизнедеятельности мозга.
Несмотря на то, что учение о материальной природе познания мы излагаем здесь как достижения философии, мы все-таки не хотим этим сказать, что победителем в сфере философской мысли был тот односторонний материализм, который со времени XVIII столетия претендует играть господствующую роль в науке. Наоборот, этот механический материализм отрицает самую постановку этой проблемы, о которой здесь идет речь. Он учит, что мыслительная функция есть свойство мозга, что объектом исследования является только мозг. Констатируя это свойство как таковое, материалисты считают уже исчерпанным вопрос о мыслительной функции. Этот материализм настолько преклоняется перед механикой, что чуть ли ее не обожествляет. Он рассматривает ее не как часть мира, а как единственную субстанцию, в которой растворяется вся вселенная. Именно потому, что этот материализм совершенно превратно понимает отношение между вещью и свойством, субъектом и предикатом, ему и в голову не приходит, что как раз именно это отношение, с которым он обращается слишком просто и ненаучно, и может быть объектом, достойным исследования. Материалист старой школы слишком грубо мыслил, чтобы считать свойство познания вещью, заслуживающей специального научного исследования. В данном случае мы следуем указанию старика Спинозы, который требовал от философа, чтобы он все и вся рассматривал и наблюдал «Sub speciae aeternitatis»[14] и тогда окажется, что все осязаемые вещи, вроде мозга, — свойства природы, а с другой стороны, мнимые свойства — естественные вещи, субстанциальные части вселенной.
Не только все осязаемое есть «вещь». К этой же категории относятся и солнечные лучи, и запах цветов, и наши знания. Но все эти «вещи» — только относительные вещи, вещи постольку, поскольку они являются свойствами единого, абсолютного, которое и есть единственная вещь — вещь в себе, всем и каждому хорошо известная под именем вселенной, или космоса.
9. Четыре основных закона логики
Если цель этого трактата изложить аквизит философии, то читатель во всяком случае вправе потребовать от автора доказательства того, что ему, вместо квинт-эссенции тысячелетней философской работы, не преподносят переработки какого-нибудь одного философа или даже собственной персоны автора.
На это я отвечаю так: цитатами и выдержками из произведений наиболее известных философов я без надобности лишь увеличил бы объем своего труда и все-таки ничего не доказал бы, потому что слова одного философа очень часто противоречат словам другого.
И также то, что говорит Кант, Фихте, Шеллинг или Гегель в одном месте своих произведений, то ими же в другом месте если и не отрицается прямо, то все же значительно видоизменяется. Совершенно неважно, каким путем и через кого я пришел к излагаемому здесь аквизиту философии. Есть ли это на самом деле аквизит или нет, об этом может судить только специалист, да к тому же ведь мнение может быть только субъективным.
Ввиду этого я как автор должен настаивать на том, что мое решение имеет такое же значение, как и решение всякого другого автора, и читатель должен поэтому удовлетвориться тем, что я говорю. Что же касается ценности моих выводов, то, я думаю, любой читатель может судить о правильности моих взглядов, так как предмет моего изложения отличается той особенностью, что всякий имеет дело с этим предметом, заключая его, так сказать, в себе, и, имея свой собственный опыт, может поэтому самостоятельно, без помощи других авторов, разобраться во всем этом, если только у него есть необходимый навык в мышлении. То, что рассказывают нам путешественники о Центральной Африке, мы должны проверять рассказами других путешественников, если только не верить им на слово. Но то, что я здесь говорю о логике, смею думать, найдет свое доказательство в логике всякого мыслящего читателя.
Теория познания, ставшая специальным предметом философии, есть не что иное, да и не может быть ничем иным, как только расширенной логикой. Многие практические правила и законы, относящиеся к этой области, известны и признаны еще со времен Аристотеля. Однако вопрос о том, существует ли один или два мира — естественный и неестественный, или, как любят некоторые говорить, сверхъестественный, — и теперь еще является вопросом, над которым ломают себе голову философы. И пока он не будет решен, он по-прежнему будет нарушать нормальный ход логического мышления.
Доктор Фридрих Диттес, директор педагогического института в Вене, опубликовал выдержавшее несколько изданий сочинение «Школа педагогики», где, между прочим, о логике трактуется довольно подробно. Диттес благодаря своим сочинениям получил известность и репутацию заслуженного педагога. В своей «Школе педагогики» он ограничивается изложением того, что является самым общепризнанным и несомненным. Как человек практики, которому приходится иметь дело, главным образом, с учителями народной школы, он, если бы даже мог, не пожелал бы стать на высоту современных выводов философии. Он должен был ограничиться сообщением самых бесспорных истин, что уже давным-давно перестало быть вопросом злободневной полемики и чем мы можем воспользоваться как подходящим материалом для всестороннего и возможно полного выяснения философского аквизита.
Уже в введении к первой части его книги мы читаем: «Наши представления так же разнообразны, как и представляемые нами объекты. Некоторые вещи имеют между собой много или немного общих признаков или даже всего один какой-нибудь общий признак, но они могут также быть абсолютно различны».
Последнее утверждение, именно, что могут быть вещи, «абсолютно» различные между собой, решительно отрицается той наукой, которая возвысилась до аквизита философии. Естественные вещи не могут быть «абсолютно» различны, ибо ведь все они имеют хотя бы один общий признак «естественности», «естественный» предикат.
В сущности, довольно-таки элементарная истина, что в природе нет сверхъестественных вещей. С тех пор как была сожжена последняя колдунья, это очевидно для всякого более или менее просвещенного человека. И все же еще не сделаны все надлежащие выводы из естественнонаучного монизма, хотя естествознание, в тесном смысле этого слова, и работает теперь над этим. Еще больший дуализм господствует в так называемых «духовных науках». Единственным выходом может быть здесь обоснованная теория познания, которая учит, что природа является не только абсолютной природой, но и природой абсолютного. Из этого учения необходимо следует вывод, что все вещи представляют собой не обособленные, независимые друг от друга вещи, но одно родственное поколение родственных и зависимых друг от друга детей, «предикаты» монистического мирового единства.
«Первоисточником человеческого духа, — говорит Диттес, — является восприятие... Открывает ли нам восприятие как таковое истинную сущность вещей или же оно знакомит нас только с явлениями этих вещей, — это исследование не входит в задачу логики». — Педагог-практик, который ставит себе одну цель — воспитание юношества — и во всяком случае хочет только воздействовать на учителей, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, такой педагог имеет полное право ограничиться изложением старой, аристотелевской, формальной логики. Но для жизненной школы, воспитывающей все человечество, эта логика недостаточна. Поэтому философы немало трудились над разрешением вопроса, является ли восприятие — этот «первоисточник человеческого духа» — истинным или же обманчивым источником. Излагаемые здесь нами результаты философского исследования подтверждают ту мысль, что логика пребывала в полном заблуждении относительно «первоисточника».
Основной ошибкой со стороны старой логики было считать восприятие первоисточником, откуда человеческий дух черпает свои знания. Первоисточником является природа, и наше восприятие есть не более как только посредник. Продукт восприятия — познанная истина — это не настоящая истина, а только формальный образ этой истины. Универсальная природа — вот что является первоисточником. Она есть вечная, непреходящая истина, и наше познание, как и всякая другая часть универсального бытия, есть только атрибут, частное явление абсолютной природы. Человеческий дух, с природой которого имеет дело логика, столь же мало представляет собой самостоятельную вещь, как и все существующее в природе. Человеческий дух — это явление, естественное явление, или естественный предикат.
Смешать истинные познания или познанные истины с единой универсальной истиной, являющейся nec plus ultra всякой истины, это значит превратить воробья в универсальную птицу или принять какой-нибудь один период культуры за культуру вообще. Но это положило бы конец всякому дальнейшему развитию.
Философия нового времени, начиная с Бэкона Веруламского и кончая Гегелем, ведет постоянную борьбу с логикой Аристотеля. Результат этой борьбы — аквизит философии, не отрицает старых положений традиционной логики, но дополняет их новой, значительно высшей формой логического познания. Для более удобного понимания следовало бы рекомендовать этому новому кругу логического познания дать какое-нибудь особое, специальное название, вроде «теории познания», известной также под именем «диалектики».
Чтобы оценить и выяснить сущность философского аквизита сравнительно с основными законами известной нам логики, я еще раз обращаюсь к учителю элементарной логики, к примитивному логику Диттесу.
В отделе «основных правил суждения» он говорит следующее: «Так как суждение, как и всякое мышление вообще, имеет в виду познание истины, то люди изучили правила, следуя которым можно было бы достигнуть этой цели. Установлено четыре следующих общезначимых правила, положения, или закона мышления:
- закон тождества (идентичности),
- закон противоречия,
- закон исключенного третьего,
- закон достаточного основания».
Эти четыре «положения» вызвали столько схоластических рассуждений, что я с большим трудом могу заставить себя подвергнуть их более детальному рассмотрению. Однако ввиду того, что моя цель, изложение философского аквизита, состоит в том, чтобы пролить новый свет на логику, содержащуюся в этих четырех законах или положениях, я должен выяснить сущность этой логики.
Итак, первое основное правило гласит: А есть А, или, выражаясь языком математики, всякая величина равна самой себе. Проще говоря, каждая вещь есть то, что она есть; нет вещи, которая не была бы тем, что она есть. «Нельзя приписывать понятию признаки, которые из него исключены». Понятие круга исключает понятие четырехугольника, поэтому кругу нельзя приписывать предикат четырехугольности. По тому же самому прямая линия не может быть кривой и ложь не может быть истиной.
В домашнем обиходе этот «логический закон» имеет несомненное значение. Здесь приходится иметь дело с известными величинами. Вещь есть то, что она есть. Правая сторона не есть левая, и сто не есть тысяча. Кого зовут Петром или Павлом, тот на всю жизнь останется Петром или Павлом.
Я говорю — так дело обстоит в домашнем обиходе. Если же мы попробуем посмотреть на дело под более широким углом зрения космической жизни, то знаменитый логический закон оказывается не более как только логическим вспомогательным средством, которое не является адекватным природе вещей, но существует лишь для того, чтобы мы, люди, могли понимать друг друга. Потому левый берег Рейна не есть правый берег, что мы заранее уже условились, что при определении берега реки нужно стоять спиной к верховью и лицом к устью. Таким образом, мы отличаем правый берег от левого, исходя из данного, определенного положения. Подобный способ различения, мышления и суждения хорош и практичен только до тех пор, пока эта ограниченная точка зрения сопровождается сознанием своей ограниченности. До настоящего времени она не была таковой. Эта детерминированная логика просмотрела тот факт, что познание, получаемое ею с помощью ее правил, не является истиной, не является реальным миром, но дает лишь очертание идеального, т. е. более или менее верного образа этого мира. Петр и Павел, которые по закону тождества в продолжение всей своей жизни остаются Петром и Павлом, на самом деле в каждый данный момент испытывают изменения и, подобно им, вообще все вещи в мире представляют собой не постоянные, но безусловно меняющиеся величины. Математическая точка, прямая линия и круг — это идеальные величины. В действительности же всякая точка занимает известное пространство, всякая прямая линия, если рассматривать ее в увеличительное стекло, состоит из бесконечного множества искривлений, и самый круглый круг, как это утверждают математики, в действительности состоит из бесконечного множества прямых.
Итак, своим законом тождества, или, как говорит Диттес, «законом единообразия», логика объясняет, что Петр и Павел от начала до конца своей жизни остаются теми же людьми или что Вестервальд остается тем же самым Вестервальдом, пока он вообще существует. Аквизит философии, теория познания, или диалектика, нам, однако, говорит, что единообразие людей, лесов и гранитных скал неразрывно связано с их противоположностью, бесконечной изменяемостью. Старая логика трактует о вещах, объектах нашего познания, как о застывших ледяных сосульках, между тем как философски разработанная логика считает такой взгляд на вещи правильным лишь в общежитейском обиходе. Читатель, надеюсь, не поймет это выражение превратно и не примет его в буквальном смысле. Использование логикой в повседневных делах застывших понятий распространяется, будет и должно распространяться на все сферы знания. Ни в каком случае нельзя обойтись без рассмотрения вещей как чего-то тождественного, и тем не менее наряду с этим весьма полезно знать и помнить, что вещи — не только нечто тождественное и застывшее, но в то же время и нечто изменчивое и текучее. Это — противоречие, но противоречие не бессмысленное. Оно сбило с толку немало великих умов и доставило философам страшно много работы. В разрешении этой проблемы, в уяснении этого естественного факта и состоит аквизит философии.
Я только что указал, что логика до настоящего времени не знала, что познание, получаемое ею с помощью ее основных законов, дает нам не истину, а только лишь более или менее верную ее копию. Я затем утверждал, что аквизит, оставленный нам в наследство философией, более рельефно обрисовал нам облик человеческого духа. Логика желает быть «учением о формах и законах мышления». На то же самое претендует и философское наследство — диалектика, первый параграф которой гласит: истину производит не мышление, а бытие, частью которого является мышление, дающее нам отображение истины. Отсюда вытекает затем тот легко вводящий в заблуждение читателя факт, что философия, обогащенная логической диалектикой или диалектической логикой, должна заниматься изучением не только мышления, но также и оригинала, с которого мышление снимает свои копии.
Итак, если первый закон традиционной логики учит, что вещи равны самим себе, то первый параграф диалектики говорит, что вещи не только равны самим себе и единообразны от начала до конца, но что они по своей природе противоречивы — единообразны и в то же время разнообразны. И если, с одной стороны, закон мышления выражается в том, что мы с помощью мыслей создаем себе по возможности верные образы вещей, то, с другой стороны, тот же самый закон мышления учит, что все без исключения вещи, процессы и явления не суть вещи, но что они подобны окраске шелка, который хотя и остается всегда равным самому себе, или единообразным, но все-таки имеет различные оттенки в своем отливе. Вещам, к которым принадлежит мыслящая вещь, или человеческий интеллект, так мало от начала до конца свойственно исключительное единообразие, что они не имеют в действительности ни начала, ни конца: как естественные явления, как явления бесконечной природы, они только по видимости имеют начало и конец, являясь в действительности лишь изменениями, которые по временам всплывают на поверхность из глубины бесконечной природы и снова в ней исчезают.
Не имеющая ни начала, ни конца естественная истина, или истинная природа, настолько противоречива, что может обнаруживаться только в явлениях, которые тем не менее вполне действительные явления. С точки зрения старой логики, это противоречие кажется бессмыслицей. Старая логика опирается на свои три закона: закон единообразия, закон противоречия и закон исключенного третьего, который допускает кривую или прямую линию, тепло или холод и который исключает всякое промежуточное состояние. Да, она права! В житейском обиходе имению так строго и определенно следует обращаться с мыслями и словами. Но в то же время не мешает помнить, что в действительности, как учит аквизит философии, все совершается не так точно, не так уж идеально. Законы логики фиксируют правильно мысли, их формы и их практическое применение, но они не исчерпывают всего, что правильно по отношению к мышлению и его идеям. В них нет сознания неисчерпаемости всех естественных творений, к чему относится также и объект логики, человеческая способность познания. Этот объект не свалился с неба, а представляет собой конечную часть бесконечного; на самом деле он противоречив по самой своей природе, обладая наряду и вместе со своей специальной, логической, природой еще и общей природной сущностью, возвышающейся над всякой логикой.
Критика первых трех «основных законов логики» показывает, что познавательная способность человека не является повсюду и всегда только единообразной. Она видоизменяется в каждом данном индивидууме и подчинена историческому развитию. Мы, конечно, логически вправе нашу способность познания, как и всякую другую способность, фиксировать в каждом данном случае, отмечая момент ее возникновения. С рождением человека нарождается также и его познание, процесс его мышления. Но с точки зрения философии или диалектики мы не менее правы и даже обязаны знать, что способность познания, как и ее носитель — человек, не имеет начала, хотя мы ему таковое и приписываем. Если мы проследим историческое развитие человека и его способности познания ретроспективно, вплоть до момента их возникновения, то мы придем к переходному периоду — животному состоянию, где мы можем наблюдать, как специальный вид природы сливается с универсальной природой. То же самое мы увидим, наблюдая развитие индивидуального духа. Когда у ребенка пробуждается сознание? До или после рождения или же при самом рождении? Сознание возникает из своей противоположности, из бессознательного, и снова возвращается туда же. Сообразно с этим бессознательное мы считаем субстанцией, а сознание — предикатом, или атрибутом бессознательного. Устойчивые же понятия, которые мы составляем себе о частностях, или явлениях природной субстанции, являются с нашей точки зрения необходимым вспомогательным средством для объяснения природы. Но для достижения этой последней цели мы должны изучить диалектику, чтобы понять, как все наши твердые понятия проникнуты насквозь текучей стихией. Бесконечная субстанция природы — абсолютно текучая стихия, где все твердое всплывает на поверхность и снова исчезает. И поэтому временно оно является устойчивым и в то же время, в конце концов, все же совсем неустойчивым.
Рассмотрим теперь вкратце сущность четвертого основного закона логики, по которому все должно иметь свое достаточное основание. И этот закон, конечно, заслуживает внимания и уважения. И тем не менее он все-таки недостаточен, потому что на вопрос, в какой форме мы должны мыслить мир и что такое представляет собой высокоразвитая способность мышления, мы можем дать такой ответ: мир, в котором все, включая и наше сознание или способность мышления, имеет свое достаточное основание, есть все-таки сущность, не имеющая ни начала, ни конца, не имеющая также основания, т. е. он сам в себе и сам собой представляет обоснованную сущность. Закон достаточного основания имеет силу лишь постольку, поскольку человек создает образы мира. В наших логических образах о мире все должно иметь свое достаточное основание. Сам же оригинал, универсальный космос, не имеет никакого основания. Он сам для себя является основанием и следствием, причиной и действием. Понимание того, что все основания покоятся на не имеющей основания сущности, есть наивысшая диалектическая истина, впервые проливающая настоящий свет на закон достаточного основания.
С формальной точки зрения все должно иметь известную причину и известное основание; с реальной же точки зрения каждая вещь имеет не одно, а бесконечно много оснований. Не только отец и мать являются основанием и причиной моего бытия, но также и мои деды и прадеды, равно как и воздух, которым они дышали, пища, которую они употребляли, земля, на которой они жили, солнце, которое освещает землю, и т. д. Ни одна вещь, ни один процесс, ни одно изменение в мире не является достаточным основанием по отношению к другой вещи, к другому процессу, к другому изменению, напротив, все и вся основывается на вселенной, которая абсолютна.
Как только философия начала свой жизненный путь с целью познать мир, она тотчас же открыла, что осуществить эту задачу можно лишь путем особого, специального исследования. Избрав затем объектом своего исследования специальную область познания или мышления, философия слишком резко отделила свою частную задачу от всей совокупности бытия. Противопоставляя мышление всем другим формам бытия, философская логика позабыла связь противоположностей, позабыла, что мышление есть форма, разновидность, индивидуальность, принадлежащая к одному роду бытия, подобно тому как рыба принадлежит к роду мяса, ночь — к роду дня, искусство — к природе, слово — к делу и смерть — к жизни. Она не удовлетворяется исследованием сущности мышления ради самого исследования, но поставила себе целью открыть правила, руководствуясь которыми можно было бы проводить точные и верные исследования и безошибочно мыслить. Она не могла получить эти желанные правила, чрезмерно идеализируя истину и неумеренно возвышая ее над явлениями мира. Все природные явления суть подлинные куски мира или части истины. Даже заблуждение и ложь нельзя противопоставлять истине как нечто абсолютно различное, в чем повинна старая логика, которая учит, что два противоречащих друг другу предиката не могут быть одновременно предикатами того же субъекта, что каждый субъект является или истинным или ложным и всякая третья возможность исключается. Эти утверждения объясняются полным непониманием того, что такое истина. Истина — это абсолютная, универсальная сумма всего бытия, всех явлений в настоящем, прошедшем и будущем. Истина — это подлинная вселенная, откуда не исключаются также и ложь и заблуждение. Поскольку фантастические идеи, люди-великаны и гномы-невидимки, ложь и заблуждение действительно существуют, хотя бы только в человеческой голове, — они являются истиной. Они принадлежат к общей сумме всех явлений мира, но сами они не представляют собой всей истины, ее бесконечной суммы. И самые достоверные наши знания не более, как только удачные образы тех или других кусков мира. Мысленные образы имеют то общее со своими оригиналами, что те и другие являются подлинными частями. Всякое заблуждение и всякая ложь истинны в своем заблуждении и в своей лжи, и, следовательно, они не так уж далеки от истины, чтобы одно из них можно было возвысить до небес, а другое низвергнуть в ад. Будем же человечны!
Итак, ввиду того, что четыре закона старой логики оказались ограниченными, дальнейшее развитие ее должно было привести к диалектике, составляющей аквизит философии. Это расширенное учение о мышлении истолковывает, таким образом, вселенную как истинно универсальное или бесконечное, где дремлют все противоречия в материнском лоне примирения. Сохранит ли новая логика свое старое имя или же она должна иметь свое особое название теории познания или диалектики, — это спор из-за слов, который решается просто в зависимости от целесообразности.
10. Функция познания в области религии
Мы исходили из характеристики философии как науки, стремящейся к «познанию». Первое, самое главное, что она приобрела, — это знание того, что она не должна искать свой объект в расплывчатых абстракциях. Кто хочет приобрести познание, тот должен остановиться на изучении чего-нибудь специального, но при этом он не должен терять из виду общей перспективы и должен соблюдать известную меру и цель, чтобы, изучая частное и конечное, не забыть общее и бесконечное.
Один современный психолог, занимающийся «мыслями о Просвещении», — темой, повидимому, родственной нашей теме о познании, — говорит: «Действительно и истинно лишь то просвещение, которое руководствуется религиозными мотивами». В переводе на наш язык это значит: в основе всякого достоверного познания, всякого истинного понятия или всего правильно понятого должно лежать в качестве первоосновы ясное сознание вселенной, бесконечного.
Познание и истинное просвещение совпадают. «Всякое просвещение принимает ту или другую форму борьбы, — говорит автор «Мыслей о просвещении», — в зависимости от того, кто должен быть просвещен и в чем именно; но это борьба не против, а за религию». В предисловии автор — имеется в виду профессор Лацарус — говорит нам, что он не хотел бы, чтобы критики его сочинения основывали свой приговор на отдельных, вырванных из его книги положениях. «Всякое отдельное положение может обсуждаться с точки зрения его ценности, но нельзя, исходя отсюда, нарисовать общую картину моих взглядов на религию и просвещение».
Ввиду того, что подобное желание автора совершенно справедливо, гарантией чего может служить его психологический этюд о просвещении, мы последуем его приглашению и постараемся понять его рассуждения о религиозной природе просвещения в целом, не останавливаясь на отдельных положениях.
Мы сделаем еще шаг вперед по сравнению с профессором Лацарусом, распространив то, что он говорит относительно просвещения, на область познания; ведь подлинное знание и истина до известной степени должны исходить из религиозных мотивов. Но мы несколько расходимся во взгляде на то, что считать «религиозным» мотивом. Лацарус, насколько я мог убедиться, понимает под этим «идеи» и идеальное, между тем как мы, побуждаемые достижениями философии, под религией и религиозным понимаем универсальную связь всех вещей.
Несомненно, разграничение холода от тепла сделано человеком по собственному желанию, для чего был выбран момент, когда вода покрывается льдом. Очевидно, можно было выбрать и другой какой-нибудь момент. Ясно, что как природа не определила границ между теплом и холодом, точно так же нет определенной черты, которая разграничила бы религиозное от нерелигиозного. Никакая академия не решила еще этого вопроса, никакая практика языка, да и сам папа не является научным авторитетом в этой области.
Только благодаря так называемой исторической школе вошло в употребление исследовать вещь не только в ее настоящем бытии, но также и в процессе ее возникновения и исчезновения. Что же тогда, согласно с таким взглядом, будет называться религией и религиозным? Фетишизм, культ животных, культ идеального, божественного, творческого духа или культ реального, человеческого духа? С чего начать и где кончить? Если у древних германцев большой дуб считался священным и религиозным, то почему же современные немцы не могут считать религиозными науку и искусство? В этом смысле Лацарус вполне прав. «Просвещение», во главе которого во Франции стояли Вольтер и энциклопедисты, в Германии — Лессинг и Кант, «просвещение», которое выставлялось как борьба за разум и против религии, являлось в сущности борьбой не против, а за религию. Так из всего можно сделать все, что угодно. Вот из этого мы должны исходить, чтобы знать, как «следует упорядочивать наши понятия, и твердо помнить, что не только все есть все, но и что все в отдельности остается на своем собственном месте.
Мы хотим уяснить себе, как возможно и совместимо с ясными понятиями то, что такая антирелигиозная борьба, какая была в эпоху «просвещения», все-таки могла быть в то же время борьбой за религию и во имя ее интересов. Мы хотим уяснить себе, как можно уничтожить религию и в то же время сохранить ее.
Это очень легко можно понять, если только вспомнить уже не раз упоминавшийся нами диалектический закон, по которому наше познание никогда не должно преувеличивать имеющееся различие между двумя вещами. Мы не должны toto coelo проводить различие между религиозной и нерелигиозной сферой. Правда, первая находится на небе, а вторая, само собой разумеется, на земле. Но после того как стало очевидным, что религиозная фантастика, фантастическое небо и творческий дух, несмотря на их мнимую трансцендентность, являются не более, как простыми, естественными представлениями, после того как, следовательно, религия попала в земную область, — эта последняя точно так же стала религиозной. Религиозная и простая нерелигиозная бесконечность имеют между собой кое-что общее, по крайней мере в том отношении, что неопределенный термин «религиозность» можно, не задумываясь, перенести на естественную бесконечность.
«Всякая культура, каждая ступень в развитии всего человечества или одного народа имеет свои корни в истории, но также и свои оковы», — очень метко замечает наш профессор психологии. Но если это так, то не должна ли также и религия, которая, по словам одного императора[15], «должна быть сохранена для народа», иметь свои оковы в истории? Или же она относится к области бесконечного и должна жить вечно? Чтобы снять оковы с истории, нужно сперва заручиться аквизитом философии и доказать, что нет ничего бесконечного, кроме самой бесконечности, обладающей двойственной природой — быть неотделимой от преходящих явлений природы. Природа вечна в целом, но не в отдельных своих явлениях, хотя вечная природа и состоит из отдельных преходящих явлений.
Составить себе верное представление об отношении устойчивого целого природы к ее подвижным явлениям, об отношении общего к частностям, из которых состоит это общее, — это значит также составить себе правильное представление о человеческом духе, о познании и просвещении, которое он нам дает. Человеческий дух не в состоянии разъяснить себе свою специальную сущность, не учитывая специальных особенностей других вещей. Так, мы видим, что наш дух уяснил себе религиозные явления, рассматривая их как момент, как разновидность универсального проявления вечного, постоянного и естественного мирового бытия. В этом смысле естественная природа, будучи вечной и в то же время временной, является матерью религиозной природы. Но при этом и дитя обладает природой матери. Религия исторически развивается из природы. Но определить дату исторического возникновения религии предоставляется всецело свободному усмотрению человека, точно так же как и определить момент, когда холодное становится теплым. Естественное, всеобщее движение, из которого возникают все виды частных движений, бесконечно во времени. Изменения в природе происходят так постепенно, что всякий прочно установленный момент является произвольным актом, произвольным и тем не менее все-таки необходимым, необходимым именно для человека, желающего иметь о нем известное представление. Правильное представление о религии должно проникнуть, следовательно, в самую сердцевину, туда, где религиозная сфера доходит до своей характерной точки, находится, так сказать, на точке замерзания. На таком уровне тепло и холод следует резко разграничивать. То же самое приложимо и к религии. Если мы, например, скажем, что религия есть представление о сверхъестественном духе, повелителе природы, и читатель найдет такое определение более или менее удачным, то уже одно наше изложение философских завоеваний в области диалектики или теории познания показывает, что религиозное сознание несостоятельно в этом мире человеческого духа, которому доступно осмысленное представление о своем опыте.
Кто желает сохранить для народа религию как нечто твердо определенное и установленное, тот идет против всякой логики, плывет против течения. С другой стороны, точно так же нелогично отождествлять, подобно Лацарусу, религию с понятием о естественной бесконечности, или бесконечной природе, потому что все это ведет лишь к духовной расплывчатости.
Добытые философским исследованием законы мышления достаточно объясняют нам бесконечный материальный процесс развития, природа которого достаточно возвышена, чтобы смотреть на нее с религиозным чувством, но в то же время и достаточно проста, чтобы глядеть на нее трезвыми и ясными глазами.
В предыдущей главе мы уже видели, что для обозначения правого и левого берега реки нужно предварительно условиться относительно места наблюдения. Точно так же дело обстоит и в том случае, когда говорят, что можно бороться с религией и все же сохранять ее для народа. Достаточно для этого лишь расширить ее понятие до бесконечности. Понятие о бесконечном, которое Спиноза называет субстанцией, Лейбниц — монадой, Кант — вещью в себе, Гегель — абсолютом, конечно, необходимо, чтобы извлечь какие-либо познания не только из четвероякого, но и из бесконечного корня достаточного основания[16]. И в этом смысле мы, следовательно, согласны с тем, что «просвещение» или, как мы говорим, познание является борьбой не только против религии, но и за религию. Теория познания, завоеванная философией, дает решительный отпор религии. И все-таки мы скажем вместе с Лацарусом: «Сила просвещения и цель его не в отрицании, не в том, во что не верят, но в разъяснении того, во что верят, что чтут и с чем сохраняют преемственность». И тем не менее всякое просвещенное знание, всякое связанное с познанием просвещение есть уже отрицание. Если, например, мы хотим уяснить себе сущность познания, то мы должны для доказательства его естественной природы отрицать религиозный элемент, поскольку он предполагает существование высшего, божественного духа, отображением которого якобы является человеческий дух. Точно так же, если мы хотим уяснить себе сущность вселенной, если мы хотим знать, каким образом она является универсальной, подлинной вселенной, то мы должны отрицать существование какого бы то ни было «высшего» мира, а, следовательно, также и мира религиозного. Если же мы хотим уяснить себе сущность религии так, чтобы ее можно было отрицать и в то же время сохранить, то мы должны перенести ее происхождение из нелогического, потустороннего мира в мир естественный, логический. Тем самым религия становится естественной и природа религиозной.
Если ограничить служение богу обожествлением солнца или кошки, то всякому очевидна недолговечность подобного обожествления. Если затем служение богу ограничить благоговейным преклонением перед великим, всемогущим духом, то недолговечность этого преклонения знает всякий, кто вполне ознакомился с природой скромного человеческого духа. Если же распространить религиозное почитание на все, перед чем люди когда-либо преклонялись и будут преклоняться, если распространить понятие религии на весь мир, то тогда, разумеется, религия получит весьма расширенное значение.
Мы можем теперь по собственному желанию расширять и суживать свои понятия, мы знаем теперь, что все вещи имеют между собой так много общего по своей природе, что все они вместе составляют лишь одну вещь, одну природу и, далее, что все наши фантастические образы, все добрые и злые духи и призраки, хотя бы они и мыслились как нечто сверхъестественное, все-таки естественны, — вот в уяснении всего этого и состоит сущность религиозного просвещения.
Смысл философского просвещения сводится к признанию того факта, что люди высоко ценят свои познания, просвещение, науки и т. д. не ради них самих; напротив, просвещение, познание, наука и т. д. должны служить на пользу развития человечества, материальные интересы которого требуют верного, духовного отображения естественных явлений.
В этой главе мы подвергли рассмотрению религиозное мышление, как пример, который может нам объяснить природу мысли вообще. Раскрытие и уяснение этой природы мы считаем философским аквизитом.
Иметь дело с профессором Лацарусом очень приятно. Это человек с тонким умом. Он прекрасно знаком с учениями философов, не увлекается чрезмерно одной какой-нибудь отдельной школой и по своим взглядам на познание весьма близко подходит к тому, что мы здесь излагаем. Но этой разницы как раз достаточно, чтобы на недостатках его взглядов показать преимущества нашей точки зрения, удостоверяющей, что мы по сравнению с знаменитым психологом пошли несколько дальше в понимании того, как человеческая душа выполняет мыслительную работу.
«Изучить и по достоинству оценить закон, который нам говорит, что не может быть явления как действия, которому не соответствовало бы другое явление в качестве причины; далее, найти для каждого действия единственную причину и, так как эта причина сложна и многообразна, изучить ее во всех ее частях и в порядке преемственности, — вот к чему сводится задача просвещения».
Этими словами работа мышления, совершающаяся в нашей голове, описана неплохо, но все-таки необходимо сделать маленькое добавление — именно то, что наш мыслительный процесс не составляет исключения из круга других явлений, которые все вместе имеют не только свою специальную причину, но также и одну общую всем универсальную причину. Причина всех причин, из которой религия делает какой-то фетиш, обязательно и неизбежно должна быть, так сказать, секуляризирована культом науки. С этим добавлением вышеприведенное определение просвещения, сделанное Лацарусом, будет означать следующее:
Единственной и подлинной причиной всех действий является вселенная или всеобщая взаимная связь всех вещей. Но для просвещения еще далеко не достаточно знать это. Нужно, как метко замечает Лацарус, познать первопричину «во всех ее частях и в последовательности всех ее звеньев». Мы же к этому прибавим, что одна, общая всем действиям, универсальная причина должна быть познана не только в ее последовательных звеньях, но и в порядке их «сосуществования». Только тогда познание, просвещение будет вполне законченным. И тогда мы увидим, что вообще различие между причиной и действием, между универсальной истиной и ее естественными проявлениями является отнюдь не абсолютным, но лишь относительным различием.
«Просвещение проявляется во всех, самых разнообразных областях духовной жизни. Но уже издавна под просвещением разумели главным образом религиозное просвещение. Это вполне естественно, и по многим причинам, в особенности же потому, что религиозное просвещение — наиболее важно и существенно, и именно поэтому вопрос о нем является самым спорным».
Итак, религиозное познание составляет часть универсального, космического просвещения. «Ограничивать его областью духовной жизни» — это просто путанная фразеология. Мы думаем, что проясним суть дела, если скажем, что это просвещение приложимо ко всем областям, не только к духовной, но и к космической, которая охватывает материальную и духовную область как нечто единое. В расчленении или разделении этой области и состоит вся задача, весь смысл нашего познания.
11. Категория причины и действия как вспомогательное средство познания
Как нельзя выяснить сущность какого-нибудь ручного труда, оставляя вне рассмотрения обрабатываемый материал и получающийся в результате этой обработки продукт, как нельзя вообще говорить о каком-нибудь труде в его «чистом» виде, без отношения к продукту этого труда, точно так же нельзя исследовать умственный труд, субъективное свойство человеческого духа в его чистом виде, без отношения к его объективным действиям.
Печальный недостаток, который оставила нам в наследство старая логика и который тормозит ее дальнейшее развитие, это то, что она, так сказать, вырывает вещи из их взаимной связи и из-за необходимости отдельного их рассмотрения забывает их неустранимую взаимную связь.
Аппарат, с помощью которого наша голова создает мысли и знания, не является обособленной вещью, не является также каким-то обособленным свойством; он находится в связи не только с мозгом и нервной системой, но также и со всеми свойствами человеческой души. Правда, мышление не есть чувство или ощущение, и все же оно представляет собой такое же чувство и ощущение, каким является, например, сердечная радость и грусть. Мышление обыкновенно называют непостижимым, а сердце — непроницаемым. Понять непостижимое и проникнуть в непроницаемое — это дело науки, дело мышления и его мыслей.
Как мышление и познание составляют часть души, так и душа составляет часть телесной и духовной природы человека. Вместе с телесным развитием человека, как отдельного индивида, так и всего человеческого рода, развивается так же и наша душа, равно как и та часть ее, с которой имеет дело теория познания, т. е. мысль, или мышление. И не только телесное развитие обусловливает духовное, но также и, наоборот, познание оказывает причинное воздействие на мир телесный. Здесь нет того, чтобы одно являлось причиной, другое действием. Имея в руках эту устаревшую уже теперь категорию, мы не в состоянии будем притти к пониманию взаимной связи явлений. Мы должны признать справедливым вышеприведенные «мысли о просвещении» профессора Лацаруса, который так близко подошел к вопросу об отношении между причиной и действием, что требовалось поставить лишь точку над i, чтобы устранить недоразумение.
Со времени Аристотеля это отношение называют «категорией». Мы уже слышали, что эпоха просвещения характеризуется обыкновенно как эпоха, которая выдвинула эту категорию или, как скажем мы, сделала точку зрения по вопросу об отношении причины к действию преобладающей. В другое время были другие категории, другое познание, другое мышление. Если древним грекам и была известна точка зрения причинности, то все же она была далека от того, чтобы стать преобладающей точкой зрения в их стремлении к научному знанию. И если мы рассматриваем теперь все как действие, которое имеет за собой известную причину, то древние греки, напротив, в каждой вещи, в каждом процессе, в каждом явлении видели средство, направленное к известной цели. У них господствовала категория средства и цели. Сократ высказывает удивление по поводу натурфилософии Анаксагора, который знает все, что следует рассказать о солнце, луне и звездах. Но так как Анаксагору все-таки не удалось открыть разумной цели в жизни природы, то Сократ не придавал большого значения такого рода науке. В то время средство и цель были мерилом разума, руководящим началом духа, категорией познания. Теперь все это заменила категория причины и действия.
Между эпохой расцвета греческой культуры и эрой современной науки лежит так называемый мрак средневековья — эпоха суеверий. Если бы ты в те времена отправился путешествовать и тебе прежде всего встретилась бы старуха, — быть в дороге беде, подумал бы ты. Как известно, Валленштейн гадал по звездам, прежде чем принять начальство над своими войсками. В то время знания приобретались на основании полета птиц, крика животных, расположения звезд на небе, встречи со старухой и т. д. Категорией познания в то время были примета и ее результат.
И это были вовсе не ограниченные умы, которые верили во все это, говорит Лацарус. «Я назову имя, пред которым все мы почтительно склоняем свои головы и которому все мы воздаем должное, — это Кеплер, — который вместе со своими современниками и предшественниками истекшего тысячелетия верил в астрологию, т. е. «категорию приметы и ее последствия». В течение многих столетий астрология была наукой, над которой работали те же лица, что и над астрономией».
В высшей степени характерным в данном случае является то, что категория приметы и ее последствия называется здесь «наукой». «Эта категория не имеет уже более места в современной науке».
Но разве наша современная точка зрения, категория, господствующая в современной науке, категория причины и действия, разве она не должна быть точно так же преходящим явлением?
Мыслители старого времени, несмотря на то, что они во всем старались найти «цель», оставили после себя бессмертные научные заслуги. Средневековое суеверие с его «приметами», с его астрологией и алхимией точно так же дало нам, хотя и небольшие, но все же ценные научные выводы. Ведь даже современная наука не отрешилась окончательно от всякого рода странных объяснений, что едва ли будут отрицать даже ее самые ярые поклонники.
Даже в настоящее время категории цели и средства предзнаменования и их последствия имеют действительное значение для очень многих людей и еще долго будут иметь силу наряду с категорией причины и следствия.
Взгляд, что преобладание этой последней категории есть лишь временное, историческое явление в науке, следует признать завоеванием философии, от которого прогрессивный профессор Лацарус отстал лишь незначительно.
Следует заметить, что здесь предсказывается гибель в будущем не самой категории причины и действия, а лишь ее преобладающему значению.
Кто слишком беспечно и не задумываясь плывет по волнам жизни, тот должен быть глубоко изумлен, когда он прочтет, что мы придаем категории причины и действия, этой фундаментальной основе всякого познания, тот же преходящий, временный характер, как и прежним прорицателям и звездочетам. Человек уж слишком склонен высмеивать веру других как «суеверие» и своему собственному суеверию давать титул «науки».
Как только мы выяснили себе, что наш интеллект ставит себе единственную цель — нарисовать картину космических процессов, как она рисуется людям, и что его проникновение в глубь природы, его познание, толкование, понимание, уразумение и т. д. этим только и ограничивается, тогда наш интеллект тотчас же теряет свой мистический, запредельный, метафизический характер. Тогда становится понятным, почему великий, могущественный дух, живущий там, на небе, почему он, которому повинуются тучи и волею которого сотворен мир из ничего, почему он мог так хорошо фигурировать в качестве объясняющей категории, в качестве вспомогательного средства рассудка. С категорией причины и действия, в сущности, дело обстоит совершенно так же. Она является блестящим вспомогательным средством для объяснения, но все же она недостаточна для прогресса на все времена.
Взгляд на великого духа, живущего там, над облаками, как на свободное создание скромного человеческого духа, этот взгляд стал настолько популярен в наше время, что мы можем смело оставить его вне нашего рассмотрения и перейти к нашей теме.
Перед нами стоит теперь вот какой вопрос: не являются ли «причины», с которыми так много носится современная наука, так сказать, творцами в миниатюре, из которых, как из рога изобилия, сыплются действия этих причин? На самом деле этот ложный взгляд является господствующим взглядом.
Если камень падает в воду, он является причиной волнообразного движения воды. И тем не менее он не является творцом этого движения, но лишь содействующим моментом, ибо жидкое и эластичное свойство воды является такой же причиной и таким же содействующим моментом. Если камень падает в масло, он вызывает на поверхности в лучшем случае одну волну; если же этот творец волн ударяется о твердую землю, то о волнах не может быть и речи. Отсюда видно, что причины вовсе не являются какими-то творцами, напротив — они являются действиями, но действиями не производными, а скорее самодовлеющими.
Категория причины и действия — очень хорошая категория для объяснения, если только она неразрывно связана с философским сознанием того, что вся природа в целом представляет собой бесконечное море превращений, которые не создаются ни одним великим, ни множеством мелких творцов, но сами являются своими собственными творцами.
Известный писатель и философ говорит следующее: «В первые недели своей жизни ребенок ничего не знает ни о внешнем мире, ни о своем собственном теле, ни о своей душе. Его ощущение не сопровождается еще поэтому сознанием взаимодействия между собой этих трех факторов. Ребенок еще не подозревает существования причин». Итак, мы видим, что душа, тело и внешний мир здесь называются тремя факторами, тремя причинами ощущения. Следует, кроме того, заметить, что каждая из этих трех причин, или факторов, является, так сказать, вместилищем бесчисленного множества факторов, или причин, которые все вместе вызывают у ребенка ощущения. Душа состоит из множества душевных частиц, тело — из бесконечного множества телесных частиц; что же касается внешнего мира, то бесконечному множеству его частиц не может быть никакого предела.
Что детское, равно как и всякое другое ощущение не существует само по себе, но тесно связано с душой, телом и внешним миром, — это вне всякого сомнения. Отсюда ясно видно, что существует универсальная связь. Категория причинности вносит свет в таинственный круговорот самодвижущейся вселенной, являясь для нашего духа средством приводить в порядок предыдущие и последующие процессы. При падении камня в воду появляются волны; при наличности души, тела и внешнего мира следуют ощущения.
Наш философский аквизит вовсе не отрицает заслуг категории причинности, но борется лишь с мистическим элементом, который сохранился еще во взглядах людей, и даже людей «научно образованных». Дело не в волшебстве, а, так сказать, в механическом упорядочении, в механической классификации явлений природы в том виде, в каком они предшествуют друг другу и следуют одно за другим. Пока вода останется водой и сохранит свое свойство эластичности и текучести, пока камень останется камнем, обладающим весом и с силой ударяющимся при падении в воду, — до тех пор с аподиктической уверенностью можно говорить, что за падением камня в воду неизбежно должно последовать волнообразное движение. Пока душа, тело и внешний мир сохранят свои эмпирические свойства, они несомненно будут вызывать известные ощущения. Что мы можем говорить об этом в такой аподиктической форме на основании всего опыта, — это во всяком случае не более удивительно, чем категория причинности. Единственно, что действительно заслуживает удивления, это самая сущность вещей, и в этом отношении все вещи одинаковы. Поэтому человеческое познание, причинность или какая-нибудь другая категория не более удивительны, чем всякая другая сущность. Только одна вселенная — чудо. И именно потому, что вселенная есть универсальное чудо, она в то же время в высшей степени тривиальна. Что может быть проще того, что свойственно всему, т. е. является общим?
Благодаря причинной точке зрения человеческий ум бросает свет на явления природы. Причинная точка зрения содействует прояснению мира.
Способ, или метод, с помощью которого приобретается подобное прояснение, является специальным объектом нашего исследования. Нельзя, конечно, отрицать, что причинность служит в данном случае средством, но она лишь одно из многих средств. Мы сделали бы ей слишком много чести, если бы стали видеть в ней, как это часто бывает, универсальное средство. Мы видели, что существовавшие ранее другие точки зрения, или формы мышления, тоже служили для этого, да и в настоящее время имеются точки зрения, которые претендуют получить в будущем еще большее значение, чем причинность.
Причинность разъясняет главным образом следование явлений друг за другом. Но ведь желательно также прояснить и сосуществующие явления природы. Категория рода и вида оказывает ведь такие же услуги в деле прояснения мира. Геккель говорит несколько высокомерно о музейных зоологах и гербаризаторах-ботаниках только потому, что они классифицируют животных и растения лишь по родам и видам. Современные зоологи и ботаники рассматривают не только разнообразие растений и животных в их совместном существовании, но обращают также внимание и на их последовательные изменения и превращения. И в результате они получают более живую картину животного и растительного мира, картину, рисующую не только их бытие, но также и их становление, возникновение и исчезновение. Бесспорно, знания прежних зоологов и ботаников были далеко не блестящи. Они представляли собой нечто застывшее, механическое. Современная наука дает несомненно лучшее воспроизведение жизни и действительности. Но это, однако, не может служить достаточным основанием к переоценке причинного метода исследования. Категория причины и следствия дополняет категорию рода и вида. Она способствует прояснению мира. Она оказывает помощь в процессе мышления, не делая, однако, излишними другие формы мышления.
Для теории познания весьма важно познать все отдельные формы мышления старого и нового времени как частные формы, имеющие одну общую природу. Эта общая природа процесса мышления, познания или просвещения составляет часть универсального мирового процесса, по существу от него не отличаясь.
Понятие причины объясняет мир явлений лишь отчасти. Ту же задачу выполняет и понятие цели, рода; таковы функции всех понятий.
Во вселенной все ее части являются причинами, а все части возникают, созидаются, творятся. И все-таки здесь нет творца, создателя, здесь нет первопричины. Общее создает частное, и частное путем взаимодействия создает общее.
Категория всеобщего и частного, вселенной и ее частей — это такая категория, которая «содержит в себе в снятом виде» все другие формы мышления. Чтобы объяснить мыслительный процесс, необходимо его рассматривать как часть всего мирового процесса. Процесс мышления, это высшее проявление духовной сущности, не есть причина, создавшая мир, ни в теологическом, ни в идеалистическом смысле этого слова. Он не является также простым продуктом субстанции мозга, как это думали материалисты XVIII столетия. Мыслительный процесс и его знания составляют только частное явление в общем космосе. Отношение общего к частному — это ясная, определенная категория всех категорий.
Все это можно назвать и другими именами, например: единое и множественное, сущность и ее форма, субстанция и ее акциденции, истина и ее проявление и т. д. Названия — это дым; суть дела в знании и понимании.
12. Дух и материя — что является первоначальным и что производным?
Аквизит философии освободил процесс познания от его мистификации. Но с понятием причинности все еще соединяется что-то таинственное. Причинность остается необъясненной, неясной, пока она не истолкована как форма мышления, по существу не отличающаяся от многих других форм мышления, которые существуют наряду и вместе с ней, имея одну общую цель — уяснять нашему уму космические процессы с помощью символа, образованного из схемы понятий.
Философия специально занимается изучением процесса познания. Она настолько продвинула изучение своей специальности, что теперь рассматривает познание как часть всей вселенной, как часть, которая имеет своей специальной задачей группировать весь мир явлений и их более узкие циклы по их родственной связи и по их преемственности во времени. Такая группировка дает научную картину мира. Известная схема понятий, употребляемая логиками, символически представляя общее в виде одного большего круга, внутри которого все частное изображается в виде меньших кругов, лежащих внутри, рядом или же пересекающихся между собой, — эта схема представляет удобное вспомогательное средство для объяснения метода, с помощью которого способность познания приобретает свои познания и открывает путь к науке. Наука в целом составляет сумму всех частных знаний, от которых она отличается не больше, чем отличается человеческий организм от своих органов, из которых он состоит. И как ни один орган нашего тела не может вылезть из кожи, так и ни одно частное знание не может быть мыслимо без общего, свойственного всякой науке. В этом смысле невозможна никакая метафизика.
И как мы с несомненностью знаем, что в природе не может быть двух гор без долины, с такой же достоверностью мы знаем, что ни на небе, ни на земле, ни в каком-либо другом месте не может быть вещи, которая была бы вне общего круга всех вещей. Вне мира немыслим никакой другой мирок. Наша мыслительная способность в силу свойственной ей логики иначе мыслить не может. Точно так же нельзя путем опыта открыть подобный внемировой мирок, потому что мышление неотделимо от опыта, потому что без мышления не может быть никакого опыта. Человек с головой на плечах, — а без головы людей вообще не бывает, — не в состоянии путем опыта открыть внемировой, метафизический мир. Способность человека к опытному знанию, со включением мыслительной или познавательной способности, есть чисто эмпирическая способность. Твердое убеждение в единстве вселенной прирождено нашей логике. Единство мира — это высшая, наиболее общая категория. При более внимательном рассмотрении тотчас же оказывается, что мировое единство в недрах своих или под сердцем носит свою противоположность — бесконечную множественность. Общее чревато частным.
Это, конечно, сравнение, а всякое сравнение немножко хромает. Мать, помимо материнства, имеет еще и другие качества, между тем как вселенная, или абсолютная всеобщность, является не более, как только носительницей, причиной всего частного и обособленного.
Она — «чистое» материнство, которое столь же мало может существовать без детей, как и дети без матери. Точно так же не может быть и причины без следствий. О бездейственной причине нельзя говорить. Ребенок столько же является причиной материнства, сколько и его следствием, или продуктом. Также и единство мира никогда не существовало и немыслимо без тех бесчисленных частностей, которые оно носит, как детей, в самом себе.
Если человек хочет составить себе в уме образ, представление, понятие о причине всех причин, то volens-nolens[17] подразумевается действие. Человек может в уме отделять одно от другого, но он не может мыслить правильно, если он не отдает себе отчета в том, что это разделение и различение — чисто формальны. Представление, понятие, знание, познание — это совершенно формальные разграничения.
Правда, философия брала своим исходным пунктом обратное, ложное мнение. Во главу угла она ставила познание, понятие, представление. Она смотрела на науку не как на формальную деятельность, не как на нечто производное, подчиненное одной сущности, одной причине, одной цели, одной высшей первооснове. Напротив, она исходила из нелогичной и неприемлемой мысли, что будто бы эта специальная духовная сфера, т. е. наше познавание, понимание, суждение и различение, что будто бы этот логический элемент составляет нечто первичное, высшее, первооснову и самоцель. Еще в гегелевской логике, которая, впрочем, пролила немало света на наш мыслительный процесс, непонимание того, что является оригиналом и что копией, было причиной почти беспросветного мистицизма.
Не природа, а наука является для наших философов-идеалистов источником истины. «Истинное понятие» стояло еще тогда выше всего. Гегель поворачивает это «понятие» и так и сяк, как будто бы он имел дело не с естественным ребенком, а с метафизическим драконом. Нельзя, однако, отрицать, что при этих вращениях гегелевского дракона обнаруживается во всей его своеобразной особенности и наготе внутренняя сущность понятия вообще.
Согласно теософическому мнению Гегеля, я не могу узнать своего истинного друга путем непосредственного знакомства с ним на почве жизненной практики. Для Гегеля критерием истинной дружбы является не ее подтверждение в жизни, но ее «соответствие своему понятию». «Понятие» истинной дружбы является для идеалистов мерилом основанной на истинной дружбе истины, подобно тому как для Платона «идея», например идея государства или кухонного горшка, якобы заимствованная из другого мира, служит прообразом для оценки, насколько идеально, насколько истинно государство или кухонный горшок в этой земной юдоли плача.
Что человеческий ум может конструировать идеалы — это, конечно, ценный дар природы; но это дар, который внес немало путаницы в наши головы. Чтобы вполне ясно осознать ценность этого дара, необходимо лишь ясное понимание того, каким образом из действительного материала образовываются наши идеалы. Без этого понимания человечеству никогда не удастся правильно применять свою мыслительную способность. Прекрасный идеал истинной дружбы может воспламенить в нас огонь соревнования. Тем не менее сознание того, что это только идеал, к которому в действительности всегда неизбежно примешивается известная доля фальши, это сознание является нелишним противоядием против фантастики. И то, что относится к истинной дружбе, приложимо также и к истине вообще, к истинной свободе, справедливости, равенству, братству и т. д.
Стремление к идеалу, конечно, дело очень хорошее. Но не мешает все-таки трезво смотреть на дело и помнить, что наш идеал никогда в действительности не осуществим без примеси своей противоположности. Или, как говорит Лессинг: «Если бы господь бог, имея в лавой руке стремление к истине, а в правой самое истину, предложил мне сделать выбор между ними, то я припал бы к его левой руке и воскликнул: господи,, пусть истина останется при тебе, она — только для тебя одного!»
В задачу философии вовсе не входило создать точный мысленный образ мира. Она не в состоянии сделать это; это не в состоянии выполнить ни одна специальная наука. Это может выполнить лишь вся наука в целом и то лишь только приблизительно. Но и в этом случае стремление к знанию представляет собой высшую истину и высшую ценность в сравнении с самим знанием. Итак, повторяем еще раз: специальная задача философии состоит в том, чтобы дать не точный мысленный образ мира, но путь, метод, с помощью которого человеческий дух составляет себе образ мира. Описание этого пути — вот что является задачей философии. Эскизный очерк этого пути составляет цель нашего произведения.
Уже по самой своей природе эскиз не может быть точным произведением. Поэтому меня могут осудить, что я смешиваю и употребляю в качестве синонимов такие, например, слова, как мир, космос, универсум, природа, или же такие слова, как понятие, суждение, умозаключение, мысль, дух, интеллект и т. п., между тем как многие из этих названий занимают уже теперь вполне определенное место в кругу научных понятий. Метод науки или деятельность мышления обладают как раз именно двояким свойством — не только дать точное определение, но оставаться также гибкими. Эту мысль мы должны выдвигать на первый план.
Наука не только точно устанавливает, что представляет собой то или другое, но также показывает, как нечто развивается, возникает, исчезает, оставаясь все-таки неизменным; показывает также детерминированность при одновременной изменчивости. Реальное бытие, с которым наука вообще имеет дело, следовательно, вселенная, есть не только то, что существует теперь, что существовало прежде и будет существовать впредь, не только то или другое или третье, но решительно все и вся. Даже ничто есть нечто, принадлежащее к универсальному бытию.
Подобная диалектическая мысль чрезвычайно туго усваивается нефилософским сознанием. Для такого сознания «ничто и нечто» не просто не совпадают друг с другом, но отстоят друг от друга гораздо дальше, чем отстоит небесное блаженство от земной юдоли для какого-нибудь пастора. Пастор — это не знающий меры логик; точно так же не знает меры тот, кто считает ничто за абсолютное ничто. Ведь нельзя оспаривать, что ничто есть, по крайней мере, понятие или слово. Следовательно, так или иначе, но оно есть кое-что. Из сферы бытия, мирового единства мы можем вырваться с таким же успехом, с каким Мюнхгаузен мог вытащить себя из болота за свою собственную косу.
Абсолютного ничто не может быть, потому что абсолют — это универсум, и все остальное является лишь относительным. Таким же относительным является и ничто. Оно имеет лишь одно значение: оно не является исходным. Ничто — это значит: это не есть то, что в данное время и в данном месте имеет существенное значение. Если сказать «человек — ничто», то это значит только то, что он не является главным действующим лицом; но это еще отнюдь не дает права оспаривать, что он вообще что-то собой представляет.
Категория бытия и категория «ничто», как и всякая другая категория, представляется здравому, но недисциплинированному уму человека чем-то устойчивым. В действительности же все категории — нечто подвижное, их полюсы соприкасаются и сливаются взаимно; различие между ними не есть различие toto coelо. Они, следовательно, дают нам пример подвижного мирового единства, слагающегося из своей противоположности, из множественности.
Аквизит философии завершается познанием, что мир многообразен, а разнообразие едино в своем общем мировом природном существе. Научным дисциплинам приходится изображать перед нами предмет своей специальности в такой противоречивой форме, ибо ведь все вещи на самом деле живут в сфере таких противоречий. Что музейные зоологи и гербаризаторы-ботаники сделали в области животного и растительного мира, имея в виду его разнообразие в пространстве, вызывает согласие дарвинистов, присоединяющих к этому соответствующее разнообразие во времени. Как те, так и другие подводят под категории, классифицируют, систематизируют. То же самое проделывают химики с силой и материей, Гегель — с категориальными отношениями бытия и «ничто», количества и качества, субстанции, акциденции, вещи и свойства, причины и следствия и т. д. По Гегелю, все переходит друг в друга, становится, изменяется и развивается. И Гегель вполне прав в данном случае. Весь мир движется и все в нем взаимно связано.
В чем, однако, Гегель ошибался и в чем мы его исправляем, это тот усвоенный теперь взгляд, что текучесть и изменчивость вышеуказанных категорий мышления являются лишь примером необходимой изменчивости и взаимной связи всех мыслей и понятий, которые в свою очередь служат, должны и хотят служить лишь примером и отображением универсальной жизни.
Философы-идеалисты, давшие нам все существенные элементы для окончательного вывода об этом специальном знании, все так или иначе заблуждались, принимая процесс мышления за подлинный, подлинный же оригинал, природу, или материальную вселенную расценивая как производное явление. Теперь же мы говорим: эта феноменальная, космическая связь, универсальный живой мир, и есть сама истина и жизнь.
Является ли мир представлением? Является ли он понятием? Мир можно, конечно, представить себе и понять, но он есть нечто большее, чем только это. Мир в прошедшем, настоящем и будущем выходит за пределы нашего представления и понятия. Он качественно и количественно бесконечен. Откуда же мы знаем это? Мы сразу говорим, что мы не знаем всего, что происходило, происходит и будет происходить в мире, что мы не понимаем всего мира в целом, и все же мы положительно утверждаем, что мировое целое не есть лишь понятие, но оно есть абсолют. Он нечто большее, чем то, что о нем знают и как его представляют, он есть нечто подлинное, действительное и бесконечное. Как разрешить это противоречие?
Понять, что как индивидуальный, так и общечеловеческий интеллект ограничен, значит добиться правильного понятия о целом. Это значит, что человеческому интеллекту прирождено свойство сознавать себя ограниченной частью абсолютной вселенной. Это свойство нашего интеллекта не менее естественно и изначально, чем свойство деревьев зеленеть летом или чем свойство пауков ткать паутину. И хотя интеллект является ограниченной частью неограниченного и сам сознает свою ограниченность, все же его способность знать, понимать, судить есть универсальная способность. Невозможно, немыслимо, чтобы был такой интеллект, который превосходил бы мыслительный аппарат, которым природа наделила человека. Мы можем себе представить гиганта в образе гиганта мысли, но достаточно присмотреться к нему несколько ближе, и мы увидим, что последний, если только его гигантскую мысль не считать продуктом фантазии, не может выйти за (пределы круга предшествующих мыслителей.
Мышление, знание, понимание универсальны. Я могу познавать все вещи приблизительно так же, как я могу видеть все камни мостовой. Я могу видеть все камни, но не могу видеть все, что в них есть. Я не могу, например, видеть их тяжести и веса. Точно так же, несмотря на познаваемость всех вещей, все же целиком их познать нельзя. Вещи не растворяются в познании. Это значит — познание составляет лишь часть вселенной, которая хотя и может быть познаваема, но познание ее не есть еще все, ибо наш интеллект — только часть вселенной.
Все может быть познаваемо, но познание не может быть всем. Каждый мопс есть собака, но не всякая собака есть мопс. К этому разрыву между родом и подчиненным ему видом сводится, в сущности, разногласие между идеалистами и материалистами. Завзятые идеалисты утверждают, что все вещи суть мысли. Мы же, напротив, хотим показать, что мысленные и материальные вещи представляют собой два вида одного рода. И только вследствие их общей природы и в целях здравой логики материальные и идейные вещи должны получить, помимо своего специального вмени, еще одно общее, родовое или универсальное, имя. Где такое понимание налицо, там спор идеалистов с материалистами сводится к пустому словопрению.
Все велико, и все мало, все находится в пространстве и времени, все является причиной и в то же время действием, все есть целое, и все разделено на части, ибо именно все есть совокупность всего, ибо все содержится во вселенной, все находится в родстве, во взаимной связи и зависимости. Понятие вселенной как абсолюта, состоящего из бесконечно многих относительных данных, понятие вселенной как универсальной истины, раскрывающейся в явлениях, — вот что составляет основу науки о понятиях.
13. Насколько преодолено сомнение в возможности ясного и точного знания
Современный профессор философии в Иене Куно Фишер говорит: «Проблему новейшей философии составляет познание вещей». Между тем эта проблема является предметом не только новейшей, но и древней философии. Да, она была известна во все времена. Весь мир, т. е. мир людей и главным образом мир науки, стремится к познанию вещей. Я говорю это не затем, чтобы поучать профессора, за которым я охотно готов признать титул вполне заслуженного философа. Если бы я пожелал перелистать его произведения, то, наверное, нашлись бы места, где проблема философии формулируется гораздо точнее и в более конкретном виде, — а именно, что философия не стремится к «познанию каких бы то ни было вещей», но что она скорее ставит себе целью специальное познание одной определенной вещи, именуемой «познанием». Философия на высшей ступени своего развития стремится к познанию познания. К разрешению этой проблемы познания философия стремилась с момента зарождения человеческой мысли, с того момента, когда началась историческая жизнь человечества.
Из того, что мы уже сказали о начале и конце вещей и их бессмертии, легко будет понять, что и та вещь, которая называется познанием, также не имеет начала в истории. Познанное вырастает из непознанного, и сознание — из бессознательного. И даже наше современное, столь усердно уже культивируемое сознание все еще продолжает быть неразвитым, «бессознательным» сознанием. Тем не менее дело теперь подвинулось настолько, что мы уже знаем, насколько познание является антирелигиозной вещью. В особенности же познание познания, аквизит философии, имеет ясно выраженную антирелигиозную и в этом смысле «разрушительную» тенденцию. Не нужно, однако, преувеличивать представление о разрушающей силе этой тенденции. Здесь под луной ничто не разрушается, ничто не пропадает без того, чтобы «на развалинах старого не вырастала новая жизнь». Без этого не постигнуть природы космоса, не составить того общего понятия, которое необходимо для понимания понятия или для познания познания.
История философии начинается вместе с упадком, языческой религии; история же новейшей философии начинается с упадка христианской религии. Так как ex officio[18] «религия должна быть сохранена для народа», то официальные профессора не могут дать ясное и точное изложение философского аквизита. Поэтому какое бы великое дело ни сделали Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель, у кантианцев и гегельянцев все же отсутствует, свободная творческая мысль, И Куно Фишер, хотя он и близко подходит к правильному взгляду на дело, все же оказался во власти мистификации относительно знания и понимания. Корпоративный дух препятствует свободному суждению.
«Природа, — говорит этот профессор, — считается первым объектом познания, принципом, из которого следует все другое. В этом отношении новейшая философия натуралистична. Познаваемость природы, или возможность познания вещей, должна при этом предполагаться. При таком предположении философия новейшего времени оказывается догматичной... Философия Канта относится к возможности познания не догматически, а критически» (Kuno Fischer, System der Logik und Metaphysik, 2. Aufl., S. 104 и 109). — На этой последней критической стадии профессора философии и застряли. Кантианцы так и не могут забыть этой постановки вопроса: глядите все, — как возможно познание?!
Прежде всего здесь совершенно нечему удивляться. Почему же «философ-натуралист» непоследователен и не изучает своего специального объекта — познание, как естественный объект?
«Предположение» о возможности познания вещей не является предположением и не имеет в себе ничего «догматического».
Философы должны были бы отрешиться от старой привычки доказывать все своими «силлогизмами». Теперь для доказательства требуются не слова, но факты и дела. Научные дисциплины теперь достаточно сильно окрепли, чтобы «возможность познания» была вне всяких сомнений.
Но, скажут нам критические философы, — они ведь так умны, что могут даже слышать, как растет трава: разве познание, приобретаемое точными науками, подлинное знание? Разве оно не является лишь суррогатом? Точные науки познают лишь явления вещей. Где же находится познание, познающее истину?
Мы ответим им на это так. Вы ведь естественники! Природа и есть истина. Или вы, может быть, спиритуалисты и метафизически отделяете истину от явления? Они предпочитают называть себя спиритуалистами. Впрочем, подобные тонкости не имеют здесь существенного значения. Познавать, отвечаем мы, значит различать и рассуждать. Нужно, конечно, отделять видимость от истины, но не радикально. Необходимо раз навсегда запомнить, что самый причудливый призрак указывает на естественный факт и что самая возвышенная истина именно потому, что она естественная истина, открывается только в явлениях.
Однако старой логике трудно помириться с таким противоречием. Видимость и истина — ведь это противоречия; они поэтому никак не укладываются в голове сторонника старой логики. Собственно говоря, путаница заключается здесь лишь в том, что в монистическом мире люди носятся с идеями, которые якобы toto coelo отличны. Старая логика не допускает, чтобы мысль опиралась на посредствующие элементы, когда познание и наша мыслительная способность не превозносится до небес, а лишь признается за весьма возвышенное, но все же естественное свойство.
Старая логика не в состоянии была дать точные законы мышления, имея преувеличенное представление о самом мышлении. Мысль для нее не была лишь свойством, модусом, частью истинной природы — напротив: природа истины одухотворялась ею в образе спиритуалистической сущности. Вместо того, чтобы понятие духа облечь в плоть и кровь, она стремилась плоть и кровь растворить в понятии. С этим, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы подобное разрешение загадки могло иметь значение символического образа, но не больше.
В старой логике имеются целые главы, где говорится о доказательствах истины. Истина должна «согласоваться» с понятием и должна быть «доказана» с помощью понятий. Если бы при этом считать понятие и познание производным явлением по отношению к истине, тогда было бы еще ничего. Но до этого старая логика не додумалась. Она представляет себе дело как раз наоборот: первичным она считает дух, истинные же плоть и кровь — производным явлением.
«Необходимость какого-нибудь понятия доказывают необходимостью его противоположности; опровергают понятие, доказывая при этом его невозможность. Эта невозможность считается доказанной, если только обнаруживается, что нечто оказывается одновременно A и не-А, или же если удается доказать, что нечто не есть ни А, ни не-А. Первый способ доказательства называется антиномией, второй — дилеммой».
При таком логическом доказательстве постоянно говорится о некотором «нечто», и говорится о нем следующее: нечто не может быть одновременно прямым и кривым, истинным и неистинным, светлым и темным. С этим учением люди скоро соглашаются, так как они не замечают, что понятие «нечто» является не твердо установленным, но очень изменчивым понятием. Если прямая линия представляет собой одно нечто, а кривая — другое нечто, если оба эти «нечто» рассматриваются как что-то противоположное, тогда вышеизложенная логика является самой правильной во всем мире. Но разве кто поручится нам в том, что нет множества прямых линий, которые на конце имеют закорючки, следовательно, прямыми являются лишь на известном расстоянии, становясь, в конце концов, все-таки кривыми? Кто ответит нам на вопрос, что такое вообще линия? Линия состоит из 10, 20, 30 и т. д. частей, и каждая часть составляет известную линию.
Прежде чем сказать что-нибудь точное относительно законов логики, необходимо прежде всего выяснить, как обстоит дело с целым и его частями, с космосом и его подразделениями. Необходимо предварительно покончить со старым, теологическим вопросом о боге и его творении, со старым, метафизическим вопросом о единстве и множественности, об истине и ее явлениях, об основании и следствии и т. д. Словом, необходимо сначала покончить с вопросом о метафизических категориях, а потом уже переходить к уточнению второстепенных вопросов нашего познания, вопросов формальной логики.
Кто и что есть «нечто»? Пастор ответил бы на это так: только господь бог есть нечто, все же другое есть ничто! Мы же скажем: только вселенная есть нечто, все же, что в ней есть, — лишь неустойчивые, изменчивые, непрочные, текучие, непостоянные явления или относительные данные.
В наше время, после того как теологи так много наболтали и так мало сделали в области познания, можно лишь с большим опасением касаться понятия о боге, не отталкивая от себя читателя. Тем не менее для основательного понимания сущности нашего познания по необходимости приходится указать на то, что понятие о боге и универсальное понятие или представление о вселенной аналогичны. Не напрасно ведь первые видные представители новой философии — Декарт, Спиноза, Лейбниц — так много занимались понятием о боге. Они восстановили нам так называемое онтологическое доказательство бытия божия. Это доказательство в применении ко вселенной означает обожествление последней. Как метафизический владыка, так и физический космос являются объектами — оригиналами понятия о всесовершеннейшем существе. Почти безразлично, говорю ли я при этом, что человеку прирожденно понятие о вселенной, космосе, или же понятие о всесовершеннейшем существе. Если бы этому понятию недоставало бытия, то ему недоставало бы главной части, составляющей совершенство. Следовательно, всесовершеннейшее существо должно существовать. И оно существует, существует вселенная, и все является частью его бытия. Ничто отсюда не исключается, и меньше всего — познание. Познание, следовательно, не только возможно, но оно есть факт, который к тому же доказывается понятием о всесовершеннейшем существе.
Это, однако, должно нам помочь покончить с сомнениями критических философов и в частности с кантовским критицизмом или, лучше сказать, кантовским дуализмом. Кант не хотел безоглядочно принимать положения о возможности познания, но постарался ее сначала исследовать. И тогда он открыл, что мы можем иметь правильное познание, но лишь при том условии, если мы остаемся в пределах простого опыта, т. е. в пределах физической вселенной, и не уклонимся в небесное царство метафизики. Но Кант все-таки не осознал того, что в наше время вопрос о метафизически-небесном мире, против которого он нас предупреждает, можно считать поконченным.
Кант все-таки допускает эту запредельную возможность существования метафизического мира. Он только нам не советует стремиться познать этот мир, но не говорит, что он недоступен нашим чаяниям. Кант мечется между «вещью как явлением» и «вещью в себе». В первом случае вещь имеет земное происхождение и может быть познаваема, во втором — она имеет сверхчувственное происхождение и может быть лишь предметом веры и чаяний. Своим учением Кант снова обратил познание — объект новой философии — в проблематическую сущность, толкающую нас на путь новых философских размышлений.
В действительности так и случилось. Современный аквизит философии дает нам «ясное и точное» знание. И мы знаем теперь, что наше познание есть не просто часть этого мира явлений, но что оно есть подлинная часть общей истины, которая не имеет ни над собой, ни рядом с собой никакой другой истины, будучи всесовершеннейшей сущностью.
Бессвязные рассуждения о том, что есть и чего нет, в особенности же религиозная разочарованность, охватившая греческий народ в то время, когда его религиозный мир вылился в форму фантасмагорий, была исходным пунктом философии. Человечество начинает стремиться к положительному, прочному, несомненному, устойчивому познанию. Но в нашем мире прочное так смешано с текучим, преходящее с вечным, что всякое разделение прямо-таки невозможно. И тем не менее мы каждую минуту уличаем наш интеллект в попытках разделять и различать. И разве все это не должно было казаться ему таинственным? Отсюда неизбежно и вполне естественно вытекает проблема теории познания; отсюда вытекает специальный философский вопрос: каков должен быть путь, ведущий к несомненному, «ясному и точному» познанию?
Высший пункт в развитии греческой философии связывается с именем Аристотеля. Аристотель был по своей натуре практик. Он не устремлял своего взора в заоблачную даль, где скрывается добро. Он не задавался вопросом об источнике знания. Учение Платона о происхождении познания из мира идей инстинктивно казалось ему так или иначе неприемлемым. Он брал вещь в том виде, как она есть, и анализировал положительные знания, имевшиеся в данный момент налицо. Но вследствие того, что греческая наука, даже в эпоху Аристотеля, была недостаточно развита, его попытка изложить логику не могла привести к каким-либо положительным результатам. Тем не менее было выяснено, что из установленных законов логики можно делать дальнейшие выводы и приходить к положительным результатам.
Этого Аристотель твердо придерживается. Он ясно и точно, вполне основательно и метко показывает, как нужно делать заключения и выводы, чтобы получить положительные знания. Все собаки отличаются очень тонким чутьем. Мой мопсик — собака, следовательно, он тоже должен обладать чутьем. Что может быть очевиднее этого? Зачем же тогда философствовать о боге, свободе и бессмертии, если можно притти к несомненным знаниям, стоя на формальном пути точного умозаключения?
При этом Аристотель кое-чего не заметил или, вернее, не хотел заметить в связи со своим практическим складом ума. Первая посылка, которая дает право говорить о тонком чутье всех вообще собак, является предвзятой и принимается непосредственно на веру. В самом деле, где же основание этой посылки? Разве не может быть собак, у которых нет чутья, и разве наш мопсик не может, вопреки всем точным умозаключениям, в конце концов оказаться весьма нечутким? Конечно, случись это с мопсом — это еще не беда. Но как же быть, если речь будет о начале и конце мира, о боге? Греческие боги для Аристотеля были пустым звуком.
История логики и всей философии в целом прерывается затем христианством и упадком античной цивилизации вплоть до реформации, открывшей новую эру в истории. Знаменитые вопросы о сущности вещей, о начале и конце, основании и следствии были разрешены католической церковью и разрешены по-своему довольно основательно. Но после того как католическая церковь, а вместе с нею и христианство, начинает клониться к упадку, неверие начинает снова проникать в головы философов, выдвигая старый вопрос: откуда почерпается нами прочное и истинное знание? Прочность и истинность в то время еще совпадали.
Бэкон и Декарт были первыми философами, которые подошли к исследованию этого вопроса. Оба они отошли от Аристотеля и его формальной логики, особенно от той хитросплетенности, в которую ее превратила схоластика. Новая эпоха находит недостаточным обосновывать положительное знание на традиционных положениях и на непосредственно выводимых из них умозаключениях. Но именно в силу своего радикализма новое время составило эпоху в истории. Философы нового времени имеют то общее с философами старого времени, что как те, так и другие стремятся к знанию, не вызывающему сомнений. Бэкон еще исходит из существующего. Его биограф говорит о нем: «Не следует все повторять, что Бэкон исходил из опыта, это еще ровно ничего не говорит или говорит не более того, что Колумб был мореплавателем, в то время как главная суть дела заключается в том, что он открыл Америку... Для новой жизни он хотел открыть новую, соответствующую ей логику... Изобретательный ум человека создал новую эпоху, открыл компас, порох и изобрел книгопечатание... Бэкон хотел установить новую логику соответственно творческому духу времени». Бэкон, этот «философ изобретений», был светским человеком, английским лорд-канцлером. «Не просто он сам, но его наука была слишком честолюбива и деятельна, слишком была привержена к миру, чтобы похоронить себя в уединении». Все это делает честь философу, но в тоже время является препятствием для специальной задачи установить новую логику. Бэкон хорошо понял значение этой задачи лишь в общих чертах. Напротив, его современник и последователь Декарт взглянул на дело радикальнее и больше детализировал вопрос.
Несмотря на то, что в новейшее время человеческий ум несомненно доказал свою способность к положительному знанию в естественных науках, используя изобретения, он все-таки был опутан религиозными предрассудками в основных вопросах о сущности вещей и человека или, как говорили в старину, об «истине, добре и красоте». Чтобы положить конец всяким сомнениям, Декарт выдвигает радикальное сомнение как принцип и исходный пункт всякого познания, причем все же он не мог сомневаться в том, что он во всяком случае стремится найти истину. Тот, кто вообще не верит в науку, в познание и изобретение, все же не может отрицать самого стремления к познанию. Это последнее вне всякого сомнения. Cogito, ergo sum. Вот положение, которое никто не может поколебать. Отсюда, думает Декарт, можно вывести (по-аристотелевски) все дальнейшее.
Рассуждая таким образом, философ нового времени снова впал в старое заблуждение, а именно, что с помощью логических формальностей можно получить нечто положительное, истинное. Ощущение беспокойно надоедливой мысли в голове или, лучше сказать, его плоть и кровь с несомненной очевидностью убеждали его в действительности его существования.
До настоящего времени этот факт понимали превратно. Утверждают, что Декарт мог о очевидностью убедиться лишь в существовании своего духа и своего мышления. Нет, мое ощущение, мой слух, мое зрение и т. д. точно так же для меня очевидны, как мое мышление. А вместе с зрением и слухом очевидно также и то, что я вижу и слышу. Отделение субъекта от объекта можно и следует понимать чисто формально.
Положение Декарта до такой степени извратили, что стали даже утверждать, что якобы, по его мнению, человеку кажется очевидным лишь его собственное субъективное представление. И в этой идеологии дошли даже до того, что стали считать весь мир представлением, или, что то же, фантасмагорией. Правда, старик Декарт нуждался в господе боге, чтобы быть уверенным в том, что его собственные представления его не обманывают.
Чтобы показать, что мы теперь больше не имеем нужды прибегать к таким экстравагантным средствам, мы посвятим изучению этого вопроса еще одну главу.
14. Еще раз о различии между неточным и точным знанием
Историю культуры можно разделить на два периода. В первом, начальном периоде культуры преобладают неточные знания, во втором периоде — точные. Наше специальное исследование правильного пути, ведущего к точному знанию, началось еще в первом периоде, когда неточное знание, называемое также заблуждением, было господствующим. В этот период боги управляли на небе и фантазия на земле.
Освободиться от неточного знания — это значило прежде всего освободиться от богов и неба. Этот идеальный мир был причиной возникновения метафизики. Метафизика, которая ставила себе задачей изучение сверхъестественного, делала это в целях уяснения природы человеческого духа. Таким образом, уже с самого начала метафизическая проблема имела двойственный характер. Она хотела осветить естественный процесс мышления, который, благодаря направлению мыслей в сторону сверхъестественного, по временам был экзальтированным. Поэтому метафизика с самого начала устремляется в заоблачную даль.
Но по мере того как ум человека стал заметно отрезвляться, в более здравом смысле стало употребляться и слово «метафизика». Наши современные метафизики не говорят уже теперь о таких запредельных вещах, о каких говорили прежние метафизики. Метафизикой называется теперь занятие такими абстрактными вещами, как нечто и ничто, бытие и становление, сила и материя, истина и заблуждение и т. д.
В особенности же метафизическим является то исследование, которым мы здесь занимаемся, а именно: решение вопроса о том, какое знание будет неточным, ошибочным и какое точным или истинным знанием.
Название метафизики имеет, следовательно, двоякий смысл: «экстравагантный» и здравый. Мы должны беспристрастно взяться за дело и показать достижения философии, сводящиеся к тому, что последняя добилась трезвости в вопросе о знании, — наша задача имеет дело с запредельной метафизикой, которая с течением времени отрезвляется, превращаясь в свою противоположность — в чистую, голую физику.
Божественное стало человеческим, экзальтированный ум стал трезвым, и наше знание в ходе истории становится все более и более точным и подлинным знанием.
Чтобы разобраться в проблеме познания, мы должны отказаться от старой привычки обращать свое внимание на отдельные мнения, мысли, знания и истины. Напротив, мы должны рассматривать процесс познания в общем и целом. И тогда мы узнаем, каким образам развивается точное познание из неточного и истинное из ошибочного. Но мы узнаем также тогда, как глупо было иметь столь преувеличенное представление о противоположности между истиной и заблуждением.
Кто стремится к точному и истинному познанию, тот найдет его не в Иерусалиме, не в Иерихоне и не в самом духе, — тот найдет его не в каком-нибудь частном явлении, но во вселенной.
Постепенно, шаг за шагом, познанное обнаруживается из непознанного, так что совершенно нельзя уловить здесь начальный момент. Познание развивается и растет, являясь наполовину ошибочным и наполовину верным, становясь все более и более очевидным. Но как невозможно, чтобы когда-либо могло существовать абсолютно ошибочное знание, точно так же невозможно, чтобы когда-либо могло существовать абсолютно истинное знание. Абсолютным, непоколебимым, прочным и неизменным является одно лишь мировое целое, но не какая-нибудь частность.
Чтобы дать точную квалификацию знания, необходимо отделить его от незнания, но проводить эту грань нужно умеренно, не хватая через край, чтобы не впасть в преувеличение. Правда, формальная логика со своей узкой точки зрения учит, что нельзя одновременно что-нибудь отрицать и утверждать. Отрицание и утверждение находятся в непримиримой противоположности друг с другом. Но точка зрения такой логики в самом деле очень узка. Злаки — не сорная трава. Сорная трава исключает злаки, и все-таки она злак. Ошибочное познание есть отрицание истинного познания; заблуждение не есть истина, и все же оно является частицей истины. Как нет абсолютного заблуждения, так нет и познания, которое было бы самой истиной. Всякое знание есть лишь символ или отображение истины.
Мы не хотим смешивать истину с заблуждением, мы хотим познать то и другое. Это смешение делает всякий, кто противопоставляет истину и заблуждение как взаимно исключающие, непримиримые противоположности. Прежде всего несколько критических замечаний по поводу той маленькой ошибки, которую при этом обыкновенно допускают. Противопоставляя ложь и истину, невольно и бессознательно впадают в заблуждение. Хотят ложное знание открыто сопоставить с подлинным: ложь отождествляют с ошибочным знанием — против этого не возразишь, но точное знание нельзя отождествлять с истиной. Это должен иметь в виду всякий, кто стремится к ясным и точным выводам. Если вопрос поставить правильно, а именно так: в чем различие между точным и ошибочным знанием или понятием? — то такая постановка вопроса уже значительно ближе подвигает нас к желаемой ясности и отчетливости. Тогда окажется, что заблуждение и познание не исключают друг друга, но являются двумя видами одного рода, двумя индивидами одного семейства.
Дважды два не только четыре. Что 2 x 2 = 4, — это лишь часть истины, 2 x 2 — это равно также 4 x 1 и 8 x ½, и 1 + 3, и 16 x ¼ и т. д. Кто первый заметил, что солнце вращается вокруг земли, допускал ошибку, и все же он подметил что-то верное. Подлинный факт кажущегося ежедневного движения солнца является субстанциальной частью знания, освещающего нам взаимоотношение солнца и земли в процессе их движения. Нет истины, которая была бы безоговорочно проста. Всякая истина является сложной истиной, составленной из бесконечного множества частичных истин. Нельзя в абсолютном смысле противопоставлять кажущееся явление истине, ибо первое связано со второй, как и всякое заблуждение связано с точным знанием.
Поскольку все наши познания ограничены, постольку они заблуждения, постольку все они являются лишь частичными истинами. К точному познанию относится прежде всего неразрывно связанное с ним сознание того, что точное познание является ограниченной частью неограниченной вселенной.
Для уяснения свойств человеческого познания необходимо принять во внимание космическое отношение между целым и его частями, между общим и частным.
Нельзя при исследовании изолировать познание, или, что то же, знание, мышление, понимание, уразумение, от других явлений вселенной. До известной степени, конечно, всякая вещь, подлежащая исследованию в качестве объекта, является изолированной. Я говорю — до известной степени. Это значит, что разделение между объектом данного исследования и другими объектами природы, или мира, следует совершенно сознательно проводить с ограничением, не допуская полного разрыва. Выделение интеллекта в целях его исследования из ряда других объектов или субъектов должно быть неразрывно связано с сознанием того, что такое выделение не безоговорочно, а только формально. Если в целях познания свойств доски я выделю ее из ряда других досок и вещей и нахожу, что она имеет черный цвет, то это нужно все-таки понимать в том смысле, что эта самая доска является черной лишь в связи со всей природой и мировым целым, что черный цвет доски зависит не от нее самой, но от света, глаза и всей мировой связи. Таким образом, каждое отдельное знание становится пропорциональной частью в целом ряде ступеней всего вообще познания, и это последнее становится в свою очередь определенной частью всей жизни вселенной.
Что эта очевидная, универсальная жизнь не есть только видимость, не есть схема, пустое представление, но есть сама истина, в этом убеждает культурного человека его собственное сознание, его ум, его здравый рассудок. Правда, они очень часто обманывали человека. Но что в данном случае они говорят правду, — это ясно без всякой логики и силлогизмов.
И все-таки нелишне будет привести эти доказательства, потому что в них проявляется своеобразное свойство нашего интеллекта, того именно объекта, исследование которого философия делает предметом своего специального изучения.
Что вселенная есть универсальная истина, к этому философия пришла не прямо, а косвенным путем, — именно благодаря тому, что она тщетно стремилась найти из ряда вон выходящую метафизическую истину.
Иммануил Кант самым решительным образом ограничил сферу нашего познания областью опыта. Если же мы теперь знаем, что область нашего опыта и есть сама вселенная, то мы должны знать также и то, что мнимое кантовское ограничение вовсе не является ограничением. Человеческий дух есть универсальный аппарат, все произведения которого, взятые вместе и порознь, составляют часть универсальной истины. Если же и в данном случае можно проводить различие между сомнительным и положительным знанием, то аквизит философии все же учит, что такое различие не может быть исключительным; оно должно быть неразрывно связано с сознанием того, что всякое точное знание состоит из вероятных истин, из явлений истины, из частичных истин.
Разумное знание является не более очевидным, чем что-нибудь другое — таков вывод нашей философии. Оно черпает свою очевидность не из себя самого, но из бытия, из всеобщего бытия. Это всеобщее бытие, из которого мышление черпает свои знания, а знание — свою очевидность, является не только чем-то общим, но также и бесконечно разнообразным, особенным; и обобщение, родство всех вещей, их число и протяжение в общей сложности, не более бесконечно, чем индивидуализация или обособление. Как каждое дерево в лесу, так и каждая песчинка в куче песку есть индивидуальная, отличная от других, обособленная песчинка, и точно так же каждая часть этой песчинки является отдельной, обособленной, индивидуальной частью. Индивидуализация природы идет бесконечно далеко. Отдельный человеческий индивид меняется ежедневно, ежечасно, ежеминутно; то же самое происходит и с индивидом-песчинкой, хотя бы изменяемость последней стала нам заметной только после ряда тысячелетий благодаря накопившимся изменениям. Разлагать группами в пространстве и времени на классы, роды, семейства, виды, подвиды и т. д. эту кишащую противоречиями природу в ее исключительной универсальности и вместе с тем обособленности и дробности — это значит и познавать и понимать.
Во вселенной каждая группа является индивидом и каждый индивид — группой. Однообразие природы не больше, чем ее многообразие. То и другое бесконечно. Мы группируем явления природы в пространстве и во времени. Каждое мгновение состоит из многих, менее значительных моментов. И наименьшую частицу времени можно так же мало фиксировать, как и наибольшую его сумму, потому что в бесконечном, во вселенной не может быть ничего наименьшего и наибольшего ни в пространстве, ни во времени. Атомы — это группы. В виде бесконечно малых частиц они существуют только в мысли, вместе с тем доставляя химии немаловажную помощь. Сознание, что это не материальные, а мысленные вещи, нисколько не уменьшает значения этих услуг; напротив, оно способно их увеличить.
Расчленение, группировка, классификация — вот в чем заключается вся сущность деятельности нашего интеллекта. Мы делим мир на четыре страны света. Мы делим его также на два царства: царство духа и царство природы. Природу опять-таки мы делим на два царства: органическое и неорганическое, или даже на три царства: минеральное, растительное и животное. Словом, путем разделения наука стремится осветить, понять вселенную. Вот тут-то и возникает вопрос: какое же деление является настоящим, правильным, истинным и точным? Где же конец разнообразию нашего знания? Где конец колебаниям в ту и другую сторону, и когда же, в конце концов, познание становится устойчивым?
Читатель должен помнить, что вещи, объекты нашего познания, не только устойчивые, но в то же время изменчивые объекты, что вся вселенная — вселенная подвижная, неизменно развивающаяся, что наш ум с каждым столетием и с каждым годом все более и более обогащается и что наука поэтому должна не застывать на одном месте, но быть в постоянном движении. Устойчивый и текучий элементы также и в науке не настолько исключают друг друга, чтобы точное знание, будучи, точным, не оказывалось бы одновременно несколько расплывчатым.
Человек со своими знаниями — прогрессивное существо. Поэтому и его классификации, понятия и науки должны прогрессировать в соответствии с опытом.
Прочное, устойчивое, так называемое аподиктическое знание, если присмотреться к нему поближе, есть не более как только тавтология. Лишь после того как в обыденной речи укоренилась привычка называть телом только все весомое и осязаемое, стало аксиомой то положение, что все тела весомы и осязаемы. Если в науке или в общежитии выяснилось, что пар, вода и лед являются тремя агрегатными состояниями одного и того же вещества, то нисколько не удивительной будет наша аподиктическая уверенность в том, что вода всюду и во всякое время останется текучей. Это, в сущности, означает лишь, что твердым называется то, что мы называем твердым, и текучим называется то, что мы называем текучим. Но все это ничего не изменяет в том факте, что наша познавательная способность может дать лишь приблизительное отображение явлений природы, где подвижное и неподвижное не противостоят друг другу ни в форме абсолютного противоречия, ни в форме простой противоположности, но, скорее, где положительное и отрицательное переходят друг в друга.
Философы выработали верное понятие познания, развивая постепенно и, в конце концов довольно-таки точно, понятие истины. Слово «точно» нужно, конечно, понимать в умеренном, относительном, не в односторонне преувеличенном смысле. Истина, как бесконечное, как вся совокупность всех вещей и качеств, истина «сама в себе» безусловно точна, но она не может быть адекватно воспроизведена даже с помощью нашего интеллекта, разума или познания. Средство меньше цели, будучи ей подчинено. Так и наша познавательная способность лишь подчиненный слуга истины, т. е. вселенной. Эта последняя есть нечто абсолютно очевидное, несомненное и положительное. Но что этот мир в то же время содержит в себе и призраки, и заблуждения, и ложь, это нисколько не мешает ему быть возвышенным. Напротив. Без греха нет добродетели, нет также и познания, истины, без заблуждения. Все отрицательное, все наши грехи и заблуждения — все преодолевается, и истина только благодаря этому проявляется во всем своем блеске и величии. Вселенная, универсальная истина, — это развивающаяся сущность. Она абсолютна, но не для одного какого-нибудь определенного времени или места, не на один определенный момент и не в одном каком-нибудь специальном месте. Она абсолютна лишь во всеобъемлющем единстве всех тысячелетий и пространств.
Нам говорят, что все это слишком необъятно для нашего интеллекта, недоступно ему. Правда, он не может втиснуть все это в рамки своих категорий, своих родовых понятий, или же он должен поставить категорию неограниченной, неопределенной, бесконечной истины на первый план. Если эта истина «недостаточно ясна и очевидна», то это убеждает нас в том, что роль ясной и очевидной, рассудочной категории нашего духа сводится лишь к тому, чтобы познавать себя как подчиненный фактор природы.
Такое познание познания, такое высшее сознание, сопутствующее нашему повседневному опыту, вызывает гордое смирение, смиренную гордость, высоко поднимающуюся над убожеством попов, над односторонне преувеличенной пропастью между богом и миром, творцом и творением. Сотворенный человеческий дух не является уже более утесненным рабом, которому непостижимы судьбы несотворенного, божественного чудовища-духа. Философски просвещенный и познавший самого себя человеческий дух сознает себя частью, отпрыском абсолютной природы. Это не только ограниченный человеческий дух, но также и дух неограниченной, вечной, всемогущей вселенной, наделившей его способностью знать все доступное познанию. Но когда этот дух стремится познать абсолютно все, то тем самым он требует, чтобы знание было всем. Тогда он выходит из своих пределов, наглеет и извращает отношение между наукой и бесконечностью, ибо бесконечность шире науки, являясь ее объектом.
15. Заключение
Философ Гербарт говорит: «Если бы смысл слова каждый раз менялся в зависимости от его употребления на практике, то метафизика была бы крайне расплывчатым и мало понятным словом. Кто хочет знать, какое значение имело это слово в прежнее время, тот пусть познакомится с произведениями прежних метафизиков, начиная от Аристотеля и кончая Вольфом и его школой. И тогда он увидит, что во все времена предметом этой науки было понятие о сущем и его свойствах, понятие о причине и действии, о времени и пространстве... Он увидит далее, что сделано было немало попыток логически обработать эти понятия, и это вызвало бесконечные, разнообразные споры. Эти споры... определяют понятие метафизики».
Этих слов Гербарта вполне достаточно, чтобы, подвергнув их предварительно некоторой критике, обрисовать аквизит философии.
Метафизика всегда была главной частью философии. На первой странице своей книги «Учебник введения в философию» Гербарт дает такое определение философии: «Философия или наука о выработке понятий». Согласно такому определению, метафизика должна была бы заниматься обработкой вышеуказанных специальных понятий о сущем и т. д. Следует заметить, что понятие о сущем является не столько специальным, сколько общим понятием, охватывающим все понятия и все вещи. Сущее — это все и вся. Это, однако, было недоступно пониманию метафизики, и неудивительно, что она запуталась в разногласиях. Но, как мы только что узнали из объяснений Гербарта, понятие метафизики определяется не столько выполненной ею работой, сколько вызванными ею «спорами». Метафизика не выработала, но сделала лишь логическую попытку выработать понятие о сущем, запутываясь при этом на каждом шагу в разногласиях и не имея к тому же ничего общего с наукой. Науку, так говорит Кант в своем предисловии к «Критике чистого разума», мы познаем по единогласию, а не по разногласиям.
Философия преодолела метафизические споры тем, что она, вырабатывая понятия или сущность понятий, пришла к ясной, точной, отчетливой теории познания, которую я и старался здесь изложить.
Способность понимать была унаследована современным человечеством от суеверных предков, смотревших на нее как на вещь из другого мира. Мечта о «другом мире» есть, однако, метафизическая мечта, запутавшая понятие о сущем.
Философский аквизит доказывает и дает нам гарантию того, что существует лишь один мир, что этот мир содержит в себе все бытие, что это бытие состоит из бесконечно многих видов, но что все виды, однако, имеют одну общую естественную природу. Таким образом, философия сделала понятие о сущем понятием бесспорным и вместе с метафизическим разногласием преодолела и самое метафизику.
Общее бытие имеет лишь одно качество, а именно естественность общего бытия. Но в то же время это качество обнимает собой все частные качества. Как понятие злака обнимает собой все виды злаков, в том числе и сорную траву, так и понятие сущего обнимает собой не только все, что существует теперь, но также и то, что уже не существует, что было когда-то и будет еще в будущем.
Освободить «понятие о сущем» от метафизической путаницы не так-то легко, в особенности тем, кто приписывает высшему закону логики исключительное значение. Этот закон гласит так: «Из двух совершенно различных предикатов один субъект может обладать только одним предикатом, потому что один и тот же субъект не может быть А и в то же время не-А».
Около этого положения в сущности вертится все прежнее учение о понятиях. В основе закона лежит нечто правильное, но здесь же скрывается корень всяких недоразумений. И только тогда, когда мы познакомимся с тем, к чему, в конце концов, пришла наука о понятиях, только тогда, когда аквизит философии уяснит этот закон, — только тогда это столь прочно установленное и все же столь часто оспариваемое положение при соблюдении необходимых ограничений получит непреходящее значение.
Прежде всего понятие «субъект» не является прочно установленным, — это исключительно изменчивое понятие. В конечном итоге, как это видно из предыдущего, существует лишь один универсальный субъект, изменчивый — повсюду и вместе с тем — нигде.
Главное основоположение старой, испытанной аристотелевской логики говорит нам, что человек, субъект, который хромает, не может проворно прыгать. И тем не менее у меня есть приятель, который был совершенно хромой, а теперь великолепно прыгает, — здесь нет никакого противоречия. Но если бы я стал рассказывать кому-нибудь третьему о своем хромом приятеле и в рассказе заставил бы этого хромого субъекта без всяких дальнейших объяснений прыгать через стулья и скамейки, то это была бы совершенно «немыслимая» вещь, и я «противоречил» бы самому себе. Подобное противоречие является нарушением правил всякой логики, но не потому, что проворный и хромой по существу совершенно различные предикаты, не приложимые к одному субъекту, и не потому также, что вообще не может быть ничего противоречивого, немыслимого. Сущее есть нечто весьма противоречивое, но не безусловно, не непримиримо противоречивое. В логическом рассуждении нельзя упускать из виду опосредствования. Благодаря опосредствованию разрешаются всякие противоречия. В усвоении этого взгляда и состоит аквизит философии.
Для туманной метафизики бытие и небытие — противоположности, взаимно исключающие друг друга противоположности или абсолютные различия. Для метафизики неясно, является ли обыденное бытие истинным, а не только кажущимся бытием, и нет ли где-нибудь на Олимпе или в каких-нибудь заоблачных сферах какого-нибудь другого, «совершенно различного» бытия. Философия, в конце концов, все-таки установила тот факт, что и призрачное, кажущееся бытие нужно так же решительно считать действительным бытием, что всякое отрицание, присущее этому бытию именно в силу призрачного, преходящего характера, с излишком компенсируется положительной стороной, перед которой совершенно стушевывается его отрицательная сторона. Бытие и признание его таковым — абсолютны. Отрицание и небытие лишь относительны. Бытие доминирует повсюду, во всякое время и настолько, что не может быть небытия. Если мы и говорим о том, что то или другое есть ничто, то все-таки у нас будет оставаться сознание того, что все, что мы обозначаем словом «ничто», все еще есть нечто очень значительное, положительное. Не может быть речи о таком незнании, которое тем не менее не знало бы еще очень многого. Нет такой сорной травы, которая не принадлежала бы к злакам, нет зла, которое нельзя было бы превратить в добро. Все есть сущее, что было и будет и есть в настоящее время. Небытие не существует. Если же о нем говорят, то оно представляет собой, по крайней мере, слово, хотя и пустое. Мир и наша речь настолько положительны, что даже ничего не говорящее слово все же кое-что говорит. Абсолютное «ничто» нельзя выразить словами.
Предрассудок, что есть другой, «истинный» мир, который господствует над нашим миром явлений или таинственно скрывается за ним, до такой степени испортил логику, что теперь трудно вытравить укоренившееся в человеческой голове метафизическое «понятие о сущем». Вера в принципиально различное глубоко засела в нашей голове. В особенности же трудно показать, что мысленные вещи имеют одну общую природу с действительными вещами, что оба они относятся к природе действительности.
Мысленные вещи — это образы, реальные образы, образы действительности. Все члены воображаемого нами дракона все же являются формами, заимствованными из природы. Такого рода воображаемые истины отличаются от познанных истин только тем, что они искусственно нами скомпилированы с помощью фантазии. Соединять в известном порядке природу и жизнь человека — к этому сводится вся задача познания. Знание, мышление, понимание, объяснение не могут делать ничего другого, как только описывать явления опыта, разделяя и классифицируя и их в известном порядке. Это значит: оно должно дать нам копию явлений. Знаменитый естествоиспытатель Геккель презрительно называет подобную работу «музейной зоологией» и «ботаникой гербаризаторов». Но этим он только показывает свое непонимание тайны нашего интеллекта, перед которым он, подобно нашим предкам, метафизически преклоняется.
То, что Дарвин констатировал относительно «происхождения видов», относительно переходов и развития органической жизни, является, конечно, очень ценным дополнением к музейной зоологии. Кто воображает, что от нашей интеллектуальной способности можно ожидать большего, тот не познакомился еще с аквизитом философии, тот не успел еще отрезвиться от совершенно напрасного удивления и связанного с ним благоговейного отношения к таинственности нашего интеллекта, отношения, возникающего в первобытную эпоху на почве невежества.
До наших дней познание пребывало в заблуждении относительно самого себя и было поэтому плохо приспособлено к тому, чтобы давать точное описание родственно связанных с ним явлений природы и жизни. Тем не менее с развитием культуры оно приобрело известный навык и непрерывно прогрессировало. Ошибки познания никогда не были совершенно бесполезными, а его положительные достижения никогда не будут вполне исчерпывающими. Причина этого заключается не в несовершенстве нашего интеллекта, но в неисчерпаемости бытия, в неописуемом богатстве природы.
Сознательному, философски дисциплинированному знанию и интеллекту в настоящее время должно быть хорошо известно, что точность всякого исследования ограничена, и в этом смысле и впредь все выводы такого исследования не будут свободны от ошибок, будучи несовершенными. Но наука, выработавшая себе такой взгляд на теорию познания, примиряется с сознанием своей ограниченности, вменяя себе это в заслугу. Признавая свою ограниченность, интеллект сознает свою причастность к абсолютному мировому совершенству.
Интеллект, познавший самого себя, усвоивший философский аквизит, знает, что он в смысле чувственной физики может понять весь мир, т. е. может его описать. «Здесь нет ничего для него недоступного». В смысле же запредельной метафизики наше познание не оправдывает своего названия. Но зато тогда и такая метафизика с точки зрения здравого рассудка является чистой фантастикой.
Исходя сначала из фантастических идеалов, из противоречий, и, главным образом, из противоречий между бытием и видимостью, метафизика постепенно вместе с развитием культуры отбрасывала их и становилась философией, которая, в свою очередь, подобно всякой другой науке, все более и более совершенствовалась.
Философия на первых порах была проникнута туманным стремлением к универсальной, мировой мудрости и, в конце концов, избрала предметом своего специального исследования теорию познания.
Эта теория составляет самую существенную часть психологии, или науки о душе. Психологи новейшего времени если еще не убедились, то все же склонны думать, что душа человека есть не метафизическая вещь, но явление.
Подобно тому как профессор Геккель высказывал свое недовольство по поводу музейной зоологии и ботаники гербаризаторов, так и психологи недовольны сухой, мертвой регистрацией, господствующей в их специальности. Согласно последней, душа человека наделена бесчисленным количеством отдельных «способностей» — познавательной, чувствующей, ощущающей, наделена разнообразнейшими душевными способностями. Но как пробуждается их жизнедеятельность? Что связывает их между собой и со всем миром?
В человеческой душе можно, между прочим, найти понятие и чувство прекрасного. Прекрасное в свою очередь распадается на художественно-прекрасное и морально-прекрасное, и каждое из них в свою очередь разделяется на множество видов и подвидов. Наряду с прекрасным существует красивое, прелестное, грациозное, достойное, благородное, торжественное, великолепное, патетическое, трогательное. Точно так же психология трактует о смешном, а именно об остроумии, сатире, иронии, юморе и о множестве других тонкостей и оттенков, желая с помощью точных понятий их разграничить, точно так же, как поступает ботаника, минералогия, зоология и вообще всякая наука в пределах своей области.
Предметом изучения всякой науки является сущее. Что же остается тогда на долю метафизики? Метафизика ставила себе целью познать другое, трансцендентное бытие, отличное от бытия, изучаемого специальными науками. Вот именно это обстоятельство и побудило Канта сконцентрировать все свое внимание на одном вопросе: как возможна метафизика как наука?
Показать, что метафизика возможна только как фантастика, — в этом и состоит аквизит философии.
Придать сущему характер исключительности — это дело метафизики. Упорядочить сущее по способу гербаризаторов — это дело специальных наук. Классический порядок заложен уже в самом царстве растений. Без него ни один специалист-ботаник не в состоянии был бы классифицировать это царство.
Объективный порядок, господствующий в мире растений, все-таки несравненно более многообразен, чем субъективное упорядочение этого мира, доступное ботанике. Последнее является точным, если только оно стоит на высоте науки своего времени. Всякий, кто стремится к абсолютной ботанике или психологии, или же к какой-нибудь другой абсолютной науке, тот не понимает ни общего, естественного характера абсолюта, ни относительного, специального характера нашей способности познания.
Знакомая со своим историческим аквизитом философия понимает сущее как неисчерпаемый материал для жизни и науки, материал, распределяемый специальными науками по родам и видам.
Философия учит специалистов исходить при распределении бытия по отдельным специальностям и понятиям из сознания того, что все обособленные явления находятся во взаимной живой связи и в жизни существуют не так раздельно, как в науке, переходя и переливаясь друг в друга.
Таким образом, завершением нашего учения о понятии, в конце концов, является следующий закон — необходимо строго расчленять универсальное понятие, или понятие о Вселенной, на подчиненные ему понятия, делить его и расчленять до бесконечности. Но при этом следует помнить, что такого рода классификация понятий есть только формальность, с помощью которой человек ориентируется в своем опыте. Далее. Необходимо помнить, что по мере накопления нашего опыта мы имеем право уточнять его, внося изменения в классификацию.
Вещи — это понятия, понятия — имена, а вещи, понятия и имена находятся в процессе постоянного совершенствования.
Устойчивое движение и подвижная устойчивость — вот противоречие, которое ждет своего разрешения, а это разрешение даст возможность примирять все противоречия.
Раздел второй
Письмо Карлу Марксу, 24/Х (5/XI) 1867 год
Милостивый государь!
Прошу Вас разрешить мне, не знающему Вас лично, принести вам свою глубокую благодарность за неоценимые услуги, которые вы оказали своими исследованиями как для науки, так и для рабочего класса. Уже в ранней юности, когда я мог скорее только предполагать об исключительно богатом содержании ваших сочинений, чем понимать их, я был пленен ими, не мог оторваться от них, читал и перечитывал их, пока в надлежащей мере не уяснил их себе. Воодушевление, которое возбудило во мне изучение Вашего только что вышедшего в Гамбурге труда[19], побуждает меня к несколько нескромной настойчивости — засвидетельствовать вам свою признательность, почтение и благодарность. В свое время я усердно изучал вышедший в Берлине первый выпуск «К критике политической экономии» и признаюсь, что никогда ни одна книга, как бы объемиста она ни была, не дала мне столько новых, положительных знаний и не была так поучительна, как эта маленькая тетрадь. С большим нетерпением ожидал я продолжения. Вы впервые в ясной, неоспоримой и научной форме показали, к чему приведет сознательная тенденция исторического развития, а именно — к подчинению доселе слепой стихийной силы процесса общественного производства человеческому сознанию. Вы раскрыли значение этой тенденции, Вы способствовали прояснению взгляда, что наше производство бессознательно, — вот в чем Ваша бессмертная заслуга! Со временем Вы достигнете всеобщего признания. Между строк Вашего труда чувствуется, что Ваше глубокое экономическое учение опирается на прочные философские предпосылки.
Я затратил много труда на изучение философии, и я не могу подавить своего желания, — доведя до Вашего сведения, что я только кожевник, получивший элементарное образование, — вкратце сообщить Вам о моих тучных исканиях.
С самого начала я стремился к систематическому мировоззрению. Людвиг Фейербах указал мне путь. Но все же многим я обязан собственной работе, — так что я решаюсь сказать о себе: всеобщие явления, природа общего начала, или «сущность вещей», мне теоретически ясны. Что мне еще остается исследовать, — это частные явления. Но так как мне известны некоторые из них, то я говорю себе, что знать все — это слишком много для одного человека.
Основа всякой науки — познание мыслительного процесса.
Мыслить — это значит из чувственных данных, из частного, выводить общее.
Чувственное явление образует необходимый материал мышления. Оно должно быть дано до обнаружения сущности, всеобщего или абстрактного. Понимание этого факта заключает в себе разрешение всех философских загадок. Например, вопрос о начале и конце мира не относится уже больше к науке, если мир может быть только предпосылкой мышления или знания, но не их результатом.
Сущность мысли сводится к числу. Все логические различия чисто количественны. Всякое бытие есть более или менее устойчивая видимость, всякая видимость — более или менее устойчивое бытие.
Все причины суть действия, и наоборот. В пределах ряда следующих друг за другом явлений всеобщее предшествующее является причиной. Например, вследствие выстрела из пяти птиц улетают четыре. Значит, выстрел есть причина того, что четыре улетели, а неустрашимость — причина того, что одна осталась. Наоборот, если улетит одна, а четыре останутся сидеть, то причиной бегства окажется уже не выстрел, а пугливость. Один знаменитый физик пишет: «Мы не можем воспринимать самую теплоту; только по явлениям мы заключаем о существовании в природе этого агента». Я же, наоборот, — из невоспринимаемости «самой теплоты» заключаю об отсутствии этого агента, причем явления или действия теплоты я принимаю за материальное содержание, из которого сознание образует абстрактное понятие теплоты. Если, не смешивая понятий, мы назовем конкретное и чувственное материей, тогда абстрактное содержание его будет силой. При взвешивании товаров измеряют в фунтах вес, силу тяготения, не принимая в соображение материю. Пошлый Бюхнер говорит: «То, что мне теперь нужно, — это факты», но он не знает, что ему нужно. Наука имеет дело не столько с фактами, сколько с объяснением фактов, не с материей, но с силой. Хотя в действительности сила и материя тождественны, все же попытка их разграничить, отделить частное от общего, более чем понятна. «Нельзя видеть силу». Да, но самое зрение и то, что мы видим, это чистая сила. Конечно, мы видим не «самые» вещи, но только их действие на наши глаза. Материя непреходяща — это означает только то, что она существует везде и во все времена. Материя дана в явлениях, а явления материальны. Различие между явлением и сущностью чисто количественное. Мыслительная способность соединяет многое в одно, части — в целое, преходящие явления — в непреходящие, акциденции — в субстанцию.
Мораль. Под моралью понимают те мотивы, которые усваиваются человеком в целях собственного благополучия и благополучия окружающих людей. Число и степень этих мотивов определяются различными лицами и общественными группами по-разному. Раз дана общественная группа — мышление должно только отделить общее право от частного права. Что такое цель? Что такое средство? По отношению к отвлеченному человеческому благу все цели — средства, и в этом смысле положение «цель оправдывает средства» неопровержимо.
Мне кажется, что у меня столько новых данных, что, если бы не недостаток образования, я написал бы научный труд на эту тему.
Простите меня, что я решился занять Ваше время и внимание. Я полагал, что Вам могло быть приятно удостовериться, что философия рабочего яснее нашей обычной современной профессорской философии. Ваше одобрение было бы для меня гораздо ценнее, чем если бы какая-либо академия захотела избрать меня своим членом.
Я кончаю повторным заверением, что я горячо сочувствую Вашей деятельности, далеко выходящей за пределы нашей эпохи. Социальный прогресс, борьба за господство рабочего класса интересуют меня больше, чем мои личные, частные дела. Я жалею только, что не могу принять более деятельного участия в этой борьбе. Allons, enfants de la patrie![20]
Иосиф Дицген, мастер Владимирской кожевенной фабрики.
Васильевский остров, С.-Петербург. 24 октября (5 ноября) 1867 г.
«Капитал» Карла Маркса
Критика политической экономии том 1. Процесс воспроизводства капитала
Если меня не обманывает память, Гете, умирая, сказал: «Света, больше света!» Это было вызвано недостатком земного света или, как это, быть может, толкуют верующие, предвкушением иного, небесного света. Такое же действие произвел на меня свет знания, который так обильно излучается из данного произведения. Свет, свет! Как все ясно, как все ярко! — радостно восклицал я, по мере того как постепенно усваивал одну главу за другой. Правда, для этого нужна очень напряженная работа. Но рабочий, привыкший в «поте своего лица» завоевывать не только свои радости, но в десять раз больше радостей для других, не испугается этих трудностей.
Я, будучи кожевником, долго не понимал трудов наших философов, но сказал себе: что другие могут, то и я смогу. Мышление — не привилегия профессоров. Для этого, как и для всякого другого труда, требуется лишь определенная тренировка. Большинство рабочих начинает уже понимать, что они не могут достичь своей цели, не научившись самостоятельно мыслить. Мы, рабочие, начинаем уже понимать, что, пока мы будем жить чужим умом, всегда найдутся люди, которые, пользуясь своим духовным преимуществом, будут нас эксплоатировать материально. Первая задача рабочего, желающего участвовать в борьбе за освобождение своего класса, состоит в том, чтобы жить своим умом, а не чужим. Специалистам мы предоставляем изучать отдельные, специальные области. Но общие интересы класса требуют, чтобы каждый из нас был знаком с нашим общим могучим врагом в социальной борьбе — с капиталом. Здесь уместно прибегнуть к «самопомощи» — к этому коньку, на который нам постоянно указывают адвокаты капитала.
В области экономики человек не может обойтись без посторонней помощи, если он не монах и не пустынник и не питается травами и кореньями. Шульце-Делич вряд ли хочет, чтобы рабочий стал монахом, а Лассаль — чтобы рабочий класс обратился в богомольцев, ожидающих помощи от бога и благотворителей. Оба они указывают на необходимость самопомощи. Но все это не имеет ничего общего с самопомощью. Наша самопомощь вообще не относится к области практики, но к пониманию практики, к овладению наукой. Только здесь индивид может и должен помогать самому себе. По отношению к рабочим, положение которых чрезвычайно тяжелое, приобретают особое значение слова Сократа: «Познай самого себя!».
Автор дает нам зеркало и освещает его не для того, чтобы мы верили, но чтобы мы видели и познавали.
Перед нами — огромный труд. Это не продукт промышленности, вызванный к жизни интересами данного дня, созданный для рынка и для спекуляции. Это и не мнимоученое произведение, которое из тщеславия играет своим объектом и ослепляет наш взор. Это — труд! Это — труд, который является результатом жизни, посвященной несокрушимой любви. Но одна любовь не могла из неразработанного материала старой литературы и современной жизни извлечь эти сокровища науки, очистить их и придать им новую форму. Для этого требовались наряду с горячим сердцем выдающийся ум, четкость неотразимой логики, редкий талант гениального мыслителя и неутомимый труд ученого, глубоко образованного исследователя.
Предмет этого труда достоин таланта, работающего над ним. Правда, и самый ничтожный предмет достоин быть предметом научной обработки. Однако мы считаем одни объекты более, другие менее важными, в зависимости от того, охватывают ли они более общие или менее общие вопросы, а также в зависимости от нашей заинтересованности в них. Но что может больше интересовать в наше время человека, рабочего в частности, как не процесс производства материальных предметов, удовлетворяющих наши потребности? Автор, сказал бы я, сделал своей жизненной задачей изучение этого процесса, исследование его законов. Здесь дело идет не об отдельном лице, ставится вопрос не о том, как я, ты или он добывает себе средства пропитания, но дело идет о нас, о нации или, правильнее, об интернациональной организации труда.
Но отсюда не следует, что этот труд занимается составлением проектов, касающихся будущего положения вещей. Это произведение научно в высшем понимании этого слова. Наука занимается тем, что дано фактически, а не проектами, а если она и говорит о них, то только поскольку они даны и поскольку они вмешиваются в науку, причиняя ей затруднения.
Интернациональная организация труда не есть вопрос будущего — она уже существует. Из того факта, что мы только косвенно живем своим трудом, а прямо продуктами интернационального труда, потребляя русское зерно, голландские сельди, американский хлопок, видно, что труд наш не индивидуальный, но общественный, социальный. Всякий знает, что этот труд кажется нам не общественным, но индивидуальным, однако задача науки показать, что видимость обманывает, что не солнце вращается вокруг земли. Научной задачей политической экономии было раскрыть социальную сущность частного труда. В этой критике Карл Маркс предлагает нам решение этой задачи.
Политическая экономия как наука в своем развитии претерпела ту же судьбу, что и спекулятивная философия; она, как и последняя, не представляла себе ясно ни объекта, ни метода, которым оперировала. Она не удовлетворяла критерию, установленному Кантом для научной работы: «единодушного поступательного развития».— Либих говорит: «Индуктивный метод, которого древние не знали и не применяли с момента своего появления, изменил весь мир. Выводы, к которым приходишь, оперируя этим методом, не что иное, как мысленное выражение опыта и фактов. Даже беглый просмотр журналов по физике и химии приводит нас в изумление... Каждый день сопровождается новыми бесспорными достижениями; хорошо известно, что такое факт, вывод, правило, закон, мнение и объяснение. Все подлежит объективной проверке до того, как пустить в оборот результаты работы. Адвокатский способ навязывания другим своих недоказанных взглядов или намерений здесь немыслим, так как он сейчас же встречает отпор со стороны научной этики».
Такая мораль совершенно отсутствовала у политико-экономов. Они до сих пор еще, равно как и адвокаты, философы и теологи, не пришли к единодушию относительно сущности, границ и структуры своей науки. То они ищут истину индуктивно, на основании действительных явлений, то им кажется, что они могут найти ее спекулятивным путем, без чувственного объекта и опыта, в глубине человеческого духа.
Первой научной заслугой нашего автора является то, что он ясно установил чувственный предмет своего исследования, объект политической экономии. Кто из наших так называемых экономистов может сказать, является ли народное хозяйство организмом, индивидуально расчлененным целым, или агрегатом частных хозяйств, как куча песку, состоящая из отдельных песчинок? Кто может сказать, где начинается национальное хозяйство, национальное богатство и национальный труд и где кончается частное хозяйство, частное богатство и частный труд? Что между этими двумя типами хозяйства существует различие, и даже весьма существенное, — это политическая экономия хотя целиком и не отвергала, но и не осознавала. Различие это смутно чувствовалось, но не было выявлено политической экономией. Она, выражаясь словами Канта, бродила «ощупью».
Наш автор разогнал этот туман. Мы узнаем, что частное производство есть только форма, за которой скрывается его социальная, общественная сущность. По мере того как продукт труда все больше и больше принимает форму товара, труд перестает быть частным трудом. Товар предназначается для рынка — общественного склада товаров. Труд, который не только по форме, но и по существу частный труд, не создает меновых ценностей, но только потребительную. В современном производстве, которое ставит себе целью превратить весь продукт труда в товар, возникает тенденция превратить индивидуальный труд в общественный процесс труда. Эта тенденция первоначально вытекает из природы самих вещей помимо воли и сознания человека. Она есть дело лиц, которые мистически скрываются за вещами, за продуктами. Продукты обмениваются, покупаются, продаются, превращаются в стоимость, в цены, в деньги, в предметы торговли, в капитал и т. д. Все эти экономические отношения понятны только при том условии, если рассматривать буржуазное общество, как своего рода производительное товарищество, которое считает имущих производителями, а неимущих рабочей силой, обращается с ними как с товаром, с сырым материалом и распределяет результаты труда среди самостоятельных производителей, но не по-товарищески, а сообразно труду, затраченному для общества. Так как это общество не есть результат сознательной организации, а продукт истории, то в нем царит не целесообразность, а слепая необходимость. Что, сколько и какой товар должен производиться, — все это предоставляется индивидуальному произволу, который косвенным образом регулируется обществом при посредстве рынка. Производитель волен делать, что хочет, общество ему ничего не предписывает, но потом награждает его либо премиями, либо пощечинами.
Если бы это дело имело голову и могло говорить, оно рассказало бы нам следующее: «Я, общепроизводственный процесс, создающий при помощи доброй матери-природы все предметы для удовлетворения человеческих потребностей, ровесник человеческого рода и, как и он, вечен. Однако я, как и все земное, подвержен изменению. Я появляюсь в различных видах, то как индивидуальное хозяйство, то как хозяйство семьи, то как общинный труд, то как рабский труд, то как цеховое или как «свободное» буржуазное хозяйство. Народным же хозяйством я никогда еще не был, потому что народ никогда еще не хозяйничал, а над ним всегда хозяйничали. Когда я оглядываюсь на пройденный путь, я вижу, что силой, которой я сейчас обладаю, и моей производительностью труда я обязан тому развитию, которое превратило разрозненный труд в согласованный, общественный. Но, радуясь сознанию своей силы, я одновременно замечаю, что я оказываюсь во власти рода человеческого. До сих пор я заставлял народы все больше и больше служить мне. Сначала я при помощи бича рабовладельца организовал труд в более широком масштабе; потом, когда владельцы не могли потребить весь продукт, созданный народом, и это угрожало моему дальнейшему развитию, я собрал власть имущих и объяснил им, что они могли бы увеличить свои радости жизни, если бы они вынесли на рынок весь излишек продуктов и там рассматривали бы их как продукт общественного или товарищеского труда, который должен распределяться между ними сообразно рабочему времени, затраченному на производство. Так, например, вино, изготовленное рабом-римлянином в течение определенного времени дня, недели или года, является эквивалентом коринки, произведенной рабом-греком в течение того же промежутка времени. Чтобы повысить экономическую заинтересованность, я еще прибавил, что действительным будет считаться не то время, которое затратил тот или иной производитель на производство своего продукта, но стоимость продукта будет определяться временем, которое требуется в среднем для производства общественного продукта.
На возражение, что не всякий труд одинаков, что труд художника должен по справедливости оцениваться выше, чем простой труд, что несправедливо оценивать труд только временем, я удостоверяю, что люди умные легко могут сгладить различие этих видов труда, приводя их, как это делается с дробями, к одному знаменателю. Если этим общим знаменателем всякого, даже самого сложного, продукта труда считать «обычный средний труд», причем дневной труд Авеля равнялся бы 2, а дневной труд Каина–1, то это не нарушит того положения, что стоимость вещи определяется средним рабочим временем, затраченным обществом на ее производство. Если в бесплановом обществе производится слишком много товара одного рода и слишком мало другого, то стоимость каждого из них определяется не действительно затраченным на его производство временем, а тем временем, которое общество затратило бы на производство необходимого ему количества товаров. Одним словом, я открыл меновую стоимость, которая заключается в том, что индивидуальный труд сводится к среднему общественно-необходимому труду.
Это было большое достижение, но я не мог этим удовлетвориться. Я хотел и хочу расти и богатеть. Поэтому я придумал важное средство для моего расширения: деньги. Таким образом, я разрешил задачу, полную противоречий, заставив самостоятельные частные хозяйства работать как организованное целое (общественное хозяйство) при посредстве особого товара — денег, общезначимость которого бесспорна.
Когда хозяйство настолько оказалось политически организованным, я мог предоставить заботу о деталях людям. Ведь частные интересы всегда были тесно связаны с интересами общества! Так научились энергично мне содействовать. Из-за меня освободили рабов — сначала наполовину, а потом и совсем; рабы превратились в крепостных и, наконец, в «свободных» рабочих. Хозяйство принимало то античную, то феодальную, то мелко- и крупнобуржуазную, то цеховую и капиталистическую форму, вводило покровительственные пошлины; ввело свободную торговлю, и все это делалось, сообразуясь с моей целью хозяйственности. Из-за меня люди воевали, совершали кругосветные путешествия, вводили рабство и свободу, учились, работали, хлопотали, сберегали, накопляли капиталы, вводили то мелкое парцеллярное хозяйство, то концентрировали и увеличивали его. Однако каждое изменение было прогрессом, а я — производственный процесс — становился более мощным, крупным, богатым и доходным. Я играл преобладающую роль, так что смело могу сказать, что история моего развития является историей развития человечества. Истинность этого положения тем очевиднее, чем ближе я подхожу к современности. Она стала столь очевидной, что люди удивлены и спрашивают: я ли, человек, существую для производственного процесса или, наоборот, — существует ли этот последний для меня?»
Так впервые вышеприведенным образом был ясно сформулирован нашим автором социальный вопрос. Он первый убедился, что производство предметов материальных жизненных потребностей давно уже является общественным делом. Нашей же задачей является теперь сознательно сделать производство таковым. Политическая экономия для Маркса не является непоколебимой твердыней, суммой «вечных истин»: она неизменно развивается. Это база истории культуры. Прошлая культура есть результат постоянного увеличения производительности человеческого труда. Производительные силы — это движущая сила, а человек и его исторические судьбы — только моменты их развития.
Развитие этих сил за последнее время привело к тому, что, создавая национальное богатство, они не обогащают нацию, но ввергают ее в голод и нищету. Наше национальное богатство сосредоточилось, как известно, в руках немногих. Эта концентрация вызвана требованиями экономического развития. Там, где каждый крестьянин имеет свой собственный кусок земли, где каждый ткач ткет на своем собственном станке, невозможны современные методы работы, которые увеличивают производительность труда, может быть, в пятьдесят раз. Чтобы люди не мучились над работой больше, чем требуется, надо было объединить разрозненные земельные участки, соединить в одном месте ткацкие станки, одним словом, сконцентрировать средства труда. Закон физики, согласно которому рычаг удлиняется для приведения в движение большего груза, действителен и для политической экономии, где возможность производить в данное время больше продуктов увеличивается только с укрупнением инструментария, средств труда. В силу этого закона возникло капиталистическое производство. Капитал — это средства труда, которые на протяжении своего развития стали такими свободными и мощными, что не живой рабочий, но вещи, средства производства являются преобладающим элементом труда. Капитал — вещь — стал живым. Он производит самостоятельно, «выводит живых детенышей или кладет золотые яйца», как удачно говорит автор. Не труд, а капитал получает прибавочную стоимость, прибыль, процент, богатство. До сих пор в хозяйстве культивировали только процесс труда, не считаясь с человеком. Эта культура в результате привела к тому, что усиленному производству не соответствует усиленное потребление.
Основная тенденция капиталистического хозяйства сводится к тому, чтобы производить как можно больше при наименьшей затрате силы. Для этого нужна только свобода «свободной конкуренции». Она же заботится обо всем остальном. Она заставляла и заставляет мелкие средства труда прекратить работу, уступая место крупным. Она уменьшает число капиталистов и увеличивает число рабочих. Одновременно с этим этот способ производства стремится купить рабочего, или, правильнее, рабочую силу, по возможности дешевле, оплатить его труд, не считаясь с количеством его продукции, дать ему только минимум, необходимый для его существовании. Таким образом, этот способ производства сам вынужден противопоставить переполненному рынку неплатежеспособного покупателя. Уже в течение нескольких десятилетий промышленность то процветает, то переживает кризис. Едва только какая-либо отрасль производства достигает расцвета, как ее уже ожидает резкий упадок. Трудовой процесс останавливается, общество испытывает нужду, потому что не может потреблять.
Однако «человечество ставит себе всегда только задачи, которые оно может осуществить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что задача ставится только тогда, когда уже имеются материальные условия для ее разрешения или, по крайней мере, если эти условия находятся в процессе становления». На фабричном законодательстве Англии, этой передовой индустриальной страны, детально разбирая его и приводя подлинные документы, автор доказывает, как последовательное проведение капиталистической «свободы» приводит к непоследовательности, а именно к тому, что народное хозяйство не может быть дольше предоставлено своим собственным слепым силам, но должно подчиниться предписаниям человеческого разума. Сперва надо было освободить труд, чтобы сделать его производительным, теперь же надо организовать производительные силы, чтобы их сделать дееспособными.
Конечно, наше общество, забившее себе голову традиционной догмой о свободе, противится этому пониманию и только медленно проникается им. «Нормированный законом рабочий день является результатом долгой, более или менее скрытой гражданской войны между рабочим классом и классом капиталистов». Из документов, свидетельствующих об этой борьбе, автор создал удивительную картину. «Так как борьба открывается в сфере современной промышленности, то она разгорается впервые на ее родине, в Англии. Английские фабричные рабочие были передовыми борцами не только английского, но и всего современного рабочего класса. Философ фабрики Юр клеймит поэтому, как неизгладимый позор английского рабочего класса, то обстоятельство, что на своем знамени он начертал «рабство фабричных законов» в противоположность капиталу, который мужественно выступает за полную свободу труда». «Английские фабричные рабочие играли первую роль в этой борьбе не только среди английского, но и среди современного рабочего класса» «Франция медленно плетется вслед за Англией. В Североамериканских Соединенных Штатах агитация за восьмичасовой рабочий день шагнула семимильными шагами локомотива от Атлантического до Тихого океана». Всеобщий рабочий конгресс в Балтиморе (16 августа 1866 г.) и Интернациональный рабочий конгресс в Женеве (в сентябре 1866 г.) в своих заявлениях согласны с английским фабричным инспектором Р. Заундерсом: «Невозможно предпринять дальнейшие шаги на пути реформирования общества с какой бы то ни было надеждой на успех, если предварительно не будет ограничен рабочий день и не добьются строгого соблюдения установленных для него границ».
«Что такое рабочий день?» — спрашивает автор. С точки зрения «Капитала» ответ таков: «Рабочий день насчитывает полные 24 часа в сутки, за вычетом тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсолютно неспособной к возобновлению своей службы... Что касается времени, необходимого человеку для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил, даже для празднования воскресенья — будь то хотя бы в стране святителей субботы, — все это пустой вздор! Но при своем безграничном слепом стремлении, при своей волчьей жадности к прибавочному труду капитал опрокидывает не только моральные, но часто и физические максимальные пределы рабочего дня. Он узурпирует время, необходимое для роста, развития и здорового сохранения тела. Он похищает время, необходимое для пользования свежим воздухом и солнечным светом. Он урывает обеденное время и по возможности вымогает его в самом процессе производства, так что пища дается рабочему, как простому средству производства, подобно тому как паровому котлу дается уголь и машинам — сало или масло». «Капитал развился в принудительное отношение, заставляющее рабочий класс выполнять больше труда, чем того требует тесный круг его собственных жизненных потребностей, и как производитель чужого трудолюбия, как высасыватель прибавочного труда и эксплоататор рабочей силы капитал по энергии, ненасытности и активности превосходит все прежние системы производства, покоящиеся на прямом принудительном труде». Относительно высказывания Либиха по поводу хищнического характера современного сельского хозяйства автор говорит: «Капиталистическое производство развивает только технику и комбинирование общественного труда, подрывая в то же время источники всякого богатства: истощая землю и изнуряя рабочего».
И, наконец, как богата и убедительна документация, какая бесподобная форма, пользуясь которой автор иллюстрирует свои положения! Всякий беспристрастный читатель, каждый человек, у которого разум не затемнен корыстными побуждениями, должен, читая эту книгу, убедиться в том, что социальный вопрос является не только вопросом рабочего класса, но вопросом жизни человеческого общества вообще.
Иосиф Дицген С-Петербург, Россия, 1868 г.
Научный социализм
Значительное количество читателей «Volksstaat» — противники длинных, глубокомысленных статей на этих столбцах. Я сомневался поэтому, пригодно ли нижеследующее для напечатания. Пусть решит редакция. Однако я прошу взвесить, не столь же ли ценно вербовать посредством основательной работы передовые умы и преданных деятельных единомышленников, как посредством популярных статей стремиться к увеличению их числа. Как о том, так и о другом следует усердно заботиться. Если партия признает факт, что не какие-либо частичные поправки, а лишь радикальная революция общества может избавить нас от нищеты, то из этого следует, что популярной, поверхностной агитации недостаточно, а что на нашей обязанности лежит скорее исследование основ, основательное исследование. Однако к делу.
Современный социализм коммунистичен. Социализм и коммунизм настолько уже сблизились друг с другом, что различие между ними почти исчезло. В прошлом эти обе тенденции различались, приблизительно, как либерализм и демократизм, поскольку всякий раз одно является последствием другого. От всех других политических партий коммунистический социализм отличается тем основным принципом, что народ может стать свободным лишь тогда, когда он освободится от бедности, только социальным или экономическим путем. Различие между современными и прежними социалистическими и коммунистическими учениями состоит в следующем. Прежде основой социализма было чувство несправедливого распределения богатств, тогда как ныне знание исторического движения служит ему предпосылкой. Социализм и коммунизм прошлого умели только вскрывать недостатки, вред. Их проекты будущего общественного строя были фантастичны. Они выводили свои понятия не из мира действительности, не из существующего общества, а целиком из своей головы, и потому они были причудливы. Современный социализм научен. Как естествознание не выдумывает своих тезисов из головы, а берет их из чувственного наблюдения над материальной действительностью, точно так же социалистические и коммунистические учения настоящего не проекты, а знание материально существующих фактов. Коммунистическая организация труда теперь уже ежедневно все более и более осуществляется при господстве буржуазии. Только получаемый продукт еще отнимают у народа. В земледелии, как и в промышленности, мелкое хозяйство падает, и на его место становится массовое производство.
Этот факт создан историей культуры, а не коммунистическими социалистами. Если мы под словом труд будем понимать промышленность, которая производит продукты для собственного потребления рабочего, а под словом промышленность выработку вещей для продажи, т. е. труд для потребностей общества, то легко станет понятным, каким образом развитие промышленности организует труд. На эту фактическую организацию общества опирается научный социализм. Он подходит к делу с индуктивным методом, имеет свою материальную основу, живет не в спиритуалистических сферах схоластического пустословия, а в реальном мире. Общество, к которому мы стремимся, отличается от фактически существующего только формальными особенностями. Это значит, что мир будущего так же фактически материально уже существует в нынешнем мире, как птичка уже материально существует в яйце. Коммунистический социализм настоящего есть не столько политическая партия, хотя он уже и до этого значительно дорос, сколько научная школа. И, странным образом, Интернационал совсем национального происхождения. Он обязан своим происхождением немецкой философии. Если, конечно, в разговорах о «немецкой» науке есть хоть зернышко правды, тогда эту немецкую науку надо искать главным образом только в философской спекуляции.
Последняя в целом есть полоса заблуждений в истории развития науки, но вместе с тем она необходимым образом привела к ряду открытий. Как неуклюжие ружья древних были необходимой ступенью к нынешним усовершенствованным винтовкам разных систем, точно так же метафизические спекуляции Лейбница, Канта, Фихте, Гегеля — лишь условия или неизбежные пути к открытой, наконец, физической истине, что идея, понятие, логика или мышление не есть предположение, не есть предпосылка, а прежде всего результат материального явления. Спор между идеализмом и материализмом, между номиналистами и спиритуалистами, с одной стороны, и реалистами или сенсуалистами, с другой стороны, о том, произошла ли идея от мира, или мир от идеи, что из них причина, а что следствие, — этот спор составляет содержание философии. Противоположность между мышлением и бытием, между идеальным и материальным, есть тот объект, преодоление которого составляет ее задачу. Доказательство этого взгляда я нахожу во второй январской книжке «Unsere Zeit», в статье, которая трактует об опьяняющих средствах — вине, табаке, кофе, водке, опиуме и т. п. После того как автор доказал употребление опьяняющих средств у всех народов, во все времена, при всяких культурных условиях, он полагает, что начало этого факта следует искать там, «где мы находим начало религий и философий, — в двойственности нашего существования, в божественно-животной природе человека». Наша божественно-животная натура другими словами называется противоречием между идеальным и материальным. Религии и философии трудятся над примирением этого противоречия. Философия произошла от религии, против мировоззрения которой она начинает восставать. Для религии идея есть то первоначальное, что создает и приводит в порядок материю. Философия как дочь теологии, естественно, унаследовала много материнской крови. Только ее историческое развитие в течение поколений могло дать антирелигиозный научный результат, неопровержимо верный взгляд, что не мир — атрибут духа, но, наоборот, что дух, мысль, идея — многочисленные атрибуты этого материального мира. Гегель довел науку если и не до самой вершины, то во всяком случае до такой высоты, что двое из его учеников, Фейербах и Маркс, взобрались до вершины. Покончив с метафизикой, Людвиг Фейербах мог дать свой удивительный анализ религии, между тем как Маркс бросил, наконец, луч света на право, политику, историческую теорию, на общее развитие культуры — луч света, который осветил самые глубокие ее основы. Разложение спекуляции, конец философии — это значит передача абсолютного единовластия во всей науке индуктивному методу. Если Гербарт, Шопенгауэр, Гартман и др. все же продолжают мудрствовать или философствовать, то они этим доказывают свою отсталость и благодаря болезненному углублению в область собственной мысли, сидя в тылу, не замечают, что произошло на фронте. Маркс, защитник научного социализма, наоборот, добивается великолепных результатов, применяя логический закон природы — истину абсолютной применимости индукции — к наукам, которые до сих пор спекулятивно извращались. Еще в 1620 г. Бэкон в своем «Новом Органоне» провозглашает индуктивный метод избавителем от бесплодной схоластики, считая его той скалой, которая послужила фундаментом для современного естествознания.
Где речь идет о конкретных явлениях, так сказать, об осязательных вещах, — метод материализма давно уже одержал победу. Но, для того чтобы окончательно разбить схоластическую спекуляцию или дедукцию, недостаточно было одного практического успеха, необходимо было разбить ее окончательно научным, положительным, теоретическим образом. Бокль в своей знаменитой «Истории цивилизации Англии» очень пространно говорит о различии индуктивного и дедуктивного духа, однако в этом совершенно не разбираясь, и тем самым доказывает, — в чем он, кстати, сознается в введении, — что хотя он и ревностно занимался немецкой философией, он все же не сумел ее вполне постигнуть. Если это случается с сухим древом гениальной учености, то чего же ждать от незрелого древа поверхностного общего образования? К последнему относятся не специальные науки, но все общие плоды науки. Поэтому, чтобы яснее показать научную основу социализма, я считаю нужным подробнее разобрать общие выводы философии, разобрать уже преодоленное ею противоречие между индуктивным и дедуктивным духом. Я, однако, сильно опасаюсь при этом, что столь пышно возвещенный результат метафизики может показаться затем уважаемым читателям мелочным, полным общих мест. Я поэтому напоминаю о Колумбе, который со своим яйцом раз навсегда дал доказательство, как великие открытия разрешаются одной гениальной догадкой.
Если мы удаляемся в уединение кельи, чтобы в глубоком созерцании, так сказать, во внутренностях нашей головы, отыскивать истинный путь, по которому мы завтра думаем шествовать, то при этом, следует принять во внимание, что подобное напряжение мысли только потому может иметь успех, что мы уже раньше, быть может, даже бессознательно, при помощи памяти, перенесли из мира в келью наш опыт и наши переживания.
В этом, собственно, и состоит весь курьез спекулятивной философии или дедукции: она предполагает возможности создавать знание без всякого материала, из головы, тогда как на самом деле она есть только бессознательная индукция — мышление и аргументация не без материала, но с неопределенным, а потому сбивчивым материалом. С другой стороны, индуктивный метод только тем и отличается, что он дедуцирует сознательно. Законы естествознания — дедукции, которые человеческий мозг извлек из эмпирического материала. Спиритуалисту нужен материал, а материалисту необходимо одухотворение — вот положение, установленное с математической точностью спекулятивной философией.
Как оно ни очевидно, один взгляд на наши периодические издания покажет нам, как мало еще это положение вошло в плоть и кровь и что не только ученые журналисты, но и высоко ученые государствоведы, юристы и историографы желают черпать свои заключения и тезисы не из существующего материала, а из своей головы, души, совести, категорического императива или им подобных фантастических, таинственных закоулков. Конкретные вопросы дня обыкновенно разрешаются индуктивно при помощи наличного материала. Но во всех отвлеченных вопросах, во всех проблемах философского, религиозного, политического или социального содержания наши научные герои дня обнаруживают свою полную растерянность, — таков спор с Бисмарком: преобладает ли сила над правом или наоборот; такова распря с теологией: создал ли мир своих богов или же боги создали мир, просвещает ли катехизис или естествознание дух, развивается ли всемирная история беспрерывно или кончается страшным судом; таковы политические и экономические вопросы: является ли капитал или труд источником богатства, дает ли аристократия или демократия истинный государственный строй, следует ли быть консерватором, национал-либералом или революционером.
Наши ученые употребляют извлеченные из головы так называемые принципы или идеи, например, идею справедливости, свободы, божественности, истины и т. п., как пробные камни для познания этих человеческих установок. «Мы, — говорит Фридрих Энгельс, — рисуем действительность, как она есть. Прудон требует от современного общества преобразований не по законам собственного экономического развития, а по предписаниям справедливости». Прудон тут является ярким представителем ненаучного доктринерства.
Современный социализм бесконечно выше по своему философскому происхождению. Теоретически единодушная, школа эта твердо и стойко противостоит своим политическим противникам, которые в полном разброде от левого крыла до правого теряются в своих бесконечных оттенках. Как для религиозного исповедания догматы составляют твердое, конкретное основание, так для науки индуктивного социализма твердым основанием являются материальные факты, тогда как политические взгляды либералов так же капризны, как идеальные понятия, как идеи вечной «справедливости» или «свободы», на которые они якобы опираются.
Основное положение социалистической индукции гласит: не идеальные принципы, не откровение, не национальное воодушевление или мечтания, не идеи божественности, справедливости или свободы управляют человеческим миром, а материальный интерес.
Совсем не сокрушаясь об этом обстоятельстве, мы скорее признаем его абсолютно разумным и необходимым, признаем его за нечто, что, пожалуй, можно изменить в фантазии, но в действительности не может и не должно быть изменено. Считая материальные интересы господствующими в мире, мы тем самым не отрицаем душевных и духовных запросов, а также проблем искусства и наук и прочих идеалов. Дело идет не об изжитой уже противоположности между идеалистами и материалистами, а о ее высшем единстве. Оно найдено в убеждении, что наука зависит от опыта, идеал — от материала, небесная свобода и справедливость — от производства и распределения земных благ. Как в сфере человеческих потребностей телесные потребности — самые насущные, а интересы желудка, шкурные интересы являются предварительными условиями для того, чтобы иметь хотя бы только возможность подумать о духовных, идеальных запросах, о потребностях глаза, уха, сердца, точно так же в жизни народов и партий абстрактное мировоззрение находится в зависимости от конкретного способа добывания хлеба. У народов, живущих войной и добычей, другое небо, другая свобода, другая справедливость, чем у наших патриархов, которые, как известно, занимались скотоводством. Оттого, что рыцари и монахи не добывали своих средств к жизни фабричным трудом или биржевыми спекуляциями, — их идеи, понятия о праве, добродетели, чести шли вразрез с либеральными и буржуазными взглядами.
Тут христианство пытается возразить, заверяя, будто при самых разнообразных условиях производства оно проповедывало свою неизменную истину. Если оно таким образом хочет доказать независимость духа от материи, философии от экономии, оно совершенно забывает о том, как часто оно меняло свои одежды в зависимости от того, откуда ветер дует. Оно забывает, что любовь, которую проповедывали его апостолы и отцы церкви, любовь, которая отдает свою одежду, не есть та хорошо одетая любовь, которая снимает с неимущего последнюю рубашку. Конечно, во имя справедливости. Различным отношениям производства и собственности древнего и нового времени соответствуют различные виды христианства. Рабовладельчество в Соединенных Штатах было христианским, а тамошнее христианство — рабовладельческим. Точно так же религиозная реформация XVI столетия была не причиной, а следствием уже совершившейся социальной реформы. Предшествовавший расцвет мореплавания, открытие Нового Света доказывают расцвет трудолюбия.
Последнему нечего было делать с изнуренным молитвами и постами телом, и поэтому оно придумало протестантское учение о благодати, которое заменило религиозную молитвенную деятельность материальной, промышленной.
Что эта материалистическая теория в вопросах миросозерцания и жизнепонимания есть научная индукция, а не праздная спекуляция, видно еще яснее, если мы произведем обратный опыт и применим результат к пониманию политических фракций. Клубок партийного раздора распутывается под этим лучом света в гладкую, бегущую нить. Юнкера влюблены в абсолютную монархию, потому что абсолютная монархия уже давно влюблена в юнкеров. Фабриканты, купцы, рантье, словом — капитал либерален или конституционален, потому что конституционализм есть господство капитала, который дает полный простор росту процентов и распространению ремесл, снабжает фабрики вольным трудом, способствует процветанию акций и бирж и вообще покровительствует рыцарям промышленности. Мелкий мещанский люд, сапожники, лавочники и крестьяне попеременно примыкают к партии феодалов, ультрамонтанов или «синих» демократов, смотря по тому, кто этим несчастным обещает поддержку против тягостной конкуренции крупного капитала. Повсюду та же политика: «чей хлеб ешь, тому и песню пой».
Крылатое слово о политическом лицемерии, которым потчуют друг друга парламентские партии, передано Бисмарку ренегатами нашего лагеря, которых он охотно берет к себе на службу. В основании этого слова лежит социалистический взгляд, что дворянское или мещанское сознание покоится на дворянской или буржуазной классовой потребности, что за высокими фразами о набожности, свободе, прогрессе, родине стоит материальный интерес как созидающий фактор. Правда, этого не сознают. Но с истинами бывает то же, что с эпидемиями, — они висят, так сказать, в воздухе и если не сознаются, то все же чувствуются. Таким образом, политическое лицемерие нашего времени наполовину сознательно и наполовину бессознательно. Многочисленные идеологи принимают фразы идеального восторга за чистую монету, но нередки и хитрецы, которые пускают эту монету в обращение с намерением извлечь из нее выгоду. Различные классы, при различных отношениях производства и собственности, последовательно захватывали политическую власть. Интересы господствующего класса всякий раз временно являлись интересами массы, т. е. общими культурными интересами.
До поры до времени означенная партия поэтому была вправе выдавать свое специальное благо за общее. Но прогресс постепенно сводит все на нет, даже право та власть, и, как только отношения производства гибнущих классов приходят в конфликт с духом времени, их идеологи становятся лицемерами. Конечно, единичная личность может возвыситься над своим классовым сознанием и отдать должное общему интересу, Сийес и Мирабо, хотя и принадлежали к первому сословию, все же защищали интересы третьего сословия. Но эти исключения только подтверждают полученное индуктивным путем правило, что в естествознании, как и в политике, телесное есть предпосылка духовного.
Сделать гегелевскую систему исходной точкой материалистического метода могло бы, конечно, показаться противоречивым, потому что, как известно, «идея» занимает в ней еще более выдающееся место, чем в какой бы то ни было другой спекулятивной системе. Но гегелевская идея хочет и должна воплотиться, итак, это — материалист в маске. И точно так же, наоборот, действительность является там под маской идеи или логического понятия. В «Листках литературных бесед» некто Иоганн Фолькелт сказал недавно: «Мыслители должны ныне выдержать пробу эмпирии. Как раз гегелевскому основному принципу нечего бояться этой пробы. Из его выводов следует, что как природа, так и исторический дух могут быть постигнуты только с помощью имеющегося материала». Подобные проблески истины встречаются нам часто в ежедневной прессе, но последовательное, систематическое проведение этой теории свойственно только научному социализму. Индуктивный метод из телесного факта извлекает духовный вывод. Родство его с социалистической точкой зрения, которая ставит идеальное представление в зависимость от телесной потребности, а политическую партийность от материальных отношений производства, просто поразительно. Этот научный путь соответствует также потребностям массы, для которой речь идет прежде всего о материальном существовании, тогда как господствующий класс придерживается дедуктивного принципа, того предубежденного ненаучного мнения, что духовное развитие, воспитание и образование должны предшествовать материальному разрешению социального вопроса.
Религия социал-демократии[21]
IV
1
Собственно говоря, это скверная поповская повадка — обращаться к вам, мои уважаемые единомышленники, с церковной кафедры. Церковная кафедра, христианство, религия — все это вещи и названия, которыми столько уже злоупотребляли, что правдивому человеку должно быть противно приходить с ними в какое бы то ни было соприкосновение. Тем не менее необходимо подойти к ним как можно ближе, чтобы разделаться окончательно со всем этим. Чтобы выкинуть за двери навязчивого человека, его приходится обнимать. Такова уж диалектика жизни.
Часто в истории мы видим, что одни вещи превращаются в другие, сохраняя, однако, свое название. Неосведомленному человеку новые изменившиеся понятия выдают за неизменные старые принципы — таковы религия, христианство, церковная кафедра. Этот консервативный прием вызывает в умах отвратительную путаницу. Даже уважаемые товарищи попадаются иногда на эту удочку. Они говорят: «Христос был первый социалист». Социализм и христианство так же различны, как день и ночь. Конечно, оба они имеют нечто общее, но что же не имеет чего-нибудь общего? Что не сходно? День и ночь, несомненно, сходны в том, что оба они отрезки общего времени. Дьявол и архангел, несмотря на то, что у одного черный, а у другого белый цвет, тем не менее сходны в том, что у каждого из них имеется окраска. Это вообще специальная способность нашего ума приводить всякое разнообразие к одному общему знаменателю. Пусть даже христианство и социализм имеют довольно много общего, тем не менее тот, кто сделал бы Христа социалистом, по праву заслуживал бы названия вредного путаника. Не достаточно еще знать общее сходство вещей — следует также узнать их различия. Не то, что социалист имеет общего с христианином, но то, что в нем есть особенного, что его отличает от последнего, — вот предмет нашего внимания.
Недавно христианство было названо религией раболепства. Это в самом деле самое удачное его обозначение. Раболепна, конечно, всякая религия, но христианская религия есть самая раболепная из раболепных. Возьмем наудачу какое-нибудь христианское изречение, встречающееся на улицах в виде надписей. Где я обычно хожу, стоит крест с надписью: «Иисусе сладчайший, помилуй мя!», «Святая Мария, моли бога о нас!» Тут пред нами безмерное смирение христианства во всем его жалком ничтожестве. Ведь тот, кто таким образом возлагает все свои надежды на жалость, тот поистине жалкое создание. Человек, который исходит из веры во всемогущего бога, который падает ниц пред роком и силами природы, который в сознании своего бессилия умеет только смиренно умолять о сострадании, не может быть годным членом нашего нынешнего общества. Если современные христиане — иные люди, если они смело глядят вперед на несчастья, ниспосылаемые высшими силами, и стараются своим живым воздействием изжить злополучия, то они подобными поступками уже возвещают свое отпадение от веры. Хотя христиане сохраняют свое название, свои молитвенники, свои душевные страдания, все же они в своих делах и побуждениях полнейшие антихристы. Мы, нерелигиозные демократы, имеем то преимущество, что мы ясно сознаем положение вещей. Мы хотим с полным знанием и волей, в теории и на практике быть деятельными противниками овечьей, блаженной покорности.
Благодаря дурной привычке, так глубоко засевшей в существе человека, мы хотим, чтобы то, что однажды при известных условиях имело смысл, сохранялось на вечные времена. Эгоистические, тупоумные пошляки хотят отрицать, примирить, утаить противоречие между христианским презрением мира и жизнерадостным инстинктом, который господствует в наше время. Христианство требует отречения, тогда как теперь требуется упорный труд для удовлетворения наших материальных потребностей. Упование на бога — главное качество христианина; вера в самого себя, прямая противоположность первого, — главное условие для успешной работы. Кто решается вложить в уста христианина учение: «Надейся на бога, но сам не плошай», и хочет сказать этим, что труд не есть нечто нехристианское, а, напротив, заключается уже в христианском учении, тот завзятый софист. Христианский труд бесконечно далек от настоящего, современного труда. Христианин трудится для неба, чтобы бичевать плоть, чтобы подавлять радости; а если он трудится для хлеба, для пропитания, то это должно быть пропитание, которое только продлило бы муки в этой юдоли плача и страданий, чтобы через них стать достойным истинной, вечной жизни. «Кто презирает жизнь свою тут, на земле, тот сохранит ее для вечной жизни» (Иоанн, 12, 25). Вечная, загробная жизнь — цель христианина, обыденная земная жизнь — цель разумного человека.
Доктор теологии Даниил Шенкель из Гейдельберга горячо восстает против утверждения, будто главная задача христианства состоит в отрицании мира. «Как, — восклицает он, — этот мир является для христианства не только недостойным, но даже невозможным местопребыванием религии? Этот мир, о котором евангелист Иоанн говорит: «И так возлюбил Господь мир, что он послал в него сына своего», и т. д.? Разве старейшие христиане хотели уйти из мира? Разве они не ожидали скорее, что Христос, как могучий, победоносный царь, сойдет к ним на землю, чтобы существующий дурной мировой порядок заменить иным, лучшим, но все же мировым порядком?» Так говорит софистический резонер, которому дела нет до правды, а только хочется разукрасить свою свободомыслящую половинчатость и трусость звонким именем религии и христианства. Или, может быть, в своей потребности обмануть других он, в конце концов, обманывает лишь самого себя? Разве он не знает, что христианство имеет, подобно пруссакам, два мира — черный и белый? Красивый, пестрый мир действительности христианин замазал черной краской. Его красоты для него только искушения дьявола, труд — проклятие, любовь — преступная похоть, плоть — тяжесть, помеха духу, тело — «вонючий гнойник». Как заколдованный принц, превращенный в дикого зверя, так светлый мир христианского воображения запрятан в эту черную действительность. Чтобы освободить нас из этого мира, господь прислал своего сына, который уводит нас в христианский, райский мир. Наподобие дерева, сделанного из железа, тот мир состоит из духовной материи; мужчины и женщины в нем не имеют пола, их тела не имеют веса, их труд не стоит никаких усилий. «Ангелы варят без мяса похлебку блаженства». Конечно, старейшие христиане хотели уйти из мира. Они ежечасно ожидали пришествия господа, гибели и страшного суда. «Мое царствие не от мира сего».
Однако христиански-фантастическое избавление, которое хочет излечить земные страдания не производительным трудом, а верой и надеждой, не могло, конечно, надолго заглушить разумное требование материального наслаждения жизнью. Еретики и реформаторы, протестанты, друзья света и всякие вольные общества, старо-католики и немецкие католики, Фрошаммер и Шенкель — все они более и более способствовали торжеству окрашенной в черный цвет истины над белой ложью религиозного вымысла. В этом мы, социалисты, согласны с «прогрессистами». Но мы не желаем поддержать трусость, которая хочет представить отпадение от веры как восстановление истинного христианства и, таким образом, не желает отказаться от названия. Необходимо дискредитировать название, для того чтобы уничтожить самое дело.
Так же двусмысленно, как буржуазное народное хозяйство, как буржуазная свобода, равенство и братство, так же двусмысленна религия этих лакеев капитала. Комедию «отречения от мира», разыгрываемую прежде толстопузыми монахами, теперь продолжают толстосумые буржуи. Самое комичное при этом то, что прогрессиста опередил монах, так как тот даже не сознает своего религиозного ничтожества. Не имеющее ни цвета, ни запаха, безвкусное христианство этих новомодных ветрогонов, однако же, претендует на звание подлинного, истинного, настоящего. Классические древние христиане, календарные святые, ведь и в самом деле были мироненавистниками, истязателями плоти: они жили в одинокой келье, носили грубую одежду, бичевали тело и питали его только кореньями и травами. Их жизнь подтверждала их учение о том, что «бог есть дух и кто хочет поклоняться ему...» и т. д. Наши современные крестоносцы открывают следующую страницу, на которой написано: «Он стал плотью и жил среди нас». Конечно, зародыш двусмысленности, противоречивая непоследовательность содержится уже с самого начала в христианском учении. Апостолы и отцы церкви делают местами уступки; они поучают, как изгонять страсть женитьбой, сатану Вельзевулом. Иногда молитва и посты считаются высшей добродетелью, в другой раз, наоборот, говорится: «Господу богу не до плоти человеческой». Раз невозможно перешагнуть через природу вещей, раз невозможно представить себе человека не от мира сего, то христианство не может игнорировать совершенно наслаждения жизнью, и оно неизбежно вовлечено в житейские заботы. Однако зоркому демократу хорошо удастся видеть лес за этими деревьями. Христианский лес находится в царстве юдоли и скорби и зовется: воздержание на земле и «сахарной горошек» [22] в небесах.
Учение, которое в течение столетий владело народами и частями света, несомненно, имеет свое историческое значение. Неприемлемо только то, что, смиренно рожденное в яслях, оно хочет властвовать на вечные времена. То, что христианство имеет истинного, например умерщвление плоти, как хорошее противоядие против внебрачных вожделений, или стоящую выше патриотизма любовь ко всему миру, этого социал-демократия не хочет отрицать. Наоборот, она твердо держится этого, если бы даже остальной мир озверел из ненависти к французам. Она не желает только, подобно христианству или вообще религии, выдавать мирскую истину за небесную святыню.
Тут, любезные слушатели, в разграничении религиозной и мирской истины мы дошли до того пункта, который существенно отделяет социалиста от христианина. Для выяснения этого прошу на минуту особенного внимания.
Конечно, истина есть истина! Но в религиозной форме истина одностороння, ограничена, нетерпима. Возьмем, например, заповедь о любви к ближнему. Это есть вечная истина, т. е. заповедь человеческой потребности, что люди тяготеют друг к другу. Общественность лежит в их натуре, они должны любить друг друга, и если они этого не понимают, они не понимают собственного блага и счастья. Но когда религия овладевает этой природной истиной и христианин говорит: люби своего ближнего, как самого себя, — он с таким фанатическим рвением проникается этой заповедью, что она почти теряет всякий смысл. Если его ударили в правую щеку, он подставляет еще левую. Если он проповедует любовь, он исключает противоположное, он осуждает ненависть. Таким путем христианская любовь превращается в жалкую трусость. Наоборот, социализм не только проповедует, он зиждется на братстве. Но антирелигиозная разумная любовь к ближнему умеет ограничить себя, она не переходит за свою цель, не отвергает своей противоположности — ненависти, но включает ее как временами необходимое и, следовательно, священное средство. Мы также хотим любить врага, делать добро тем, кто нас ненавидит; но только тогда, когда враг, безвредный, повержен во прах. Тем временем мы скажем вместе с Гервегом:
Одна любовь нас не спасет,
Не принесет нам счастья, —
Пусть ненависть своим мечом
Разрубит цепи рабства.
Довольно нам уже любви!
Она нас не избавит;
Мы с ненавистью на врага
Должны свой меч направить.
2
Мы все еще стоим перед различием между религиозной и простой истиной. Для того чтобы еврей не ходил немытым, Моисей предписал ему чистоплотность законом. Что чистоплотность есть необходимое требование — это простая истина. В религиозной форме она оказывается как бы скованной, связанной со временем, местом, числом. Религия предписывает, когда, где и как часто должно умываться. Религиозная истина — это принудительное предписание; мирская свободная наука и свободное, добровольное омовение очищает основательнее, чем обязательное. В науке песчинка такой же достойный объект, как и космическое звездное небо. Как недопустимо в науке подразделение на достойное и недостойное, так же научная житейская мудрость отрицает подобное подразделение. Научная свобода, которая все вещи и все качества подчиняет благу человека, есть вполне антирелигиозная свобода. Религиозная истина в том именно и заключается, что она какое-нибудь естественное, мирское качество неестественно возвышает до небес, вырывает его из живого потока жизни и обрекает на гниение в этом религиозном болоте.
Таким образом, уважаемые товарищи, когда я простую истину часто называю «научной», то этим самым я лишь хочу сказать, что научная истина также называется мирской или простой. В этом пункте необходима ясность, потому что научная поповщина очень серьезно пытается оказать содействие религиозной. С самым грубым суеверием мы очень скоро справились бы, если бы уродливая половинчатость не старалась всюду заполнять собой пробелы науки. Основной пробел — это непонимание человеческого духа, незнакомство с теорией познания. Как грозные явления природы делают лапландца или жителя Огненной Земли суеверным, так внутреннее чудо нашего мыслительного процесса скручивает профессора в бараний рог суеверия. Самые просвещенные вольнодумцы, которые отказались уже от религии и от имени христианина, все еще вязнут в болоте религиозного невежества, пока они ясно не отличают религиозную истину от простой, пока познавательная способность, этот орган истины, для них темная область. После того как все небесное было материализовано наукой, профессорам не оставалось ничего больше, как возвести до небес свою профессию — науку. Академическая наука должна, по их мнению, быть иного свойства, иной природы, чем, например, наука крестьянина, красильщика, кузнеца. Научное земледелие только тем и отличается от обыкновенного крестьянского хозяйства, что его приемы, его знание так называемых законов природы обширнее и полнее. Сообразно этому, наука профессора соткана из той же материи, как и наука подсобного рабочего. Оба отличаются друг от друга не больше, чем отличается от четверти стручкового гороха мера гороха лущеного. Неосновательность разницы между благородной наукой и самым обыкновенным здравым смыслом следует себе уяснить, чтобы с корнем вырвать постыдное суеверие относительно аристократизма духа. Наши противники ругают грубых демократических уравнителей, которые желали бы уничтожить даже духовное превосходство. Но как старая борьба против дворянства не касалась достославных предков, которыми чванилось дворянство, так и наш протест против рыцарей духа не касается самого духа, которым эти рыцари гордятся. Мы осуждаем лишь тут и там те материальные преимущества, при помощи которых знатные хищники и академические герои пера присваивают себе несоразмерную часть наших продуктов. Дух времени уже не позволяет принуждать грубой силой рабочий народ к производству богатств, зато ученые прихвостни власть имущих начинают морочить народ чудесами умственного труда. Знатное и доходное место профессора, как и предпринимательская прибыль фабриканта, защищается своекорыстным обманом, будто умственный труд бесконечно превосходит физический и во много раз продуктивнее его. Потому что мы, социал-демократы, презираем подобные притязания, нас называют «хулителями искусства и науки». Мы до глубины души презираем напыщенную фразу об «образовании и науке», речи об «идеальных благах» в устах дипломированных лакеев, которые сегодня так же дурачат народ поддельным идеализмом, как когда-то языческие попы морочили его первыми полученными тогда сведениями о природе. Современная двойственная вера в мир научного и нравственного духа, который стоит над другим миром и должен над ним господствовать, — это то же подогретое, секуляризированное старое суеверие о мире земном и потустороннем. Религиозно настроенные профессора превращают царствие божие в царство научного духа. Как господь бог имеет своего антипода в дьяволе, так поповствующий профессор имеет своего антипода в материалисте.
Материалистическое мировоззрение так же старо, как и религиозное неверие. В наш век материализм и неверие, развиваясь из самых примитивных форм, постепенно достигли научной ясности. Но этого академическая ученость никак не может понять, потому что содержащиеся в материализме демократические выводы угрожают ее почетному социальному положению. Фейербах говорит: «Это характерная особенность профессора философии, что он не философ, и, наоборот, характерная черта философа, что он не профессор». Сегодня мы ушли еще дальше. Не только философия, но наука вообще опередила своих прислужников. Даже там, где действительная материалистическая наука завладела кафедрой, к ней в форме идеального остатка продолжает липнуть ненаучный религиозный вздор, подобно скорлупе, еще не отставшей от неоперившегося птенца. А затем так же, как одна ласточка еще не делает весны, точно так же истинная научность одного профессора не может смыть позорного пятна со всей корпорации. В былое время, когда на буржуазии и ее руководителях лежала культурная миссия, открываемые ими академии действительно могли быть рассадниками учености. Тем временем история ушла вперед, культурная борьба перешла к четвертому сословию, к последнему, низшему классу народа. Несмотря на это, пришедшее в упадок старое владычество во что бы то ни стало хочет себя сохранить, сановники должны способствовать этому, и, таким образом, «свободная наука» наших академий становится естественным образом оплачиваемой адвокатурой.
Социалистическая потребность справедливого, народного разделения хозяйственных продуктов требует демократизма, требует политического господства народа и не терпит господства приспешников, которые с претензией на разум забирают себе львиную долю. Чтобы поставить нормальные пределы этому наглому своекорыстию, необходимо ясно понять соотношение между духом и материей. Философия, таким образом, становится совершенно близким делом для рабочего сословия. Однако, уважаемые товарищи, я этим отнюдь не хочу сказать, что каждый рабочий непременно должен сделаться философом и изучать соотношение между идеей и материей. Оттого что мы все едим хлеб, еще не требуется, чтобы все мы умели молоть и печь. Но так же как рабочему классу необходимы мельники и пекари, ему нужны глубокие исследователи, которые выслеживали бы тайные пути служителей Ваала и открывали их уловки. Огромное значение работы мозга еще часто недостаточно оценивается работниками ручного труда. Верный инстинкт подсказывает им, что задающие тон бумагомаратели нашего буржуазного времени — его естественные враги. Они видят, как ремесло мошенничества прикрывается законной вывеской умственного труда. Отсюда весьма понятная тенденция — недооценивать умственный и переоценивать физический труд. Этому грубому материализму нужно противодействовать. Физическая сила, материальное превосходство были всегда преимуществом класса трудящихся. Вследствие недостатка умственного развития он до сих пор позволял себя дурачить. Эмансипация рабочего класса требует, чтобы он совершенно овладел наукой нашего века. Одного чувства негодования против испытываемых несправедливостей недостаточно еще для освобождения, несмотря на наш перевес в числе и физической силе. Оружие разума должно притти на помощь. Между разнообразными знаниями этого арсенала теория познания или учение о науке, т. е. понимание научного мыслительного метода, составляет универсальное средство против религиозной веры, которое прогонит ее из самых потайных уголков.
Вера в бога и в богов, в Моисея и пророков, вера в папу, в библию, в императора с его Бисмарком и его правительством, словом, вера в авторитеты может быть окончательно уничтожена лишь наукой о духе. Пока мы не узнали, как и откуда берется и начинается мудрость, мы предоставлены опасностям обмана. Ясное представление о том, как фабрикуются осколки мыслей, ставит нас теоретически и практически на точку зрения, которая не зависит ни от богов, ни от книг, ни от людей. Уничтожая, таким образом, средостение между духом и материей, эта наука отнимает последнюю теоретическую опору у существовавшего до того деления на господствующих и подчиненных, на угнетателей и угнетаемых.
Тут не место разносторонне и дидактически объяснять моим товарищам по партии учение о духе. Я хочу только привести некоторые из его самых очевидных и неоспоримых общих положений, чтобы, таким образом, противодействовать посягательству господствующих классов, которые, претендуя на духовный, умственный труд, хотят прикрасить эксплоатацию народа. Наши господа объяты духом фанатического своекорыстия. Нападки социалистов на их укрепленные позиции выводят их из равновесия. Поэтому им не хватает должного беспристрастия, чтобы без предубеждения уметь понять прямые вопросы. Наука в высшем смысле этого слова никогда не могла найти аудитории среди лиц, заинтересованных благодаря своему привилегированному положению в том, чтобы служить помехой в движении колеса истории культуры. Она с полным правом обращается к беспристрастным неимущим, к обездоленным и угнетенным.
Ad rem![23] Дух не призрак и не дыхание божие. Идеалисты и материалисты согласны с тем, что он принадлежит к категории «земных вещей», живет в голове человека и есть не что иное, как абстрактное выражение, собирательное имя для мыслей в их последовательном развитии. Если дух есть только другое слово для обозначения нашей мыслительной способности, то кто же может тогда спорить против, быть может, парадоксального, но доказанного опытом положения, что умственный труд есть физическое напряжение? Тут я сразу ввожу уважаемых слушателей в трудную главу о противоположностях. Как линия и точка — только математические понятия, так и противоположности представляют собой не нечто действительное, а только логические оговорки. Это значит, что они существуют только относительно. В относительном смысле большое мало и маленькое велико. Точно так же тело и дух — только логические, а не действительные противоположности. Наше тело и наш дух так тесно связаны между собой, что физический труд абсолютно немыслим без участия умственного труда; самый простой ручной труд требует участия рассудка. С другой стороны, вера в метафизику или бестелесность нашего умственного труда есть бессмыслица. Даже самое отвлеченное исследование есть бесспорно телесная работа. Всякий человеческий труд есть одновременно труд физический и умственный. Кто хоть сколько-нибудь понимает науку о духе, тот знает, что мысли исходят не только из мозга, следовательно, субъективно из материи, но что они должны иметь всегда своим предметом или содержанием какой-нибудь материал. Мозговое вещество — субъект мысли, а его объект — это бесконечный материал мира.
Умственный труд, как и физический, желает производить, хочет приносить плод. Поэтому умственный труд должен воплощаться, а физический труд должен быть осмысленным. По продукту труда никогда нельзя узнать, какую часть его создал ум и какую тело, они творят в тесном сотрудничестве, никогда один без другого. Труд может носить характер мозгового или физического, продукт же его, повторяю еще раз, создается одновременно и духом и телом. Тут участие идеи невозможно отделить от участия материала. Кто мог бы в огороде обозначить части, которые обязаны своим существованием лопате или руке садовника, почве, дождю или удобрению? Разделение продуктов труда сообразно мере участия того или другого — вещь хитрая. Это нелепое буржуазное желание, которое невыполнимо и поэтому на практике всегда превращается в свою собственную противоположность. Оно представляет собой следствие той главной несообразности, стремящейся к тому, чтобы сделать единичную личность независимым производителем, который без общества, в конкуренции со своими ближними мог бы осуществить фантастический идеал личной независимости. Товарищам известно, что труд уже в буржуазном мире — дело коллективное. Интеллигенты, газетные работники трудятся для фабриканта, а фабриканты делают носовые платки для газетных работников, полицейских сержантов, чистильщиков сапог и т. д. Один для всех. Никто не ищет своей цели в собственном продукте, всякий стремится к общему продукту, который выставлен на продажу на универсальном торговом рынке общества и воплощается в деньгах. Если бы деньги распределялись сообразно количеству сделанной работы, то казалось бы, что владельцы купонов совершили огромную часть общего труда.
Труд отдельной личности и семейства, труд фабрики и труд общества — все это один организм, каждая часть которого вносит свою долю в общее производство. Нельзя механически измерить органический вклад каждой из них. Социализм понимает, что рабочие — это составные части всего рабочего процесса. Он не носится с бессмысленным проектом индивидуального распределения общего продукта, каждому отдельно по его заслугам. Чрезмерно ухаживать за глазом и отказывать в необходимом ногам, находящимся в подчинении, — вот как приблизительно или даже еще хуже поступает наша странная справедливость с дурно понятым suum cuique[24]. Подобно тому как машинист заботливее сохраняет маленький гвоздик, чем большое колесо, точно так же мы требуем, чтобы продукт нашего труда был разделен сообразно социальным потребностям, чтобы сильный и слабый, ловкий и медлительный, интеллигентная и физическая сила, поскольку они человечны, — чтобы все они в гуманном общении трудились и пользовались приобретенным.
Против этого требования, уважаемые товарищи, восстает религия. И не только грубо формальная, обыденная религия попов, но и самая чистая, утонченная профессорская религия туманных идеалистов. Уже с первой части этой проповеди меня часто упрекали в том, что я вместе с водой выплескиваю ребенка из ванны. Друг Шефер из Франкфурта упрекает меня в том, что я заставляю великого основателя христианства расплачиваться за ошибки его последователей. Что последние сделали из его учения, думает он, этого вовсе не хотел учитель. Надо уметь отличать идеальное, истинное христианство от действительного, испорченного. Мой упрек против безмерного христианского долготерпения якобы неоснователен. Прогнал же сам господь ударами плети ростовщиков из храма.
На это возразим следующее: христианство хочет властвовать над миром в силу своей божественности. Тщетное стремление! Бессознательно и против воли оно находится в подчинении природе вещей. «Поэтому оно неизбежно вовлечено в житейские заботы», поэтому-то апостол, мечтающий о безбрачии, разрешает брак, поэтому же учение абсолютного терпения, которое позволяет себя бить по щекам, совмещается с гневом всевышнего. Но поймите же меня правильно! Здесь уже приходится говорить не о последовательности, а о непоследовательности христианства. Центр тяжести здесь — в безмерной преданности, молчаливой покорности овцы, которую ведут на заклание. Что подобная подчиненность имеет свои границы, что и революционное возмущение также входит в божественную миссию, на это иногда находятся смутные указания, но нигде в катехизисе об этом не говорится ясно. Имел ли в виду и хотел ли этого действительно Христос? Почем я знаю? И какое нам до этого дело? Мирская, настоящая истина опирается не на то или иное лицо. Ее опора во внешнем, в соответствующем материале, она объективна. Она не потому истинна, что исходит от какого-нибудь великого учителя. Скорее надо полагать, что учитель взял ее потому, что она была истинна. Но в том-то и заключается религиозное сумасбродство, в котором повинен и друг Шефер и против которого я восстаю с церковной кафедры, — что люди не умеют отказаться от благоговения, от авторитета, от преклонения пред великим духом.
Будем чтить великих людей, которые освещают наш путь светом познания, но только до тех пор будем опираться на их слова, пока они построены на материальной действительности.
V
Не только удовольствие поучать с высоты этой кафедры, но и одобрение моих уважаемых слушателей заставляет меня продолжать эту проповедь. Многие, правда, заявляют, будто мои лекции слишком «научны», недостаточно популярны. Я обращаю их внимание на то, что легко воспринимается лишь неоднократно обсужденное и неоднократно слышанное. Изложение популярного учения может итти по проторенной дорожке, но у социал-демократии — новое учение, основанное на неизвестных принципах, которые требуют переоценки всех ценностей прежней мысли и, следовательно, не могут быть поняты без усилия.
Религия, уважаемые товарищи, — это примитивная мировая мудрость. Социал-демократия, напротив того, есть развивающийся, назревающий продукт бесконечно старого культурного развития. Мы, таким образом, поступаем вполне правильно, вполне остаемся верны своей точке зрения, если на место религиозной, примитивной, мы просто ставим исторически выросшую мировую мудрость и, таким образом, остаемся при своем предмете даже теперь, когда в эти часы благоговения речь идет о нерелигиозных, мирских вещах. Мировой мудростью называю я религию потому, что она не только имеет притязание с помощью всесильных богов, молитв и просьб избавить от земного горя, от всех невзгод природы и жизни, но и одновременно дать нашему мышлению систематическую опору. Универсальное значение религии для некультурных народов коренится в универсальной потребности систематической мировой мудрости. Как мы имеем общую практическую потребность достигнуть власти над вещами мира, точно так же всеобща наша теоретическая потребность систематически обозревать их. Мы хотим знать начало и конец всего. В основании диких криков о всеобщей, непреходящей, неизбежной религии лежит нечто правильное. Нелепое отрицание этого было бы русским нигилизмом, который с полным правом выброшен за двери Интернационалом. Мы далеки от злостного, бессмысленного отрицания. Мы боремся с «борцами культуры», чтобы на самом деле бороться за культуру. Мы признаем, что человек — прирожденный систематик, которому во все времена и всюду нужно было иметь путеводную нить для своих поступков и мышления. Он хочет видеть тело и дух, преходящее и неизменное, время и вечность, видимость и правду, государство и общество в полном порядке в своей голове, так, чтобы все имело логическую последовательность. Человек требует разумной последовательности в своей голове, чтобы иметь возможность провести разумную последовательность в жизнь. Мы, демократы и защитники Парижской коммуны, также имеем эту потребность. Раболепные посредники и пустомели могли бы на этом основании приписать нам религию. Мы решительно отказываемся от этого слова. Не потому, что мы не признаем, чтобы между религиозной и социал-демократической мудростью было что-нибудь родственное, но потому, что мы хотим подчеркнуть разницу, потому, что не только внутренне, но и с внешней стороны, в поступках и в названии, мы не хотим иметь ничего общего с поповским делом.
Кто желает порвать с фантастической религиозной, системой объяснения мира, все же должен на место ее поставить другую, рациональную систему. И это, уважаемые слушатели, может сделать только социал-демократия. Или, если такая речь кажется слишком дерзкой докторам философии, я хочу, так как это в сущности одно и то же, сказать обратное: наше социал-демократическое учение есть неизбежный результат антирелигиозного, трезвого образа мышления. Оно есть следствие философской науки. Философы боролись с духовенством, чтобы на место некультурной системы мышления поставить просвещенную, на место веры — науку. Цель достигнута, победа одержана. Первобытная религия каннибалов превратилась в христиански просвещенную религию; философия явилась продолжением культуры и после многих неустойчивых, преходящих систем добилась, наконец, непреложной системы науки, системы демократического материализма.
Королевски-императорский прусский государственный лакей Трейчке объясняет огромную самоуверенность социал-демократов хитростью, которая должна импонировать народу. Он ищет нас за изгородью, потому, — так гласит поговорка, — что он сам за ней укрылся. Рептилии по профессии, эти продажные писаки, потерявшие всякий стыд, не могут, разумеется, понять силу истины, уверенности последовательного, систематического образа мышления. Социалистическая мировая мудрость, о которой я здесь говорю уважаемым товарищам, — это остро отточенная, хорошо слаженная система. Систематическое изложение ее было бы делом кафедры. Подобно хорошему рассказчику, который не начинает с начала и не заканчивает концом, так и я, чтобы сделать мой предмет более привлекательным, говорю сегодня об одном, а завтра о другом и очень доволен, если систематическая связь настолько проглядывает, что внимательные товарищи после сумеют из всего сказанного ее восстановить.
Мы называем себя материалистами. Как религия есть общее название для разнообразных исповеданий, так и материализм есть растяжимое понятие. С точки зрения религиозного неба все земное, будь то даже чистейший эфир, — не более как скверная материя, одна грязь и гадость. Для ханжеской религии всякая философия, будь то даже платонический идеализм, всякое исследование, всякое положительное знание — лишь материалистические потуги. И действительно, все материалисты, даже замаскированные, — философы, все они ищут реального знания, знания телесной истины. «Материалисты» в ругательном смысле, которые только едят и пьют и ничего не видят, кроме своей утробы, бессмысленные пошляки, не имеют в науке никакого названия, не образуют никакой школы, не культивируют никакой теории. Философские материалисты отличаются тем, что они, ставя телесный мир в начале, во главе, идею или разум считают следствием, тогда как их противники вслед за религией выводят сущность из слова («И сказал бог, и стало»), материальный мир из идеи. Серьезного научного обоснования до сих пор недоставало и материалистам. Теперь мы, социал-демократы, охотно называем себя материалистами — обозначение, которым противники хотели бы нас унизить, хотя мы хорошо знаем, что это запятнанное название снова в почете. Мы с таким же точно правом могли бы называться идеалистами, так как наша система основана на общих результатах философии, на научном исследовании идеи, на точном познании природы разума. Как мало противники способны нас понять, видно из противоречивых названий, которые они нам дают. То мы грубые материалисты, которые только стремятся к материальным благам, то мы, когда речь идет о коммунистической будущности, неисправимые идеалисты. В сущности, мы то и другое зараз. Чувственная, настоящая действительность — наш идеал. Идеал социал-демократии материален.
В статье «Азбука знания для мыслящих» на страницах «Volks-staat» индуктивный метод был назван «непоколебимой основой всякой науки, построенной только на фактах». Применение этого метода ко всем проблемам, от начала до конца мира, т. е. систематическое применение индукции, делает социал-демократическое мировоззрение системой. «Не следует, — гласит правило, — начинать умствовать без материала, нужно основывать свои заключения, правила, выводы только на фактах, на осязательной истине. Для процесса мышления нужно некоторое данное начало». Мы, значит, начинаем над чем-нибудь размышлять, но мы никогда не размышляем над самим началом. Мы раз навсегда знаем, что мышление должно исходить из данного начала, земного явления, и что, следовательно, вопрос о начале начала есть бессмысленный вопрос, который противоречит общему закону мышления. Кто говорит о начале мира, предполагает начало мира во времени. Тут можно спросить: что же было до начала мира? «Было ничто» — вот два слова, из которых одно исключает другое. Что когда-либо было что-нибудь, чего не было, может сказать только хитрый неуч, доказывающий квадратуру круга. Ничто может только обозначать: ни то и ни это. Наша система начинается положением, что начало и конец, если можно так выразиться, есть субъективная манера человеческого разума.
И то, что следует за тем, так же логично, как и начало. Вся метафизика, которую Кант обозначает, как вопрос о боге, свободе и бессмертии, получает свою окончательную отставку в нашей системе благодаря познанию, что рассудок и разум суть абсолютно индуктивные способности. Это значит, что мир становится совершенно понятным, если мы разместим и разделим изученные вещи сообразно их общим свойствам на классы, виды, понятия, роды. Это такая банальная истина, о которой не стоило бы даже говорить, если бы верующие в чудеса или суеверие не наболтали бы столько чепухи о дедукции.
Наша познавательная способность должна будто бы иметь еще другой метод для достижения истины. Простая осязательная истина индуктивна. Но в математике мы будто бы имеем дедуктивную науку, которая выходит за все пределы человеческого опыта. Если мы знаем, что 2X2 = 4, мы знаем, что это есть и будет так на небесах и на земле и всюду. Итак, мы знаем о временах и пространствах, которых никогда не видал глаз человеческий, не слышало ни одно ухо. Что у верблюда два горба — не более как глупое наблюдение, но что 2X2 = 4 или что часть меньше целого — это называется трансцендентной истиной, дедукцией нашего духа. Приходится верить в какой-то внутренний голос, который может открыть нам истину о математике, морали, нравственности, существовании бога, бессмертии души, свободе и других трансцендентных штуках. Что мы познакомились с этим дедуцирующим призраком при помощи материалистической истины, этим мы обязаны исследованиям Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Гегеля. Светила философии один за другим настолько подвинули дело, что мы, социал-демократы, стоящие на их плечах, совершенно ясно понимаем механическую природу всякого познания — религиозного, спекулятивного и математического. Мысль, будто подобный научный результат имеет партийную окраску, хотя и кажется противоречивой, легко понятна, так как социал-демократия есть партия, которая защищает не узко-партийные, а общие интересы. Партия обездоленных есть партия бескорыстных, партия беспристрастной истины. Мы, социал-демократы, призваны к мировой мудрости, потому что никакое своекорыстие не затуманивает наш ум.
Трансцендентная уверенность, дедукция в положении 2X2 = 4, как и всякая другая дедукция, — только пустая увертка. 4 и 2X2 только два различных выражения одного и того же. Всякая вещь имеет содержание. Меньшие части составляют содержание целого, клинок и лезвие — содержание ножа, две горы заключают долину, и в числе 4 содержится 2 раза 2. Следовательно, поскольку в вещи совершенно механически дано содержание, мы неопровержимо уверены и «трансцендентно» убеждены, что 2X2 = 4, что часть меньше целого, что нож не бывает без лезвия и клинка, а две горы — без долины. Где только мокрому придано название «вода», не требуется особенных трансцендентных способностей, чтобы наверняка знать, что вода должна быть мокрая. Никаких особенных светил не требуется для понимания того, что дедуктивное, как и всякое другое знание, в конце концов, коренится в факте, данном в опыте. После того как мы исследовали и поняли факты, они не становятся менее чудесными. Вот, например, безвредный сок винограда превращается за ночь в опьяняющий напиток. Как нам понять это? Химик объясняет: «это брожение; под влиянием тепла и воздуха виноградный сахар превращается в алкоголь». Таким образом объясняется необъяснимое, и превращение в вино регистрируется как особый вид в общем понятии брожения. Факты постигаются путем систематизации или классификации, а не растворением в логическом спирте. Философская мистика — это непереваренный остаток религиозной веры. Чтобы покончить радикально с обеими, необходимо убедиться, что факты покоятся не на логических основаниях, а, наоборот, последнее основание всякой логики — факт, дело, бытие.
Я должен извиниться пред товарищами, что затрудняю их такими подробностями; я знаю, что только немногие пожелали бы углубиться в эти подробные объяснения, но немногие — это уже достаточно. Как излишне, если бы каждый хотел исчислять движение планет, так необходимо, чтобы один-другой из нас предложил главным представителям официальной профессуры тот материал, над которым она могла бы поломать свою голову. Мы должны обнажить наш фундамент, чтобы вид гранитной скалы еще убедительнее доказал беспристрастному зрителю, до чего ненадежен песок, на котором идеологи «существующего порядка» строят свои противоречия. Они рассуждают бессистемно, нелогично, непоследовательно. Они выставляют положение, что все должно иметь причину, начало и конец, и доказывают его верой в божество, которое не имеет начала, и верой в жизнь, которая не имеет конца. Один из важнейших параграфов их основных прав возвещает свободу слова и собраний. Но когда народ собирается и высказывает свои чувства и мысли, — на него натравливают жандармов. Это ли система, логика или последовательность? Да, все-таки! Это система подлости. Все, что они делают и говорят, сводится к логической идее: мы сливки общества и хотим ими остаться вечно.
VI
Наш последний обзор был посвящен разбору старой фразы «Человек должен иметь религию». Если передать ее вразумительным языком, тогда она гласит: «Человек должен иметь систему». Его интеллектуальная потребность — приобрести точку зрения, с которой он мог бы обозревать весь мир. Чтобы от разнообразия бесконечного мира у него не закружилась голова, он распределяет как небо по созвездиям, так космос на области, категории, классы, семейства, роды и индивиды. Короче говоря, многообразию он дает различные названия. Умение таким образом ориентироваться, подводить все под определенные рубрики, мы называем «иметь систему». Что животное относится к зоологии, а трава к ботанике, — легко понятно, но сомнительно и спорно, к какой категории относится истина, свобода, справедливость и еще много других вещей. Система только тогда совершенна, когда все, что случается, находит в ней свое место, когда все предусмотрено, подведено под рубрику. Основатели религий и философы хотели создать подобные системы, но ни одна из них не удержалась. Поток времени выдвигал и выдвигает все новые и новые явления, новый опыт, новые вещи, которые не были предусмотрены. Они не соответствовали существующей системе, и потому каждый раз приходилось создавать новую, пока, наконец, мы, социал-демократы, не оказались настолько умными, чтобы иметь систему, достаточно обширную для всех новостей настоящего и будущего времени.
Чтобы объяснить это кажущееся дерзким притязание, я должен снова начать издалека. Как теологи отыскивали бога, который сосредоточил бы всемогущество мира в своем лице, точно так же философы отыскивали систему, которая бы все разнообразные достопримечательности знания стянула в один узел, чтобы оказалось возможным проглотить всю науку сразу, одним глотком. Теперь мы совершенно точно знаем, что один цвет не может быть одновременно зеленым, голубым, желтым или черным, т. е. что род не может воплотиться в одном индивиде. В одном единичном человеке, и еще менее в каком-нибудь единичном понятии, не может также сконцентрироваться вся наука. Однако же я утверждаю, что мы обладаем подобной концентрацией. Разве в понятие о материи не входят все материалы мира?
Таким образом, всякое знание имеет одну совокупную общую форму, именно — индуктивный метод. Что индукция есть единая, общая форма науки, что она применима ко всем проблемам, ко всем объектам, — это сознание дает социал-демократии ту систематическую уверенность, то нравственное превосходство, которое приводит наших противников в изумление. Мы многого не знаем, но мы знаем общую форму всякого знания и имеем в ней чудное средство проследить все тайные затеи лакеев сильных мира сего против народа. Индукция — знакомая вещь в естествознании; но что в ней заключается систематическая мировая мудрость, призванная к тому, чтобы изгнать всякое легкомыслие — религиозное, философское, политическое, — это открытие социал-демократов.
Наши притеснители — сильные и имущие, культуртрегеры и прогрессисты, либералы и масоны — все они также защитники индукции, однако лишь постольку, поскольку она служит их цели. Они делят все: людей на господ и слуг, жизнь — на земную и загробную, личность — на тело и душу и науку — на индуктивную и дедуктивную.
Деление хорошо и правильно, если при этом есть система, если члены деления подведены под одно общее, если различие считается лишь относительным. Делить жизнь на земную и загробную не так уж неразумно, только при этом должно быть, известно, что и словесно и на деле земная и загробная жизнь — две равноправные формы одной и той же жизни. Так мы говорим вполне логично о жизни по ту и по сю сторону океана. Социал-демократы также имеют тело и душу. Наше тело — сумма телесных, а душа — сумма душевных или духовных свойств. Но внимание! Эмпирическое явление — это материал, не вызывающий разногласий, общая рубрика для души и тела, для тела и ума. Душа или ум для нас атрибуты мира, а не наоборот, как хочет поп — чтобы земля была атрибутом или творением духа. Дарвин учит, что человек произошел от животного. И он также различает животное и человека, но только как два порождения одной и той же материи, два вида того же рода, два результата той же самой системы. Подобное систематическое разъединение в последовательном проведении так же незнакомо нашим противникам, как и разумное единство. Как тут не похвалить старое религиозное благочестие! Там была хоть система. Земной и загробный мир, господа и рабы, вера и знание — все находилось под соединенным управлением того, который говорит: «Я господь бог твой».
Я прекрасно знаю, что и люди религиозные не чужды дуализма и до известной степени страдают от отсутствия системы. Я хорошо знаю, как им жутко между небом и землей. Однако прежде, когда либеральный клин сомнения еще не был вбит в религиозное тело, когда религия понималась серьезнее, она была менее дуалистична. Дьявол тогда был лишь орудием, земное существование — только преходящим испытанием для вечной жизни. Одно было подчинено другому, был центр тяжести, была система. Во всяком случае, в сравнении с современной половинчатостью и франкмасонством тогда во всем замечалась известная цельность.
Вырезывать из цельного дерева, любезные слушатели, это задача очень нелегкая, и над ней человеческий ум трудится уж давно. Но вот уже полвека, как загадка разгадана, как наука стала систематичной. Что мы все еще бродим впотьмах, несмотря на руководство ученых профессоров и заслуженных естествоиспытателей и несмотря на всю ясность дела, имеет свои политические основания. Реакционная злоба пронюхала революционные последствия индуктивной системы. Учитель Гегель уже спрятал зажженную им самим свечу под спуд. Более смелые последователи не могли найти отклика в те времена, когда всюду господствовала своекорыстная консервативная низость. И до сегодняшнего дня вся привилегированная шайка заботится о том, чтобы держать тлеющую искру под пеплом. Будем раздувать ее, товарищи! Как только вспыхнет пламя, дети тьмы сгинут.
Как желудок требует питья и еды, так же неизбежно ум стремится к системе, т. е. к закономерности в мире, «к первопричине», из которой все исходит. Эта последняя, однако, вещь хитрая.
По религиозной системе господь бог является «первопричиной». Идеалистические масоны думают доказать все разумом. Завзятые материалисты ищут в скрытых атомах причину всего существующего, тогда как социал-демократы обосновывают все индуктивным путем. Мы идем принципиально индуктивным путем, т. е. мы знаем, что дедуктивно, из разума, нельзя извлечь никакого познания, что только посредством разума, из опыта, можно получить знания.
Последний способ обоснования, конечно, также известен другим людям, но им нехватает систематического знания дела, нехватает последовательности. Мудрость антисоциалистического мира не имеет единства, она смесь индукции и дедукции. Умеют делать индуктивные заключения, но не знают системы индукции. В деталях хорошо осведомлены, но где дело касается общих мировых вопросов, рассудок останавливается. Начало или конец той или другой вещи легко найти, и что в каком-нибудь конкретном случае обман и что правда, об этом легко столковаться. Но при вопросе об общем начале, о начале мира или о том, в каком соотношении вообще находятся правда, право, сила, материя, единство и множество, причина и действие, свобода и рабство, — становятся в тупик, и начинается вавилонское столпотворение. Один ссылается на откровение, другой ищет ответа у Канта или какого-нибудь покрытого пылью классика, третий вообще не хочет ничего знать о теологии и философии, обращается к физическим экспериментам и ждет разрешения великой загадки от естествознания.
В противоположность этой беспомощной растерянности международная социал-демократия гордится тем, что она имеет «последнее основание», от которого все зависит, что она обладает научным основанием для всего, систематической мировой мудростью. Полным единодушием своих требований и стремлений мы на деле и открыто доказываем наше неоспоримое принципиальное превосходство. В религиозных, как и в «политических вопросах, многочисленные оттенки у наших противников необозримы. У нас также есть разногласия между собою, но антисоциальные герои культуры, право, не имеют причин критиковать рознь социал-демократов. Мы спорим о деталях, о своевременности новых организаций, о практических или тактических вопросах, но в общем, что касается принципиальной, теоретической стороны, мы единодушны, сомкнувшись плечо к плечу, потому что мы имеем то, что старокатолики и новокатолики, реформисты и свободомыслящие хотели бы иметь, — мы имеем систему. Начало и конец всякой мудрости точно нам известны.
Этим, уважаемые слушатели, я не хочу сказать, что всякий социал-демократ обладает точным знанием системы. Вы не все систематически вышколены, иначе мне не пришлось бы еще только проповедывать систему. Я утверждаю только, что ваши социал-демократические тенденции покоятся на систематической науке. Я утверждаю, что индуктивное обоснование вещи есть единственно верное научное обоснование и что из этой принципиальной индукции вытекают самые удивительные антирелигиозные и антиправительственные выводы. Охотно перешел бы я к этим интересным подробностям, но я должен себе пока в этом отказать и вновь обратиться к основам нашей мудрости.
Я повторяю, и как проповедник, в целях поучения, я могу, должен, обязан повторять: на место религии социал-демократия ставит систематическую мировую мудрость.
Эта мудрость находит свое обоснование, свою «первопричину» в фактических обстоятельствах. Мудрость других прогрессистов проявляется соответствующим образом в естествознании; в домашних и деловых вещах она также рациональна. Только когда речь идет о государственных делах, она старается доказывать, если уже не именем божиим, то все же откровениями разума. Имеющиеся в их голове понятия о справедливости, истине, свободе должны служить образцом для настоящего, истинного, свободного мира. Опыт показал, что феодальная, как либеральная и клерикальная справедливость и свобода, так и политическая истина и мудрость определяются материальными интересами соответствующих партий; это дало нам возможность убедиться, что мудрость вообще извлекается не из головы, но при посредстве головы из эмпирического материала.
Сообразно этому мы сознательно с систематической последовательностью строим наши понятия о справедливости и свободе в соответствии с нашими физическими потребностями, — nota bene[25] — имеются в виду потребности пролетариата, широких народных масс. Фактические телесные потребности «человекоподобного» существования составляют тот «первоисточник», из которого мы выводим справедливость, истинность, разумность социал-демократических стремлений. По индуктивной системе тело предшествует разуму, факт — понятию.
Употребление одного и того же слова усыпляет рассудок, как «отче наш». Поэтому для перемены я хочу назвать нашу систему «системой эмпирической истины». Пустомели других партий говорят еще о божеской, нравственной, логической и других истинах. Для нас не существует ни божественной, ни человеческой истины, мы знаем одну эмпирическую истину. Мы можем при помощи специальных названий ее классифицировать, но общий для всех признак остается. Истины, как бы они ни назывались, основаны на физическом, телесном, материальном опыте. Как таковые — они звенья или части эмпирической системы. У нас все сделано из одного, из цельного дерева. Мы доказываем свои тезисы фактически или эмпирически и поступаем при этом систематически или логически. Может ли, уважаемые слушатели, что-нибудь быть очевиднее подобной очевидности?
Теперь, когда фундамент ясно показан, бросим общий взгляд на здание мировой мудрости. И мы увидим, что все бесконечное разнообразие вещей состоит из того же единообразного, из эмпирического материала. Все различные свойства обладают одним общим свойством. Как бы различны они ни были — велики или малы, весомы или невесомы, духовны или телесны, — все вещи мира сходятся в том, что все они представляют эмпирические объекты нашей познавательной способности, эмпирический материал интеллекта. С точки зрения индуктивной системы, мир со всем своим содержанием есть только один единообразный объект. Все детали суть только разновидности этого абсолютного единства. Физическим явлением или эмпирическим материалом называется универсальный род, в противоположность которому все прочие роды суть только виды. Он единственная субстанция и истина, все прочее — только свойство или относительная видимость. Плотное и жидкое, дерево и металл мы же подводим под одно общее понятие «материя». Что же может остановить нас подвести все вещи под понятие «эмпирической истины», или «эмпирического явления»? После уж мы можем их подразделять на органическое и неорганическое, физическое и моральное, доброе и злое и т. д. и т. д. Благодаря общему роду, все противоречия примиряются и соединяются, все живет под одной крышей. Различие только в форме, по существу — все это явления того же порядка. Последнее основание всех вещей — эмпирическое явление. Эмпирическим материалом зовется общее основное первовещество. Оно абсолютно, вечно и вездесуще. Где оно кончается, кончается также всякий рассудок.
Индуктивную систему с полным правом можно называть также диалектической системой. Здесь мы находим то, что все более и более подтверждается естествознанием, именно что и существенное отличие есть лишь различие степени. Как бы резко ни определить признаки, которые отличают органическое от неорганического, царство животных от царства растений, природа, однако, показывает, что границы исчезают, что все различия, все противоположности сливаются. Причина действует, и действие причиняет. Истина является, и явление истинно. Как теплота холодна, а холод тепел и оба различаются только по градусам, точно так же относительно доброе дурно, а злое хорошо. Все это соотношения той же материи, формы или виды физического опыта.
Среди моей аудитории я замечаю несколько посторонних гостей, которым проповедуемое мной здесь монистическое систематическое мировоззрение до того ново и неслыханно, что они готовы на самые неостроумные и пошлые замечания. Они желали бы спросить, как можно доказать, что эмпирический материал есть основная составная часть всех объектов науки? Разве не существует таких вещей, как существо божие, чистый разум, нравственный мировой порядок и т. д. и т. д.?
По примеру подобного вопроса пусть уважаемые товарищи узнают, как глубоко сидит неразумие в плоти человеческой. Бог, чистый разум, нравственный мировой порядок и еще многие другие вещи не состоят из эмпирического материала, они не суть формы физических явлений, а потому мы и отрицаем их существование. Однако понятия об этих мысленных вещах возникли естественным путем, существуют фактически. Их мы прекрасно можем предложить нашему индуктивному исследованию как материал. Словам «опытный, физический» и т. п. придают обыкновенно более тесный смысл, поэтому я дополняю их словом «эмпирический».
Система веры религиозных людей и система разума либеральных масонов выдвигают другие требования. Система эмпирической истины, которой поклоняется социал-демократия, требует индуктивной формы, она признает только те понятия, учения, теории, которые сознательно взяты из опытного материала. С высоты этой системы мы видим мост, который соединяет философию с естествознанием. Он сделан из одного только камня, из основного камня всякой мудрости, из точного знания, что человеческий интеллект — индуктивный инструмент. Все специальные знания — только применения этого главного знания. Интеллект– глава всякой науки. Специальные знания — его подчиненные. Системы астрономии или химии, ботаники или оптики — только отделы главной системы.
Благосклонный слушатель, который до сих пор внимательно следовал за мной и все-таки еще недостаточно ориентировался в мировой мудрости, пусть учтет, как затруднительно исчерпать подобный обширный предмет в получасовой проповеди. Если бы я захотел еще глубже и шире развить свою тему, я должен был бы опасаться утомить уважаемых товарищей.
В будущем при разработке выводов мы будем еще не раз иметь возможность вернуться к этому. А на сегодня довольно того, что мы обнажили фундамент и, выявив наши коренные предпосылки, ободрили и укрепили наше партийное сознание.
Мораль социал-демократии
Две проповеди
I
Наша партия, уважаемые товарищи, хочет того же, к чему стремились передовые умы всех времен и народов, — она хочет истины и справедливости. Мы отвергаем истину и справедливость попов. Наша истина — это материальная, телесная или эмпирическая истина точной науки, которую мы сперва хотим познать и соответственно этому применить к действительности. Исходя из потребностей существования, соответствующего достоинству человека, мы из всех категорий истины интересуемся преимущественно тем, что является истинно справедливым, — так называемым «нравственным миропорядком».
Нравственный порядок должен существовать не потому, что, как говорят попы, он небесного происхождения, и не потому, что, как гласит профессорская мудрость, он предначертан законами вечности, а потому, что он вытекает из всеобщей материальной потребности. В своей последней лекции я подробно развивал ту мысль, что мы, международные демократы, обосновываем систематически все наши мысли материальными или эмпирическими фактами. При свете современной морали должна себя оправдать сама «система». Ведь мы и с нравственным законом считаемся лишь постольку, поскольку он может быть материалистически обоснован.
Животные — обезьяны или кролики — не знают стыда, морали, верности и религии. По крайней мере, об их нравственном развитии не приходится даже и говорить. Кафры находятся на низшей нравственной ступени, наши буржуа — на несколько более высокой, но истинно справедливому они должны прежде всего научиться у социалистов. Другими словами: нравственность является результатом исторического развития, продуктом культуры. Она вытекает из социальных потребностей человеческого рода, из материальной необходимости общественной жизни. Так как тенденция социал-демократии ведет к водворению высшего социального общественного строя, то она не может быть ничем иным, как истинно моральной тенденцией.
С тех пор как люди стали жить ордами, племенами и народностями, они стали нуждаться в каком-либо порядке и известных правовых нормах. Оценка справедливого и дозволенного всецело зависит от обстоятельств. Решающим моментом при этом служат данные производственные отношения. С изменением средств удовлетворения физических потребностей, с изменением характера народного хозяйства изменяются также формы морали, нравов, права. У охотничьих племен — охотничье право, у пастушьих — пастушье; у рыцарей — рыцарская мораль, у буржуа– буржуазная мораль. Там, где народное хозяйство покоится на частном хозяйстве, имеет силу старая поговорка:
«Будь скромен и богу молись,
К чужому добру не стремись».
Ныне эти стремления достигли своего апогея. Те, в руках которых сосредоточено национальное достояние, преклоняются перед частной собственностью. Личное обогащение — их высший идеал. Накопление и сбережение и приспособленный для этой цели юридический аппарат они называют «нравственным миропорядком». То, что до сих пор считалось нравственным и справедливым, отбрасывается на наших глазах как негодная ветошь. Честность, добросовестность, правдивость, семейные традиции, прилежание и бережливость — все это добродетели почтенных крестьян, ремесленников или торговцев, призванных сохранять и оберегать полученное ими наследие, так что пятое поколение ревностно продолжает дело, начатое в малых размерах первым. Современная крупная промышленность с ее новыми орудиями производства постепенно вытесняет это среднее сословие. Люди, которые обогащаются за одну ночь и владеют паровыми пекарнями, повинуются другому нравственному закону, чем те, которые, прозябая, месят хлеб в поте лица своего. Теперь не известно, что составляет «честную прибыль» — пять ли, двадцать пять, сто или пятьсот процентов. Знатнейшие граждане запутываются в уголовных делах и немало приводят в смущение прокуроров. Капиталистическое хозяйство разлагает экономические устои и мораль. В высших кругах покупают, как в Турции, женщин, сколько позволяют деньги. Многоженство и проституция вкореняются в нравы, становятся явлением, которое совмещается с нашей нравственностью. И в самом деле, «свободная любовь» не менее нравственна, чем христианское ограничение одной законной супругой. Нас же в многоженстве возмущает не столько богатое разнообразие любви, сколько продажность женщины, падение человека, постыдная власть мамоны.
Во всемирной истории, любезные сограждане, с моралью происходит то же самое, что с материей в природе, — меняются формы, но сущность остается.
«Большая часть наших низших классов, — пишет Трейчке, — хотя по одежде, различным внешним привычкам и по своей сметливости и сообразительности скорее напоминает средние классы, но по своим понятиям о долге и чести резче отличается от образованных, чем когда-либо». Но эта «большая часть низших классов» отличается от этих так называемых «образованных» своими понятиями не только о долге и чести, но и об образовании. Религиозное образование плутов и глупцов достаточно своекорыстно, чтобы в сфере морали выдавать собственные субъективные проявления за всеобщее дело. Оно во все времена и всюду стремится свою специфическую классовую мораль навязать народу как всеобщий нравственный закон. Но ни один социалист не позволит себе попасть в подобные поповские сети. Наш манифест еще двадцать пять лет назад разъяснил: «Господствующие идеи постоянно являются идеями господствующего класса». Теперь социал-демократия объявляет войну всякому господству, а также всем господствующим понятиям о долге, чести и просвещении. Несмотря на все изменения исторического процесса, всегда существовали, признаем и мы, офицеры и рядовые. Так всегда будет, говорят офицеры. Но рядовые находят, что не все уж так обстоит благополучно. Они замечают, что, начиная с первых военачальников, минуя разбойничьих атаманов, патриархов, цезарей и сановных угнетателей вплоть до современных капиталистов, народ вырос в своей сознательности и самостоятельности. Они понимают, что история развивается, и естественно наталкиваются на разумную идею покончить со всем тем, что гг. Трейчке, Зибель, Гаркур и иже с ними выдают за «основы общества». В одном права профессорская мудрость: господство было до сих пор необходимым злом или даже разумным фактом. Но ведь и указанное выше все растущее стремление к свободе является таким же фактом. Для наших господ, разумеется, мораль истории заключается не в свободе, а в господстве. Для них все дело в том, останутся ли офицеры навеки или же будут упразднены. Мы, социал-демократы, утверждаем, что все это великолепие должно быть выброшено за борт, и только тогда, и именно тогда, восторжествует мораль. Мы утверждаем, что революция против так называемого «нравственного миропорядка» является актом истинной морали. Мы, следовательно, имеем не то представление о морали, что морализирующие ветрогоны.
Тут я должен кратко и точно изложить товарищам, в чем сущность нравственности и что такое истинная мораль. Придерживаясь нашей материалистической системы, мы при подобных исследованиях прежде всего останавливаемся на материале, в данном случае на материале моральном. При этом не будем выходить из пределов общепринятой обычной терминологии. Настоящие каштаны те, которые во всем свете называются каштанами в их общеупотребительном значении. Как и мораль, они бывают различных сортов. В одном случае считается моральным убивать врага, зажарить и съесть его, в другом — любить и оказывать ему добро. Быть хитрым плутом повелевает спартанский закон, и чтить частную собственность, выплачивать аккуратно долги приказывает буржуа. Какими же средствами можно при существовании таких противоречий вытащить из огня каштаны истины? Очень просто — взяв из различного общее, извлекая то, что при всех условиях считается моральным, нравственным и справедливым. Тут не должно быть ничего специфического, а только то общее, что абстрагируется из совокупного морального содержания. Посредством такого индуктивного метода мы приходим к тому заключению, что нравственный миропорядок состоит в общем, смотря по времени и условиям, из отношений, вытекающих из общественной потребности людей. Далее выясняется тот неоспоримый факт, что эта потребность развивается вместе с культурой, что социальные влечения человека усиливаются, что человеческое общение становится теснее, шире, что мораль делается моральнее. Уже христианская мораль провозглашает, что узкое братство орд, племен, народов и наций должно превратиться в международное братство. Но эксцентричный религиозный дух с его плутнями и предрассудками не сумел реализовать этот идеал. Только экономический материализм, только социал-демократия, стремящаяся к осуществлению коммунистической организации физического труда, действительно объединит человечество. С политическим упразднением классового господства, с превращением проникнутых эгоизмом капиталистических средств производства в товарищеские орудия труда может, наконец, осуществиться горячая любовь к ближним, истинная мораль и справедливость.
Ни небесный оракул, ни совесть, ни мозговые дедукции не могут нам открыть моральную или какую-либо другую истину. Эти идеалистические пути ведут только к старым, всем известным уверткам. Единодушные научные выводы получаются индуктивным путем. Они выводятся из эмпирических явлений, в данном случае из того бесспорного факта, что люди обслуживают друг друга. До тех пор, пока один нуждается в другом, в глазах одного будет считаться справедливым то, что справедливо и для другого. Чем более развивается взаимная зависимость людей, тем обширнее и теснее становится их связь, тем большим уважением к человеку проникается мораль, тем выше поднимается нравственное сознание. Никому еще так не ясно, как социал-демократии, что природа вещей ставит известные границы человеку. Но именно потому, что мы хорошо знаем истинную всеобщую сущность нравственности, мы не позволяем ввести себя в заблуждение тем, которые выдают частное явление или форму за всеобщую сущность истины. Вступают ли люди в законный брак или предпочитают свободную любовь, священна ли частная собственность или внушает отвращение, допускается ли месть или воспрещается — все это нравы, которые считаются моральными или антиморальными лишь постольку, поскольку они способствуют человеческому развитию или задерживают его. В устах социалиста человеческое развитие не является каким-то идеальным произведением, духовным совершенствованием, для которого нет материального мерила и о котором можно толковать на разные лады, закативши глаза. Для нас человеческое развитие заключается в нашей растущей способности подчинить себе природу, как мы неоднократно говорили. Для этой великой цели религия, искусство, наука и мораль являются простыми вспомогательными средствами. Повторим еще раз: в зависимости от более тесной или более отдаленной, более слабой или более интимной социальной связи видоизменяются и моральные предписания. Степенью общественной солидарности измеряется высшее или низшее состояние нравственности. Но чтобы воплотить в жизнь этот установленный нами нравственный закон, недостаточно одного знания. Для его воплощения должны еще созреть мировые отношения. В идее можно сразу и без особенных трудностей постигнуть сущность морали, но на практике все определяется исторической преемственностью. Прежде чем сложатся надлежащие взаимоотношения, преобладают грубые нравы. Где исключительными средствами существования служат охота и рыбная ловля, братство не может быть таким интимным, как там, где пролетарии всех стран стремятся к объединению.
О том, что все люди — братья, что не только немец, но и «презренный» француз, самаритянин, поляк или русский — один из тех, которых ты должен любить, как самого себя, было известно еще древним классикам и мудрым браминам задолго до рождения Христа. Что нашим ближним является тот, кто всего более нуждается в помощи, — эта истина, глубоко запавшая в нашу душу и выношенная тысячелетиями, превратилась в религиозную догму, разукрашенную и небом и адом. Но это не мешает тому, чтобы наши просвещенные верующие господа всеми своими действиями и поступками, на базаре и с кафедры, не утверждали совершенно противоположного, согласно правилу: «своя рубашка ближе к телу».
Религиозная истина не что иное, как идеальное фантазерство. Она стремится положить в основание любви к ближнему веру в бога и нравственную свободу. И что же получается в результате? — Социальная война. Мы же, наоборот, стремимся осуществить вечный мир, преобразовав народное хозяйство на началах братства. Как в семье, где муж сажает капусту, жена варит пищу, а дети для этого приносят хворост, семейная любовь вытекает из общности домашнего хозяйства, а духовная гармония — из материальной солидарности, точно так же и у нас истинная любовь к ближнему воцарится лишь тогда, когда производственные отношения будут преобразованы на социалистических началах. Без сомнения, природа бросила в человеческое сердце семена любви к ближнему. Но сердце слишком ненадежный компас, а воля и сознание и вообще весь духовный аппарат без своей материальной основы — слишком плохой путеводитель. В противном случае, лучше обстояло бы дело с любовью к ближнему у наших господствующих классов. Когда у одного из них мошна полна, он достаточно добродушен, чтобы пожертвовать три копейки в пользу своего неимущего брата. Можно ли это называть любвеобильной помощью? Но девизом времени служит не любовь и помощь, а молот и наковальня. Действительные условия таковы, что тот, кто не хочет быть рабом, должен властвовать. При подобных обстоятельствах нечего думать о том, чтобы кто-нибудь из идеальных соображений пожертвовал реальными интересами. Мы далеко не так сентиментальны, чтобы рассчитывать на это. Хотя мы с чрезвычайной страстностью боремся против буржуазных классов, мы вместе с тем не упускаем из виду развивать наше классовое сознание. Мы проповедуем вечный мир и вызываем социальную войну. Мы стремимся к низвержению всякой власти и в то же время к захвату власти в свои руки. Эти противоречия слишком замысловаты для «ученых мудрецов». Но моя бабушка уже знала, что у кого каждый день праздник, у того нет ни одного праздника; это значит, что при всеобщем господстве никто не господствует. Если кучка тунеядцев обладает всеми земными благами, то это есть господство в худшем значении этого слова. Но если рабочий класс ниспровергает господство своих угнетателей и законная власть переходит в его руки, то это есть не классовая диктатура, а власть народа. Рабочий класс только номинально является классом, на самом деле он и есть народ, господство которого не есть господство, а подлинно моральная власть.
Буржуа являются фантазерами в теории, а в своей практической жизни это довольно трезвые, рассудочные моралисты, без всякого чрезмерного добродушия. Их подлинная нравственность приноровлена к обстоятельствам. В этом отношении мы с ними согласимся, но отнюдь не с их абсурдными измышлениями. Для них нравственность — идея, которую они думают обрести благодаря небесной идеальной благодати. По их мнению, порочный мир должен преобразиться согласно этой идее. Мы в этом отношении разбираемся лучше. Для нас реальный мировой процесс с его историческим развитием человека представляет тот живой материал, из которого мы с полным сознанием выводим абстрактную идею морали — идеальную нравственность. Теперь социал- демократия стремится осуществить идеал любви к ближнему посредством изменения экономического строя на более совершенных общественных началах.
Идеи, употребляя лишь другое выражение для основы нашей универсальной мудрости, должны, если они только претендуют на ясность, сознательно быть выведены из эмпирического материала, т. е. должны быть индуктивными. Это имеет значение не только для естественнонаучных, но и для моральных и политических идей. Для религиозного воззрения мир — это часовой механизм, немыслимый без мастера. Вещи суть порождение идеи божественного начала. Идеи являются трансцендентным первоисточником. Здравомыслящие люди знают теперь, что идеи животного или растительного мира не служили образцом своему объекту, но, напротив, сами явились копией подобных объектов или соответствующей абстракцией. Точно так же в сфере нравственных идей следует отрешиться от всего запредельного. Идеи суть понятия. Понятия же можно произвольно суживать или расширять. Так, понятие природы обнимает весь космос, понятие органического — часть природы, животное и растительное царства — части органического мира и т. д. По своему усмотрению мы посредством идей охватываем больший или меньший круг опыта. Природа идеи такова, что ей можно придавать более широкое или узкое значение. Идея животного царства обнимает такие существа, которые с известным правом могут быть причислены к растениям, с другой стороны, включая людей, которые не желали бы быть занесенными в одну рубрику с животными. Так же невозможно установить точные границы нравственности. Есть действия, которые менее касаются ближнего, чем самих себя, и, однако, им нельзя отказать в нравственной природе, как, например, опрятность, умеренность и т. д. Выдающимся нравственным подвигом является труд исследователя, подвергающегося на море и в пустыне всем опасностям и лишениям и готового пострадать и положить свою душу за истину. Но если разобраться внимательнее, все это потому только считается добродетелью или нравственным подвигом, что имеет общественную, или социальную, ценность. Таким образом, мы и в данном случае находим подтверждение нашего определения нравственной идеи.
В заключение я не могу обойти молчанием еще одно возражение. Если нравственность не небесного происхождения, а вытекает из материальных побуждений, то каким же образом можно возлагать ответственность на того, кто чужд этих побуждений и поэтому становится преступным нарушителем общественного порядка? Но прошу вспомнить, сограждане, что социальный образ мыслей является одновременно продуктом культуры; его отсутствие обусловливается печальным невежеством и невоспитанностью, которые могут быть исправлены при помощи гуманных средств наказания.
Для наших противников мы, социалисты, — «материалисты», т. е. люди без идеального размаха, тупо преклоняющиеся лишь перед тем, что можно съесть или выпить, или, по крайней мере, считающие достойным внимания лишь одно весомое. Чтобы представить нас в жалком виде, они суживают и опошляют само понятие материализм. Этому рафинированному идеализму мы противопоставляем свою нравственную правду — идею или идеал, облеченный плотью или стремящийся воплотиться в жизнь. Где на небе или на земле вы еще найдете такой истинно разумный, моральный и возвышенный идеал, как идея международной социал-демократии? В ней слова о христианской любви должны воплотиться в материальные формы. Скорбящие братья во Христе пусть станут братьями подвига и борьбы, пока, наконец, юдоль религиозной скорби не превратится в подлинное царство народа. Аминь!
II
Уважаемые товарищи, друзья и слушатели!
Приступая к продолжению нашей моральной темы, мы вкратце повторим сущность предыдущей главы. Мы видели, что нравственное сознание на различных ступенях культуры до того различно и противоположно, что в одном случае считается добродетелью то, что в другом — пороком. Подобно религиозным сектам, нравственные учения оспаривают друг друга. Каждое из них претендует на исключительную достоверность и правильность. Чтобы в этом спорном деле достигнуть неоспоримых выводов, мы пользовались теми же методами, какими естественнонаучное познание достигло своих единогласных результатов. Мы продолжали считать нравственным то, что выдает себя за таковое, и потом стали изыскивать, согласно указаниям Гумбольдта, духовное единство во всем эмпирическом разнообразии. Мы узнали, что различные нравственные системы единогласно считают нравственным то, что способствует установлению тесных и солидарных отношений в жизни. Однако всякий теперь знает, что люди не стоят, как горы, неподвижно на одном месте, но приходят в соприкосновение друг с другом и двигаются совместно вперед. Прогрессируют они также в своей общественной жизни. С каждой новой ступенью развития общественные отношения расширяются и укрепляются. И чем теснее становится связь между людьми, тем больше они соединяют собственное благо с благом общества, тем могущественнее и культурнее становятся они. Принцип морали есть принцип общества, а принцип общества есть принцип прогресса. Социал-демократия стремится только к одному: к общественному прогрессу, основанному на товарищеских началах, а это и есть истинное моральное совершенствование.
Необходимо постоянно напоминать товарищам, — а они это должны твердо знать, — как нагло злоупотребляют словами, особенно такими, как «мораль» и «прогресс». Так называемые прогрессисты, эти негодные трусы, равнодушные к социальному злу и копошащиеся на задворках политической жизни, достаточно нам знакомы как придаток «реакционной массы». Такой «прогресс» прямо противоположен морали. Тем, что эти господа называют свою ракоподобную природу «прогрессом», а свое противообщественное себялюбие моралью, они только искажают язык и понятия народа. И это происходит небессознательно. Чаще всего пускаются на подобную хитрость сознательно аморальные, скверные люди. Если нравственное сознание выставляет требование свободы, свободы слова, печати и т. д. или назревает потребность в какой-либо другой реформе, тотчас же идеал подвергается кастрации, и народу преподносится под фирмой свободы ряд новых цепей. Демократия требует всеобщего избирательного права, а какой-нибудь прусский Наполеон или французский Бисмарк забавляется тем, что, предварительно исказив реформу до неузнаваемости, облагодетельствует народ какой-то жалкой безделушкой. Таким образом, издавна массы обольщались словами. Поэтому задача социал-демократии — уяснить себе, что слова обозначают понятия, а понятия имеют растяжимое содержание. Обманщики народа пользуются господствующей в этом отношении логической путаницей, чтобы, подобно фокусникам, перемешивать названия, понятия и вещи.
Как же иначе объяснить, что такая естественная вещь, как мораль, выдается нашими академическими лжемудрецами за метафизическое чудо? Чтобы, следовательно, всесторонне осветить этот вопрос, в высшей степени затемненный профессорами и попами, мы воспользуемся аналогией с орудиями производства. Подобно тому как вечно существуют и все же постоянно изменяются орудия труда, точно так же постоянно и все же вечно изменчива нравственность. Ведь, разве старый нож каменного века теперь все еще нож? Да, пожалуй — антикварный, но это уже более не настоящий, подлинный нож в действительном значении этого слова. Настоящий нож должен быть из хорошей стали, современной формы, с настоящим лезвием и рукояткой. Как рукоятка и клинок составляют общее содержание ножа, так и подчинение индивидуальных желаний и личных интересов всеобщему, коммунальному, национальному и, наконец, международному благу составляет общее содержание морали. Подчинять свои преходящие желания интересам всеобщей жизни, личные потребности благу общества — вот что морально, разумно и необходимо. В чем именно в каждый период состоит благо общества — это определяется законом. Социал-демократическая этика не отрывается от реального мира. Она смотрит на политическое государство, как на законного стража и хранителя нравственности, но она считает себя призванной контролировать государство, чтобы оно не превратило преходящий и изменяющийся институт в вечное, неприкосновенное чучело, чтобы оно не содействовало противной нравственному чувству реакции вместо морального развития, эгоистическому пороку вместо коммунистической морали.
Подчиняя все частные интересы всеобщей социалистической организации, социал-демократия возвещает истинную, действительную мораль.
«Слова, — говорит Шопенгауэр, — теперь вещь небезответственная, они имеют только тот смысл, какой придает им говорящий, и толковать их иначе значит злоупотреблять ими». Под словами мораль или нравственность в их обычном употреблении и следует подразумевать эмпирический наличный факт, живую, материальную потребность, которая следует лозунгу: «Живи и жить давай другим». Мораль принадлежит к той же категории, что и все обыденные вещи. Она обыкновенное явление природы, присущее человеку. Люди без нравственного чутья составляют редкое явление, но если они попадаются, мы должны их рассматривать с тем же объективным спокойствием, как и всякие редкости, как, например, Юлию Пастрану с ее обросшим волосами лицом, перенесенным из животного царства в мир женщин. С точки зрения современного естествознания, человек — этот образ и подобие божие — с кожей и волосами, с телом и душой, религией и моралью, происходит от животного. «Что касается меня, — говорит Дарвин, — я бы охотнее примирился с своим происхождением от той маленькой героической обезьяны, которая боролась с своим опасным врагом, чтобы сохранить жизнь своего сторожа, или от того старого павиана, который, спустившись с холма, с триумфом вывел своих молодых товарищей из своры недоумевавших собак, — чем от какого-нибудь дикаря, который испытывает наслаждение при виде мук своего врага, приносит кровавые жертвы, убивает своих детей без зазрения совести, обращается с женщинами, как с рабынями, не знает чувства стыда и одержим темным суеверием». И право же, граждане, гораздо похвальнее подняться от животного состояния до нравственного идеала социал-демократического братства, чем спуститься от райской невинности Адама до христианского червяка, который в сознании своего греховного ничтожества повергнут в прах смирения.
Прогресс нравственен, а нравственность прогрессирует. Последняя, как и все в мире, вечно развивается. Уже в животном замечаются зачаточные формы нравственности, но наименование свое она получает лишь с дальнейшим ее развитием у человека. Как всюду, так и в жизни нашего рода, все целесообразное и устойчивое, следовательно, также добродетель и мораль становится орудием борьбы, с проклятыми силами реакции. Бесполезные пережитки организма зоология называет рудиментами; это вырождающиеся нормы, перешедшие от предков к потомству. Подобные элементы реакции мы считаем непримиримо враждебными историческому развитию. Как попадаются люди, которые двигают кожей головы, подобно обезьянам, или ушами, подобно ослам, точно так же встречаются грубые прогрессисты, которые по своим нравственным чувствам и понятиям не ушли дальше своих прародителей.
Известно, что последующая ступень прогресса является высшей по отношению к предыдущей и подлинное его выражение проявляется в наиболее радикальных и глубоких изменениях. Истинно моральным называется только самая тесная общественная солидарность. Что большое по сравнению с большим кажется малым, а малое по отношению к меньшему великим; что человеку трудно снести то, что легко ослу; что качества: великий, малый, тяжелый и т. д., являются относительными понятиями — все это слишком элементарные вещи. Тем не менее, я нахожу нужным обратить особенное внимание на относительный характер нравственных качеств. Как целесообразные орудия с течением времени теряют свой смысл, так и нравственные системы с ходом развития становятся безнравственными. В сравнении с преданностью свободе социалистов национал-либерализм кажется в нравственном отношении жалким. В конце концов мораль стремится к радикальному перевороту или к перманентной революции.
Только с торжеством социал-демократии культура начнет по-настоящему жить и развиваться. До сих пор человечество двигалось вперед почти бессознательно. Только мы подчеркиваем принцип движения. Все существовавшие до сих пор партии имели определенные границы и цели, по достижении которых за движением следовало затишье, за действием реакция. Самые знаменитые герои культуры и метафизики сделались впоследствии в той же мере тормозами прогресса, в какой первоначально были его поборниками. Моисей, Аристотель, Христос, Лютер, Кант и Гегель двигали мир, пока люди были верны их евангелию. А потом все эти знаменитые системы стали вредной помехой. И это не потому, что, как утверждают филистеры, эти светила не были по достоинству оценены потомством или их учение было извращено, а потому, что истинный принцип морали остался для них самих недосягаемым. Они смешивали вид с родом, нравы с нравственностью. Все нравственные веления хороши, но они условны. Только бесконечный прогресс всегда хорош или безусловно морален. Устанавливать же определенные предписания для всех времен и на все случаи, как до сих пор делали педанты-систематики, это в высшей степени безнравственно.
Мы видели, что нравственность вытекает из всеобщей потребности в социальном общении. С ростом этой потребности растет и нравственность и культура. Для блага человечества прогрессирующее развитие морали так же необходимо, как и питание. Всякое нравственное предписание, которое стремится выйти за пределы обусловленной местом и временем целесообразности, необходимо принимает вид безнравственной тирании, равно как предписанное меню превращается в невыносимую диету. Как хлеб составляет общую для всех пищу, так, например, правда является общей для всех добродетелью. Но прими к сведению, любезный слушатель, что подобные факты нельзя рассматривать как метафизические предписания, имеющие абсолютное значение, а только как эмпирические правила, допускающие исключения. Абсолютное право, абсолютная истина — только увертка теологии или метафизики. Нравственный миропорядок проявляет себя исключительно в непрерывном общественном прогрессе, в бесконечном социальном развитии.
Христианская тупость, отделяющая тело от души, проводит также резкую грань между моральным и физическим прогрессом. Она переносит мораль из сферы жизни и действительности в келью внутренних переживаний, в таинственную обитель чувств. Конечно, только доброе сердце может обнаруживать и добрые чувства. Но они обретаются путем тесного общения с людьми, а не в монастырском уединении. И хотя никто уже более не удаляется в леса, чтобы, питаясь кореньями и травами, отдаться нравственному усовершенствованию, тем не менее принципы монашеской этики глубоко еще коренятся в господствующем всюду недомыслии. Кто хочет видеть в возникновении мира божественное начало, кто стремится обрести истину в отвлеченном мудрствовании, а добро и право во внутренних чувствованиях, тот идет по тому же ложному дедуктивному пути, на котором люди, так сказать, чревовещают или пытаются достигнуть истины при помощи души. Теории, согласно которой нравственное начало может быть отделено от физического мира, а духовное развитие — от материального благосостояния, как будто и создана для эксплоататоров народа, чтобы подслащивать каторжный труд моральной патокой. В то время как эти господа превозносят нужду, заботу, страдание и нищету, как нравственные испытания, они отдаются аморальным наслаждениям эгоистического процветания материального благополучия. Мы, социал-демократы, только посредством наименований и понятий различаем вещи и их взаимоотношения, но для нас вполне ясно, что на практике все взаимно связано, особенно мир физический и нравственный.
Как бы высокопарно ни выражались монахи, — кабала, десятина, попрошайничество были материальными основами их моральной болтовни. Наши капиталисты разыгрывают ту же комедию с небольшими вариантами. Они знают, как неважно жилось Робинзону при упорном труде, и все же не хотят знать, что их частная собственность могла быть приобретена лишь благодаря эксплоатации общественного труда. Собственные интересы ослепляют их настолько, что им трудно понять, как безнравственен и антисоциален такой экономический строй, в котором на долю «ближнего» выпадает столь ничтожная часть созданных им продуктов в награду за непомерно напряженный труд.
Точная индуктивная наука учит социал-демократа, что осуществление нравственного миропорядка, или братского союза, пока составляет лишь цель социализма, но в то же время тот категорический императив, который побуждает. его стремиться с сознанием всей моральной ответственности к коренному изменению социально-экономического строя. Ни поп, ни профессор не разубедят нас в этом.
Философия социал-демократии
Семь лекций
I
Гордо и радостно глядят наши товарищи на успехи, достигнутые социализмом в сравнительно короткое время. Чувством позора и горя в глубинах народной жизни вызван многочисленный и повсеместный приток к нам новых приверженцев. Но только ясным сознанием и обладанием систематической теорией объясняются строгая дисциплина, определенная, ясная тактика и полное единодушие, царящие в наших рядах. Без этого социалист и поныне остался бы тем же мягкосердечным и сострадательным, но бестолковым человеком, что и прежде.
Первые английские и французские социалисты, предвещавшие грозу уже в конце прошлого столетия, превосходно поняли хищнический и лицемерный характер наших рыцарей «свободной собственности». Для них был ясен отрицательный элемент, зародыш смерти, таившийся в самой основе фабрично-заводской промышленности. С прозорливостью пророков они предсказывали упадок средних классов, постепенное, но неизбежное вытеснение крестьян и ремесленников с их насиженных мест, превращение мелких собственников в совершенно неимущих и порабощенных наемных рабочих, они предсказывали все увеличивающуюся нищету и рост пролетариата. Они, однако, совершенно не поняли, что единственное действительное средство против социального недуга кроется уже в самой природе вещей, что бессознательный мировой процесс не только ставит перед нами задачу, но и содержит уже в себе практический ключ к ее разрешению. Они полагали, что возможно путем мудрствований дойти до истинной и справедливой общественной организации. В результате этого заблуждения получился целый ряд самых фантастических проектов. Каждый собирал вокруг себя приверженцев и отправлялся с ними в Америку или в Икарию. Одни строили царство гармонии, другие — новый Иерусалим. Было столько же всеспасительных сект, сколько гениальных умов. Все болтали без умолку о монархии и республике, о диктатуре и конституции, об ограниченном и неограниченном избирательном праве и разных подобных вещах. Выкидывали всевозможные знамена двух- и трехцветные, голубые и красные. Но логической обоснованности, научной последовательности или твердых принципов ни у кого не было.
И вот появились наши партийные товарищи Маркс и Энгельс, соединившие в себе социалистическое направление и горячую преданность народному делу с необходимым философским образованием, благодаря чему они и в области социальных наук сумели подняться от предположений и догадок до высоты положительного знания. Философия открыла им тот основной принцип, что в последней инстанции не мир управляется идеями, а, наоборот, идеи управляются миром. Из этого они сделали вывод, что истинные государственные формы и социальные учреждения не могут быть найдены в готовом виде во внутренностях духа путем спекуляции, но должны быть выведены материалистически из объективных условий. Материалом для этого исследования служило существующее буржуазное общество, которое в политической экономии воплощает свой конкретный организм — потребляющий и производящий.
В своем «Капитале» Маркс анализирует это тело и с научной наглядностью доказывает нам, что народная нищета есть неизбежное следствие хозяйства, крайне плохо распределяющего обильный продукт социального труда. Ничтожное количество «работодателей» и их присных получает ныне под видом процентов, ренты, дивиденда, предпринимательской прибыли и т. п. весь барыш, а рабочему уделяется лишь заработная плата, т. е. смазка, необходимая для непрерывного движения рабочей машины. Маркс первый понял, что человеческое благо в общем и целом зависит не от какого-либо просвещенного политика, а от производительной силы социального труда. Он понял, что наша продуктивность, или производительность, в силу самой материальной природы должна постоянно возрастать, что этот рост должен был привести нас от грубого варварства к нынешней цивилизации и что прогресс экономической производительности приведет нас, в свою очередь, от ставшей уже невыносимой цивилизации к социал-демократическому народному государству, к коммунистической свободе, равенству и братству. Он понял — и это познание есть фундамент социальной науки, — что благо человечества зависит от материального труда, а не от спиритуалистических фантазий. Этого блага мы отныне не ищем уже в религиозных, политических или юридических откровениях; мы видим, как оно механически вырастает из развития так называемой политической экономии. Не наука и образование могут нас приблизить к нему, а производительный труд, который, кстати сказать, при содействии науки и образования становится все более и более производительным.
Здесь вопрос идет о том, что есть первое: механический труд или духовная наука? При поверхностном взгляде нам может казаться, что это просто софистическая казуистика, но на самом деле вопрос этот имеет громадное значение для установления правильного взгляда. Перед нами все тот же старый вопрос: идеалист или материалист? И притом он теперь настолько ясен, что не может возникнуть никаких сомнений относительно того, какой нам дать, наконец, ответ. Оттого что мы, социалисты, признаем за первое «грубый» труд, нас пытаются оклеветать как гонителей образования. В действительности же мы только противники фантазеров, которые желали бы отделить науку или образование от телесного труда, как нечто высшее, и превратить ее в подобие святого духа, который во образе голубя витает над механической природой. Мы признаем науку и образование чрезвычайно ценными средствами, но только средствами, тогда как производительность телесного труда есть высшая цель. Потребность сделать труд более производительным заставляет нас обращаться к науке и образованию. Затем образование, само собой разумеется, значительно влияет в свою очередь на более производительное применение труда. В вопросе: что первоначально? — таится великий кардинальный вопрос о том, «создан» ли мир некиим чудовищным фантазером по известному плану, или же все наше фантазерство есть только второстепенный, хотя и важный для нас атрибут этого чудовищного мира. Спрашивается, что предшествует: мышление или бытие, спекулятивная теология или индуктивное естествознание? Люди гордятся и имеют право гордиться духом, который они носят в своей голове, но они не должны чисто по-ребячески приписывать самое главное значение в мире тому, что лишь для них самих есть самое главное. Идеалист тот, кто преувеличивает ценность человеческого рассудка, кто обоготворяет его и склонен приписать ему религиозную или метафизическую чудодейственность. Секта эта с каждым днем становится малочисленнее; даже ее последние могикане давно уже сбросили с себя религиозное суеверие, но все еще не могут отречься от «веры», что такие понятия, как справедливость, свобода, красота и др., создают человеческий мир. Конечно, это в известной степени правильно, но прежде всего материальный мир создает содержание наших понятий; это он определяет, что собственно следует понимать под свободой, справедливостью и т. д. Очень важно, чтобы мы себе представили ясно сущность этого процесса, так как из него вытекает метод, каким образом придать нашим понятиям верное содержание. Вопрос, кому принадлежит первенство — духу или материи, есть великий общий вопрос об истинном пути законного начала и о законном пути истины.
Исходя из телесных потребностей, социалисты стремятся к человеческому благу. Философская ясность служит им верным путеводителем. Это благо мы находим не в измышлениях духа, а в материальном производстве. Если, как того требует природа вещей, в короткое время желают достигнуть многого, то необходимо работать так, как работают наши буржуа, — колоссальными инструментами и большими массами. Крестьянское хозяйство и мелкое производство должны прекратить свое существование. Крупные капиталы должны процветать. Этому способствуют «либералы»; их помощь оказалась уже столь основательной, что наша новая империя, другие «свободные» государства, болтовня парламентов, система свободной торговли или протекционизм — уже стали бессильными. Рабочая сила настолько возросла, что одно банкротство следует за другим. На биржах царит паника, банки не платят, фабрики не работают, а рабочие — голодают. Отчего? Оттого что производительные силы стали слишком велики в сравнении с жалким соотношением между капиталом и наемным трудом. При этом соотношении меньшинство может жить в роскоши, а большинство должно голодать. Но живущих в роскоши слишком мало, запасы накопляются до небывалых размеров, до того, что капиталы не приносят больше процентов, не дают никакого дивиденда, никакой прибыли. В делах застой, продукты не находят сбыта. Единственный исход — участие народа в потреблении. Заработная плата должна быть повышена, рабочее время сокращено. И несмотря на то, что упитанный буржуа чуть ли не задыхается от собственного жира, он слишком завистлив, чтобы достойно отплатить, слишком жаден, чтобы не переутомлять производителя своего богатства — рабочего. Даже легкой передышки в достаточном количестве нынешний либерализм не хочет предоставить человеческой рабочей силе!
И все же сила обстоятельств могущественнее злой воли буржуа. Благодаря огромному потреблению современного милитаризма мы благополучно минуем кризис. Запасы иссякают, торговля оживляется, следом за этим начинается предпринимательская лихорадка, и заработная плата должна повышаться. Это какое-то парадоксальное народное хозяйство — чем значительнее запасы, тем сильнее нищета. Казалось бы, что люди живут хлебом, но нет: пусть даже его уродится в три раза больше, чем нужно, пока человек не работает четырнадцать или шестнадцать часов в сутки, он должен бедствовать. Если бы завтра вернулись карлики, которые, по преданию, за ночь сделали человеку всю его работу, тогда девяти десятым всей нации пришлось бы считать ворон или же решиться на революцию. Роскошь, парадные шествия, оружейные заводы, казармы и соборы, словом — ненужные вещи поддерживаются не только государством и господствующими классами, но порою также народом и обществом. Только целому ряду непроизводительных работ мы обязаны тем, что нищета подступает к горлу, а не обрушивается всецело на нашу голову. Прежде недостаток в капиталах требовал хозяйственной бережливости. Всякое увеличение национального богатства увеличивало средства труда и, следовательно, также источник народного питания. Ведь мы уже указывали, что народ до сих пор жил, главным образом, не хлебом, а трудом. Теперь же, благодаря возросшему тем временем капиталу, производительность увеличилась настолько, что нельзя найти приложения труду. Таким образом, избыток продуктов превращает нас в нищих. Не одни только социал-демократы, но и само народное хозяйство требует большого потребления, требует сбыта для своих продуктов. Увеличение заработной платы и сокращение рабочего времени являются, однако, уже недостаточными паллиативами. Производительные силы для своего развития когда-то требовали отмены барщины, десятины, цехов, словом, добивались буржуазной либеральной политики; им необходима была свобода промышленности; точно так же в настоящее время они требуют устранения капиталистического и организации коммунистического труда.
Субъективная вера распадается на отдельные вероисповедания — попы спорят между собой. Объективная наука единогласна — физики не знают разногласий. Теоретическое единогласие социал-демократии, подчеркнутое нами выше, основано на том, что мы не ищем более спасения в субъективных планах, но видим, что оно вытекает с неизбежной необходимостью из мирового процесса, как механический его продукт. Нам остается ограничить свою деятельность лишь родовспомогательным искусством. Неизбежный мировой процесс, создавший планеты и постепенно из их огненножидких веществ образовавший кристаллы, растения, животных и людей, также неизбежно толкает нас к рациональному применению нашего труда, к беспрерывному развитию производительных сил. Прежде всего производство требует рациональной организации. Во все культурные эпохи, как бы различны они ни были, необходимо — этого требует разум вещей — добиться наивозможно больших результатов в наивозможно кратчайший срок. Это стремление, присущее нам в силу материальной природы, и есть, следовательно, общее, причинное основание или фундамент всех так называемых высших, духовных развитий, образований, прогресса. Развитие производительных сил есть тот систематический исходный пункт, тот созидающий фактор, который воздвигает государства, определяет формы правления, группирует партии, очищает и совершенствует понятия о свободе и справедливости. Оттого что при цеховых ограничениях развившиеся производительные силы не могли уже двигаться дальше, они и разорвали средневековые цепи и создали капиталистическое хозяйство. Оттого что еще более развившиеся производительные силы ныне снова не могут делать дальнейших успехов, необходимо предоставить народу участие в потреблении, должен быть найдет рынок сбыта, должна быть устранена бисмарковщина и должны совершенствоваться нравственность, свобода, равенство и братство. Итак, вперед, хотят этого или нет!
Надежды социал-демократии покоятся на механизме прогресса. Мы сознаем нашу независимость от чьей бы то ни было доброй воли. Наш принцип чисто механический, наша философия — материалистична. Однако материализм социал-демократии гораздо богаче и глубже обоснован, чем все предшествовавшие ему материалистические системы. Свою противоположность, идею, он воспринял ясным созерцанием, он вполне овладел миром понятий, преодолел противоречие между механикой и духом. Дух отрицания носит у нас одновременно положительный характер, наша сила — диалектика. «Когда я, — пишет Маркс в одном частном письме, — сброшу с себя экономическое бремя, я напишу «Диалектику». Истинные законы диалектики имеются уже у Гегеля, хотя в мистической форме. Теперь необходимо отделаться от этой формы». Так как я с своей стороны опасаюсь, что нам еще долго придется ждать, пока Маркс обрадует нас обещанным трудом, и так как я с юных лет много и самостоятельно изучал этот предмет, то я попытаюсь дать возможность пытливому уму познакомиться несколько с диалектической философией. Она — центральное солнце, от которого исходит свет, озаривший нам не только экономию, но и все развитие культуры, и которое в конце концов осветит и всю науку в целом до «последних ее оснований».
Мои товарищи знают, что у меня нет высшего образования, что я простой кожевник, усвоивший философию самоучкой. На свои философские работы я могу употреблять лишь часы досуга. Свои статьи я буду поэтому печатать с известными промежутками, обращая при этом внимание не столько на их внутреннюю связь, как на то, чтобы каждую из них можно было читать отдельно. И так как я придаю мало значения ученому хламу, я не буду многоречив; я также выпущу все то, что может лишь затемнять нашу тему. Но, с другой стороны, я попрошу читателя не забывать, что популярное изложение имеет весьма тесные пределы. Говорят, правда, что то, что ясно продумано, может быть столь же ясно и общепонятно изложено. Это, однако, верно лишь с известными ограничениями. Без известных предпосылок ничего не объяснишь. Сельского жителя высмеивают на море — он не знает швартов, рей, парусов; матрос не может разговаривать с ним о своем деле. Точно так же я не могу без известных данных пускаться в область философии. Иначе тема моя измельчала бы, а это не соответствует ни моей цели, ни моему вкусу. Этим замечанием я хочу лишь обратить внимание читателя на то, что в случае неясности целесообразно пытаться выяснить вопрос путем обращения к самому себе.
II
Как мои проповеди о религии преследовали похвальную цель дискредитировать священную церковную кафедру, так теперь я занялся философией с намерением лишить учительницу ее величия. Уже Людвиг Фейербах доказал, что философия — «наперсница теологии». С этой почтенной компанией социал-демократия хочет разделаться раз навсегда. В предисловии к своей книге «Положение рабочего класса в Англии» Фридрих Энгельс уже говорит о фейербаховской ликвидации философии. Но Фейербаху теология доставила столько хлопот, что для полной и окончательной победы над философией у него осталось слишком мало охоты и времени. В сочинениях Фейербаха ликвидацию философской проблемы можно найти скорее между строк, чем в самом тексте. Тем не менее этот ученик Гегеля косвенным образом подтверждает слова Маркса, что «подлинные законы диалектики, хотя еще только в мистической форме, имеются уже у Гегеля». Фейербах и Маркс, оба гегельянца, черпают из одного и того, же источника одинаковый результат, которым Фейербах пользуется для научного анализа религии, а Маркс — для анализа экономики.
Этот исторический ход вещей показывает, что социал-демократическая антифилософия, без всякого сомнения, ведет свое происхождение от фолиантов признанных философов. Ввиду этого происхождения мы можем поставить ее бок о бок с академическим образованием и гордо вопросить: чего же ты, собственно, хочешь? Что же касается самого существа вопроса, то мы чувствуем себя настолько уверенными, что свысока глядим на ученых господ. Тут мы не ссылаемся ни на Аристотеля, ни на Канта, потому что перед нами живое дело, совершенно очевидное для незаинтересованных и беспристрастных. Как доводы естествознания всегда могут быть проверены на опыте, точно так же неоспоримы те основания, на которые опирается наша антифилософская философия. Поэтому по меньшей мере излишне подкреплять ее ссылками на греческих, латинских и других ученых авторов.
Непосвященным должно казаться противоречивым, что мы, с одной стороны, так гордимся своим философским происхождением, а с другой — высказываем явное намерение умалить ту самую философию, от которой происходим. Для объяснения да послужит следующее: подобно тому как алхимические заблуждения способствовали возникновению химической истины, точно так же заблуждения философии вызвали к жизни всеобщее учение о науке. Старик, желающий начать жизнь заново, чтобы повторить ее, желает собственно не повторить ее, а исправить. Он признает пройденные пути ошибочными; но тем не менее он склонен, повидимому, к противоречивому выводу, что этот путь все же многому его научил. Как этот старик относится критически к своему прошлому, так и социал-демократия относится к философии. Последняя есть именно та ложная тропинка, на которой необходимо было заблудиться, чтобы дойти до знания истинного пути. Чтобы уметь следовать по этому пути, не смущаясь религиозной и философской тарабарщиной, надо тщательно изучать наиболее ложную из ложных тропинок — философию.
Кто поймет это требование в буквальном смысле, конечно, найдет его абсурдным. Как возможно искать истину в заблуждениях? Но пусть читатель не придерживается никогда буквы, а доискивается смысла. Известное изречение: «Никакая религия — вот моя религия», объясняет, например, как не всегда А = А, а, наоборот, как А превращается в Б. Самое основное свойство вещей этого мира в том и состоит, что они никогда не постоянны, не неподвижны, что они вечно меняются, текут, возникают, развиваются и исчезают. Все действительно существующее подвержено постоянным изменениям, и движение мира настолько безгранично, что каждая вещь в каждый данный момент уже более не та, какой она была раньше. Поэтому язык и вынужден называть различные формы или вещи одним именем. И философия подвержена мировому закону движения, или изменения, и это изменение подвинулось настолько, что и тут, как в современном христианстве, возникает вопрос: оставить ли в видах целесообразности за существующим старое название, или обозначить его другим именем? Социал-демократия высказалась против слова «религия», и я тут настаиваю на том, чтобы она высказалась также против слова «философия». Только для переходной стадии я допускаю возможность говорить о «социал-демократической философии». В будущем же диалектика, или всеобщее учение о науке было бы вполне подходящим названием для этой критической работы.
Кто мы, откуда и куда идем? Хозяева ли и повелители люди, «венец ли они создания», или жалкие существа, подверженные всем влияниям непогоды и бедствий? Как относимся мы и как должны мы относиться к окружающим нас вещам и людям? Вот в чем заключается великий вопрос как философии, так и религии. В устах философии, этой младшей сестры, вопрос принял более рациональную форму. Она не ждет ответа от потусторонних, небесных духов, от вдохновения; она, напротив, ставит его на разрешение трезвому, в человеческой голове эмпирически существующему интеллекту. Характерная черта философии состоит в том, что она изъяла «великий вопрос» из области религиозного чувства и отдала его на разрешение органу науки — познавательной способности.
Если мы без специального изучения не можем знать наших внутренностей, то в еще большей степени не можем без специального изучения знать ту таинственную вещь, которая в виде мыслительной способности обретается в нашей голове. Примитивная мудрость должна была пользоваться ею, — как пользуются желудком, — не входя в научное рассмотрение этого органа. Когда же дошли до того, чтобы сознательно поставить интеллекту основной вопрос о загадке бытия, тогда мало-помалу изучение интеллекта, критика разума или теория познания стали основным вопросом.
Как известно, средневековые схоласты стремились к тому, чтобы обосновать религиозные догмы при помощи разума. Они этим самым делали нечто такое, чего они не желали и даже не подозревали, — они поставили разумное обоснование над религиозным и таким образом фактически сделали разум «высшим существом». Нечто подобное произошло и с философией. Желая разрешить научным путем великий вопрос жизни, она только запутала свое собственное дело, за которое не сумела взяться; научное разрешение, теория головной работы стала ее настоящим предметом, ее жизненным вопросом. Все выдающиеся философские сочинения, и всего яснее новейшие труды ненамеренно, но фактически подтверждают этот процесс. Даже самые названия относящихся сюда главных сочинений, начиная с «Органона,» Бэкона, «Логики» Гегеля и до «Четвероякого корня закона достаточного основания» Шопенгауэра, — все свидетельствует о действительном положении вещей.
У великих философов прошлого, точно так же как и у их нынешних маленьких последователей, мелькает сознание, что так называемая мать наук из своих высоких и далеких экскурсий приносит с собой только специальную теорию познавательной способности. Целыми дюжинами можно было бы привести цитаты в подтверждение этой смутной их догадки и не меньше доводов в пользу того, что это понимание не было ни ясным, ни последовательным, что профессоры и приват-доценты крайне смутно представляли себе задачи, цели и значение философии. У каждого из них имеется более или менее значительный остаток суеверного, фантастического мистицизма, которой туманит их взор. Красноречивое доказательство этому мы находим в словах господина фон-Кирхмана, сказавшего в своей «Популярной философской лекции» (согласно отчету «Volkszeitung» от 13 января этого года), что философия есть не более и не менее, как наука о высших понятиях бытия и знания... что она разделяет с отдельными науками предмет своего изучения и мышления — вселенную со всем ее содержанием; она пользуется также теми же средствами... стремясь ко все высшему единству мысли... Существенная разница между отдельными науками и философией состоит, главным образом, в методе; философия исходит из абсолютной беспредпосылочности и двигается, руководствуясь поставленным во главе всего принципом. О ее пользе Кирхман даже не желает говорить, а говорит лишь о значении ее для великих духовных областей жизни человечества — для религии, государства, семьи, нравственности; ибо не уголовное наказание и не полиция, а только философия в состоянии защитить последние основания этих великих установок, на которые в наше время гак смело и так, к сожалению, цинично нападают.
Снова перед нами старая прислужница религии, — лишь в обновленном виде.
Философия называется теперь «наукой о высших понятиях бытия и знания». Таково ее «популярное» определение. Однако я хотел бы видеть тех, кто в состоянии здесь понять что-либо. «Высшее понятие бытия» трактует, пожалуй, о понятии высших звезд, или, быть может, где-нибудь существует еще более высокое «бытие»? Но, кажется, я ставлю вопрос слишком материально: ведь речь идет у нас не об астрономии, а о философии, «науке высшего понятия знания». Но что на нее купишь и какая нам от нее польза?!
Философия «разделяет с отдельными науками предмет их исследования — вселенную со всем ее содержанием — и пользуется теми же средствами для своей работы, т. е. мышлением...» В чем же, однако, заключается разница, в чем отличительная черта философии? Кирхман утверждает, что в методе. Допустим, философия и естествознание трактуют об одном и том же предмете, пользуются одними и теми же средствами, но способ их применения различен. Невольно спрашиваешь себя: что же происходит от этого различия? Результаты естествознания известны. Но в чем выразились результаты философии? Кирхман выдает нам секрет: философия охраняет религию, государство, семью, нравственность. Итак, философия не есть наука, а просто предохранительное средство против социал-демократии. Но в таком случае нечего удивляться, если социал-демократы имеют свою собственную философию.
И не подумайте, что Кирхман составляет исключение, что он не истинный философ. Он, наоборот, человек с признанной уже репутацией, он высказывается тут совершенно в духе университетской философии. В особенности слово об абсолютной беспредпосылочности есть общепризнанное вполне верное и точное определение философского метода. «Специальные науки», как и здравый смысл вообще, черпают свои знания при содействии интеллекта из опыта, из существующего в мире материала. Они приступают к исследованию с открытыми ушами и глазами, и то, что таким образом удается увидеть и услышать, философия называет «предположением». Для ее экзальтированного самомнения, ищущего «вечных сокровищ», «явления» мира и жизни суть не более как жалкая пища для моли и ржавчины. Правда, говорят, что философия опирается на доступные ей выводы специальных наук, но это только вынужденная уступка, непоследовательность, которая, впрочем, вполне соответствует общей царящей в философии путанице. Так она говорит лишь левым краешком рта, правым же она говорит «о поставленном во главе принципе» беспредпосылочности, принципе, который она неуклонно преследует, но достигнуть которого ей все же не удается. Вся эта болтовня свидетельствует лишь о том, что философия вовсе не наука, а тропинка, постоянно сбивающая с пути интеллект. Ее результатом является то, что одной только головной работой нельзя отыскать никакой истины, никакого принципа, нельзя разгадать ни одной загадки жизни, что, наоборот, человеческая познавательная способность есть индуктивный аппарат, всегда и всюду предполагающий наличность известного опытного материала.
Этому учит нас классическая философия. Ее. нынешние последователи и поклонники не могли, по легко понятным причинам, понять этого учения. Они призваны охранять религию, государство, семью, нравственность. Едва только они изменяют этому призванию, они перестают быть философами и становятся социал-демократами. Все, кто называет себя «философами», все эти профессоры, приват-доценты, несмотря на кажущееся вольнодумство, более или менее опутаны суеверием и мистицизмом, все они в сущности мало друг от друга отличаются и образуют в противоположность социал-демократии одну, общую in puncto puncti[26] необразованную, реакционную массу.
III
Откуда мы, где начало мира и какое место мы занимаем в нем? Что значит жизнь, наши чувства, явления природы? Так спрашивает человек, а человек — великий вопрошатель, иначе говоря — великий глупец. Согласно поговорке, один дурак может больше задавать вопросов, чем десять мудрецов в состоянии ответить. Правда, поставленный вопрос есть самый кардинальный из всех вопросов, вопрос, который все народы во все времена ставили и будут ставить. Глупа только форма, в которой сперва религия, а затем ее более передовая сестра, философия, ставили его. Они вопрошали туманную бесконечность и — «глупец ждет ответа».
Ясного, положительного и понятного ответа мы можем ожидать лишь в том случае, если, по примеру «специальных» наук, разберем вопрос детально. Целое получается только посредством его частей, существование может быть понято лишь через посредство отдельных его форм путем перехода от частного к общему. Прежде всего надо спросить, откуда я сам? Откуда мой отец и дед? Что такое глаз, ухо? Какое назначение имеет печень и какое почки? На это науки отвечают ясно и определенно. Ботаника занимается изучением деревьев, кустов, трав; астрономия — изучением солнца и луны. И только когда, таким образом, «великий вопрос» достаточно расчленен и разумно сформулирован, мы получаем разумный научный ответ. И если полученный до сих пор ответ все еще не удовлетворяет тонкого, пытливого исследователя, если много таинственного все еще остается непонятым или ложно понятым, мы тем не менее настолько продвинулись вперед, так далеко ушли от философии и религии, что осознали значение того метода, согласно которому нужно ставить вопросы, чтобы получить правильный ответ; мы теперь знаем, что не следует тупо ждать, верить, надеяться, заниматься спекулированием.
Обыкновенно выставляют «метод», как ту характерную черту, которая отличает философию от других специальных наук. Но спекулятивный метод философии есть не что иное, как бестолковое вопрошание к туманной безграничности. Без наличия какого-либо материала философ, подобно пауку, извлекающему свои нити из самого себя, даже гораздо более беспочвенно, беспредпосылочно желает извлечь свою спекулятивную мудрость прямо из головы. Вот почему философские измышления имеют еще меньше реальной связи, чем нити паутины.
Вред, вытекающий из этого метода, громаден, и напрасно предполагают, что, заключенный в тесные рамки ученых фолиантов, он представляет мало опасности для практического мира. Глубокомысленные книги представляют собой только наружные скопления того самого яда, который глубоко засел в плоти народов с самого их младенчества и который теперь еще распространен среди самых разнообразных слоев населения. Поучительный образец преподнес нам недавно ученый профессор Бидерман в своей полемике с рабочими. Он требует от социалистов, «взамен туманных, неясных намеков, ясную картину того общественного строя, который, по их мнению и согласно их желаниям, должен был бы воцариться у нас в будущем. Особенно интересно получить от них ясные указания, как все это последовательно будет осуществлено на практике».
Раньше чем дать Бидерману разумный ответ, необходимо научить его ставить разумно вопрос. Господину профессору недостает знакомства с теорией познания, с самой общей наукой. Поэтому-то он совершенно не понимает нашего метода рассуждений. Мы не идеалисты, мечтающие об общественном строе, «каким он должен быть». Если мы думаем и гадаем о будущем устройстве общества, то прежде всего опираемся на известный материал. Мы мыслим материалистически. Господь бог имел мир в своей голове раньше, чем он создал его, его идеи были суверенны и независимы от чего бы то ни было. Эта суеверная вера в независимость идеи царит не только в головах профессоров, но и в головах разных Бидерманов. Она лежит в основе того требования, чтобы мы, раньше чем нападать и разрушать существующий уже мир, представили подробный план будущего. Покойные социалисты Фурье, Кабэ и др. сделали эту ошибку, и их поэтому ставят нам в пример. Господин Бидерман неправильно понимает нас, наш метод и то дело, которое мы защищаем. Мы относимся к будущему не как спекулятивные философы, а как практичные люди; мы не строим воздушных замков и не увлекаемся химерами. Безрассудно приступить к какому-нибудь делу, предприятию, пуститься в мир без определенного проекта; но еще безрассуднее — и это характерная черта сангвиников-мечтателей — заранее определить все свои ближайшие решения: когда мы, например, желая торговать ситцем, не имея покупателей, не зная их вкусов, стали бы заранее изготовлять рисунки, звездочки и цветочки, которые могли бы им понравиться. Если даже я в общих чертах набрасываю план, как устроить свою собственную будущность, я все же ставлю подробности в зависимость от времени и обстоятельств. И разве буржуазный ум во времена крепостничества мог себе ясно представить те различные учреждения, институты, законы, как наша юстиция, нотариаты, ипотечное, вексельное, акционерное право и весь остальной хлам, принесенный нам буржуазным режимом и его политическими «свободами»? Практические главари буржуазного движения, свободной купли и продажи, не занимались преждевременным составлением проектов. Они требовали от своих аристократических притеснителей прежде всего человеческих прав, и оставленный без ответа вопрос об их специальном применении, о будущем устройстве общества нисколько не смущал их. Они оставляли за собой право принимать в дальнейшем соответствующие решения и ждали, что скажут обстоятельства и время. Они не оперировали без материала, не ткали без ниток. Там, где лен еще не был посеян, где шелковичный червяк еще не превратился в куколку, они спокойно заняли выжидательную позицию. И то, что все практические люди прошлых времен делали инстинктивно, мы, международные социал-демократы, делаем с полным научным сознанием.
И мы требуем восстановления своих человеческих прав, требуем за свой труд справедливого участия в продукте. Это требование, это наше желание и стремление есть не праздная спекуляция, а нечто присущее нам от самой природы. Точно так же коммунистическое хозяйство лежит в самой природе вещей, оно должно войти в жизнь; необходимый для этого материал уже налицо и с каждым днем увеличивается. Буржуа — это настоящие шелковичные черви; лишь только они выпрядут свой шелк, мы сумеем воспользоваться этим материалом. Праздные вопросы: где, когда и как? — не должны нас смущать; это пока что совершенно лишнее «философское» спекулирование.
Наша программа требует от общества непосредственного удовлетворения всех разумных потребностей при условии всеобщего обязательного труда. От нас требуют, чтобы мы яснее развили эту идею по «практическим своим последствиям». Отрицание и критика не находят сочувствия. Говорят нам, чтобы мы строили или «улучшали», конечно, не всерьез, не напролом, не практически, а чтобы мы с помощью безвредных теорий «разрисовывали» идеал будущей организации общества, чтобы мы отдавались умозрениям и философствовали. Но забывают, что наш метод чужд всякого философствования. Мы пользуемся нашими головами, по примеру точных наук, для реальной работы, а не для праздной игры. Тот, кто желает строить, пусть прежде всего приложит топор к существующим уже деревьям, и прежде всего к самым большим и крепким. Хватить так, чтобы щепки полетели, нам, к сожалению, еще нельзя. Пока мы можем строить народное государство лишь в голове, в теории. Но такая теоретическая работа должна быть строго научной, продуктивной, а не праздной. Итак, начнем с критического распределения материала. «Отбрасывание» того, что негодно, неразрывно связано с приведением в порядок годного. Критика существующего есть первое, непременное условие, чтобы «сделать лучше».
Что мелкое хозяйство непродуктивно, что частная собственность эксплоатирует рабочие массы, — это эмпирическое, специальное знание, вытекающее из опыта, а не попавшее в нашу голову из философских туманных обобщений. Из этого как «практический вывод» следует требование товарищеского, государственного или коммунального производства.
То обстоятельство, что во всей даром нам предоставленной природе лишь один труд производит все капиталы вместе с процентами, со времен Адама Смита признано политико-экономической наукой. Что этот труд не есть частное дело, а разделен в интересах общества между членами буржуазного общества, — это такая же давно известная вещь, как давно знакомая нам фраза о «разделении труда». Что ныне существующее разделение труда несовместимо с человеческим достоинством и есть не более как игра в жмурки; что оно наводняет рынок железнодорожными рельсами, в то время как ощущается недостаток в масле и мясе; что разделение продуктов есть насмешка над справедливостью и гуманностью — все это несомненные факты, не вызывающие более никаких споров. А из этого мы делаем следующий «практический вывод»: в интересах общества необходимо уничтожить частную земельную собственность, выработанные до сих пор инструменты, запасы, предприятия конфисковать прямо в пользу народного государства и справедливо распределить как повинности, так и продукты труда сообразно разумным потребностям, а не сообразно незаконным притязаниям так называемых личных заслуг.
Специальные же вопросы о том, как, когда и где это осуществить — с помощью ли тайного соглашения с Бисмарком или посредством петиции немецкому рейхстагу, на баррикадах ли Парижа или при помощи предоставления английским женщинам избирательных прав, — все это нескромные, несвоевременные и бестолковые вопросы. Мы терпеливо дожидаемся своего часа, а вместе с ним и материала, который должен быть дан познавательной способности раньше, чем она могла бы выработать вполне разумную мысль. Ведь дело наше становится с каждым днем яснее, а народ умнее.
Агитация и просвещение бестолковых умов наших противников, ненавистная им критика есть гораздо более достойное занятие, чем беспочвенные рассуждения о будущем устройстве общества. По существу, в основном это последнее ясно и недвусмысленно предначертано уже самой природой вещей. Установление частностей или подробностей должно быть предоставлено всецело обстоятельствам, времени и дальнейшим исследованиям.
Мир достаточно велик, солнце достаточно тепло, земля в достаточной мере плодородна и руки народа достаточно сильны, чтобы обеспечить удовлетворение всех разумных потребностей народных масс, будь они даже втрое многочисленнее, чем теперь. И тут являются разные Бидерманы и выражают сомнение в том, обладаем ли мы достаточной смышленостью, чтобы планомерно распределить имеющиеся у нас в изобилии материалы труда и наслаждения. Лейпцигский Бидерман особенно обеспокоен подобными деталями государства будущего: «Будут ли все участники в каком-нибудь продукте труда иметь одинаковые или различные права на доход с него»; другими словами: получат ли все рабочие к завтраку только черный хлеб, и будет ли труд профессора оплачиваться сверх того еще булкой? Я не слишком высокого мнения о своем личном достоинстве, но на этот раз мне кажется прямо-таки недостойным для социал-демократического философа входить в ближайшее рассмотрение подобных вопросов.
Бидерман говорит о «всех участниках в продукте труда». Но здесь речь идет о том, чтобы признать весь трудящийся народ за единственного участника, а его продукт за единственный продукт труда. Только тогда можно себе ясно и легко представить справедливое распределение; представление же об отдельных группах рабочих с различными правами на свои отдельные продукты только запутывает вопрос и способствует тому, что начинают ловить рыбу в мутной воде. Нехорошо, говорит библия, быть человеку едину. Нехорошо также, чтобы он работал один. Пусть частный человек или какое-нибудь маленькое товарищество присоединяются к какому-нибудь объединению. Рассматриваемое с точки зрения целого, будущее народное хозяйство совершенно ясно, а практические результаты с течением времени и с помощью индуктивного исследования придут сами собой, как логическое следствие из общего принципа.
А принудительный труд? Ведь «ограничение личной свободы несовместимо с представлением об идеальном государстве». Да, конечно, если бы мы извлекали из нашей головы понятия о свободе и идеале таким же фантастически спекулятивным путем, как немецкие профессора, тогда, разумеется, их плохо можно было бы согласовать между собой. Мы ищем «свободу» не в метафизике и не в освобождении души от оков плоти, а в широком удовлетворении наших материальных и духовных потребностей, которые, однако, все вместе взятые — телесны. Принудительный труд — закон природы, и только до тех пор он есть ограничение нашей личной свободы, пока налицо имеется хозяин, своекорыстно забирающий плоды нашего труда. Или, быть может, хорошо оплачиваемый чиновник смотрит на свою обязательную службу, как на «ограничение личной свободы»?
Правда, непосредственное удовлетворение обществом всех разумных потребностей, т. е. социал-демократическое преобразование хозяйства, — колоссальная проблема. Подобная задача по плечу не единичной личности, а только живой истории. Желание разрешить ее при помощи одного какого-либо гениального ума за зеленым столом — детская затея. Мы же как настоящие люди будем поступать практически; в первую очередь будем организовывать рабочих, научим их понять свои интересы, научим их разбивать своих могущественных и многочисленных противников, сперва при помощи символов и логических аргументов, а затем уж, если они будут слишком упорствовать или противиться всякой морали, всякому истинному порядку и разуму, — то и железным кулаком.
Но мы не думаем, чтобы дошло до этого. С каждым днем наши ряды растут, увеличиваются наши силы и уважение к нам. А лишь только развращенные господствующие классы, издавна изощрявшиеся в низкопоклонстве, заметят это, они придут и будут ухаживать за социал-демократией. Эти люди на самом деле вовсе не такие уже варвары, какими они представляются.
Я должен, наконец, извиниться пред читателем, что на этот раз Бидерман занимает нас больше, чем философия; однако у Бидермана с философией есть нечто общее: оба постоянно забывают, что спрашивать и исследовать надо не наугад, а ясно, точно и вполне определенно.
IV
По предыдущим статьям мы получили представление о философии, как потомке религии, ставшем, подобно ей, мечтателем, хотя и не столь претенциозным. «Разгадать загадку жизни» — вот в чем заключается совместная задача этих двух ветрогонов.
Эта задача у философов носит разные громкие наименования. Мы уже познакомились с господином Кирхманом, который величает ее «наукой о высших понятиях бытия и знания». Маститый Иммануил Кант считает задачей философии разрешение вопроса о «боге, свободе и бессмертии». В самое последнее время философ Дюринг определяет ее, как «развитие высшей формы сознания о мире и жизни» («Курс философии» д-ра Дюринга, Лейпциг 1875 г., стр. 2). «Высшей формой сознания» является научное знание, а о «развитии» его заботится исследование. Сообразно с этим философия есть то же самое, что научное исследование мира и жизни.
Но если посмотреть на это дело так просто, то университетская философия теряет весь свой ореол; более того, она становится совершенно лишней, так как с подобным научным исследованием великолепно справляются «специальные науки». Дюринг, должно быть, предчувствовал всю суетность философского ремесла, так как он жалует ему еще «практическое применение». По его мнению, философия должна не только научно понять мир и жизнь, но и подтвердить это понимание всеми своими помыслами, миросозерцанием и своим отношением к устройству жизни. А этот путь ведет к социал-демократии. А раз философ настолько подвинулся вперед, он скоро дойдет до полного понимания и решительно отбросит философию. Правда, человек вообще не может обойтись без известного миросозерцания и жизнепонимания; но без философии, как особенного вида его, обойтись очень легко. Ее миропонимание есть нечто среднее между религиозным и строго научным миропониманием. Религиозная легенда о сотворении мира кажется философии слишком ребяческой, а беспредпосылочные философские скачки для точной науки слишком фантастичны.
Мы напоминаем еще раз: метод есть характерный отличительный признак для религии, философии и науки. Все они ищут мудрости. Религиозный метод откровения ищет ее на горе Синае, за облаками или среди призраков. Философия обращается к человеческому духу; но, до тех пор пока последний окутан религиозным туманом, он сам себя не понимает, спрашивает и поступает превратно, беспредпосылочно, спекулятивно или наудачу. Метод точной науки, наконец, оперирует на основании материала чувственного мира явлений. И как только мы признаем этот метод за единственный рациональный образ действий интеллекта, всякое фантазерство теряет под собой почву.
Если эти рассуждения попадутся на глаза какому-нибудь заправскому философу, он язвительно улыбнется и если удостоит нас возражения, то попытается доказать, что специальные науки — это некритические материалисты, принимающие без всякой проверки чувственный, эмпирический мир опыта за истину. Беспредпосылочность своего метода он постарается оправдать указанием на многочисленные курьезы и обманы чувств, которые так часто вводят нас в заблуждение. И поэтому он спрашивает: что такое истина и как мы доходим до истины?
И он будет совершенно прав: истина есть вопрос, и специально для социал-демократии очень интересный вопрос. В области нечеловеческой природы, в области более узкого естествознания методы духовидцев практически устранены рациональным методом. Но в народной жизни, где дело идет о хозяевах и слугах, о труде и доходах, о праве и обязанности, законе, обычае и порядке, — попу и профессору-философу широко предоставлено слово, и каждый из них имеет свой особый метод, чтобы маскировать истину. Религия и философия, бывшие раньше невинными заблуждениями, становятся теперь, когда господа положения заинтересованы в реакции, утонченными средствами для политического надувательства.
Урок, данный нам в предыдущей статье профессором Бидерманом, научил нас, что не следует вопрошать неопределенную всеобщность даже об истине. Тут философия идет вразрез с здравым человеческим рассудком. Она не ищет, подобно всем специальным наукам, определенных эмпирических истин, а, подобно религии, домогается совершенно особого вида истины: абсолютной, заоблачной, беспредпосылочной, сверхъестественной. Но что для мира истинно, — то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, наши телесные ощущения, — для нее недостаточно истинно. Явления природы для нее только явления или «видимость», о которых она знать ничего не хочет. Но она не может сознаться в том, что она вообще ничего не хочет знать о природе, так как целое уже столетие естествознание пользуется авторитетом, которого оспаривать невозможно. Истин же того сорта, каких ищет философия, в природе не найти. Философская истина, которой, к сожалению, вообще нигде найти нельзя, принадлежит якобы к совершенно особенному роду и имеет, очевидно, свой специфический запах.
Философ, одержимый религиозными предрассудками, хочет перешагнуть через явления природы, он за этим миром явлений ищет еще какой-то другой мир истины, при помощи которого должен быть объяснен первый; вот почему он усвоил себе беспредпосылочный метод, создающий мысли без наличности определенного материала, другими словами, глупо вопрошающий неопределенную бесконечность.
Крупица отыскиваемой сверхъестественной истины была якобы открыта Декартом; по крайней мере, с тех пор философия живет этими крохами. Ходячая в то время поповская истина — пассивная вера — не удовлетворяла уже этого философа. Он начал свое исследование с сомнения и довел его до того, что стал сомневаться во всем, что доступно зрению и слуху. При этом он заметил, что у него все же остается одна уверенность, а именно — телесное ощущение своего собственного сомнения: Cogito, ergo sum (я мыслю, следовательно, я существую). С тех пор его последователи не могли отделаться ни от сверхъестественного сомнения, ни от поисков сверхъестественной истины.
Мы далеки от того, чтобы отрицать историческое значение и гениальность знаменитого скептика. Он прав: телесное ощущение существования, мое сознание, мышление, чувствование и т. п., или «моя душа», как выражается поп, выше всякого сомнения. Однако следует заметить, что я приписал Декарту гораздо больше того, что он сделал на самом деле. Дело обстоит следующим образом: у нашего философа оказались две души — одна обычная, религиозная, а другая — научная. Его философия представляла смешанный продукт той и другой. Религия заставила его поверить, что чувственный мир — ничто, в то время как противоположный научный склад его мыслей старался доказать обратное. Он начал с тленности, с сомнения в чувственной истине, а телесным ощущением существования доказал противное. Однако течение научной мысли не могло еще тогда проявиться так последовательно. Только беспристрастный мыслитель, повторяя декартовский опыт, находит, что если в голове копошатся и мысли и сомнения, то это телесное ощущение убеждает нас в существовании мыслительного процесса. Наш же философ перевернул вопрос, он хотел доказать бестелесное существование абстрактной мысли, он полагал, что можно научно доказать запредельную истину религиозной и философской души, в то время как он в действительности только констатировал самую обыкновенную истину телесных ощущений. Из опущения обыденного существования Декарт хотел выводишь высшее существование. Его неудача есть общая неудача всей философии — она идеалистична или абсурдна,
Я здесь знакомлю читателей «Volksstaat» с темой, которая им в общем, пожалуй, покажется слишком деликатной. Но мы желаем вербовать последователей также и среди ученых. И поэтому нелишне показать, что мы хорошо знакомы с «последними основами» всех вещей, что дело наше прочно в самом своем корне. Мы и философским хвастунам желаем отрезать путь. Идеалисты! Разумный рабочий, узнав поближе этих господ, еле поймет, как могут существовать подобные чудаки. Идеалисты в хорошем смысле этого слова все честные люди. И тем более социал-демократы. Наша цель — великий идеал. Идеалисты же в философском смысле — невменяемы. Они утверждают, будто бы все, что мы видим, слышим, осязаем и т, д., будто весь мир явлений вокруг нас вовсе не существует, что все это осколки мыслей. Они утверждают, что наш интеллект есть единственная истина, что все прочее — одни лишь «представления», фантасмагории, туманные сновидения, явления в дурном смысле этого слова. Все, что мы воспринимаем из внешнего мира, по их мнению, не суть объективные истины, действительные вещи, а лишь субъективная игра нашего интеллекта. И когда здравый человеческий рассудок все-таки возмущается против подобных утверждений, они очень резонно указывают ему, что, хотя он ежедневно видит собственными глазами, как солнце восходит на востоке и заходит на западе, тем не менее наука должна вразумить его настолько, чтобы он научился узнавать эту истину при помощи своих несовершенных чувств.
И слепая курица, как говорит пословица, по зернышку клюет. Такая слепая курица — философский идеализм. И он подхватил зернышко, а именно мысль, что то, что мы в мире видим, слышим или осязаем, не чистые предметы, или объекты. Естественнонаучная физиология чувств в свою очередь с каждым днем ближе подходит к факту, что пестрые объекты, которые видит наш глаз, лишь пестрые зрительные ощущения, что все грубое, тонкое, тяжелое, что мы ощущаем, — только чувственные ощущения тяжести, тонкости или грубости. Между нашими субъективными чувствами и объективными предметами нет никакой абсолютной границы. Мир есть мир наших чувств. Без глаз в нем нечего было бы видеть, а без носа нечего было бы обонять. «Без ушей нельзя слышать звуков, без кожи нельзя ощущать тепла и холода», — сказал недавно профессор В. Прейер в Иене в своей статье «Границы чувственного восприятия».
Вещи в мире существуют не «в себе», а получают все свои свойства через взаимную связь. Так, например, в связи с солнечным светом и нашими глазами леса зеленые. При другом свете и других глазах они, может быть, были бы голубыми или красными. Только в связи с определенной температурой вода — жидкость, в холоде она становится плотной и твердой, при жаре — превращается в пар, обыкновенно она течет сверху вниз, но, встречая на своем пути голову сахару, подымается и вверх. Она «в себе» не имеет никаких свойств, никакого существования, но получает их только в связи с другими предметами. И то, что происходит с водой, происходит со всеми другими вещами. Все есть только свойство или предикат природы; она окружает нас не в своей запредельной объективности или истинности, а везде и всюду своими мимолетными, разнообразными явлениями.
Вопросы о том, как выглядел бы мир без глаз, без солнца или без пространства, без температуры, интеллекта или без ощущений, — нелепые вопросы, и только глупцы могут о них раздумывать. Правда, в жизни и в науке мы можем без конца разграничивать и без конца классифицировать, но при этом мы не должны забывать, что все составляет одно единство и связано между собой. Мир чувственен, и наши чувства, наш интеллект– все это земного происхождения. Это еще не есть «граница» человека, но кто хочет перешагнуть ее, доходит до абсурда. Если мы докажем, что бессмертная душа попа или несомненный интеллект философа одной и той же, самой обыденной, природы, как и все другие явления мира, то мы этим самым докажем, что «другие» явления столь же истинны и непреложны, как и несомненный декартовский интеллект. Мы не только верим, думаем, предполагаем или сомневаемся в том, что наши ощущения существуют, но мы их действительно и истинно ощущаем. И наоборот: вся истина и действительность покоятся лишь на чувстве, на телесном ощущении. Душа и тело, или субъект и объект, как нередко теперь повторяют старую фразу, одного и того же земного, чувственного, эмпирического калибра.
«Жизнь — это сон», — говорили древние; теперь философы сообщают нам новость: «Мир — это наше представление». Разумеется, он не есть абсолютная, т. е. сверхъестественная истина. Достаточно, если мы умеем отличить великий, ежедневный, общий истинный сон от маленьких ночных сновидений; этим мы окончательно отделываемся от идеализма и вместе с тем от самой наболевшей части философии.
Основывать истину не «на слове божием» и не на традиционных принципах, а, наоборот, строить свои принципы на телесном ощущении — вот в чем соль социал-демократической философии.
V
Господь бог создал тело человека из комка глины и вдунул в него бессмертную душу. С тех самых пор существует дуализм, или теория двух миров. Один — телесный, материальный мир, есть мусор, другой — духовный, или умственный мир духов, есть дуновение господне. Эту сказочку философы увековечили, т. е. они приспособили ее к духу времени. Все доступное зрению, слуху и ощущению, словом — телесная действительность все еще считается грязной глиной; зато с мыслящим духом связывается представление о царстве какой-то сверхъестественной истины, свободы, красоты. Как в библии, так и в философии слово «мир» имеет скверный привкус. Из всех явлений или объектов природы философия удостаивает своим вниманием только один — разум, дух, знакомое нам дуновение господне, и то только потому, что ее безрассудству он представляется чем-то высшим, сверхъестественным, метафизическим. Исследователь может ограничиться одним лишь предметом, но он не должен возносить свой объект до небес, он не должен вырывать его из общей связи и относиться к нему с преувеличенным почтением. Философ, трезво считающий человеческий дух наряду с другими предметами целью познания, перестает быть философом, т. е. одним из тех, кто, изучая загадку существования вообще, удаляется в туманную бесконечность. Он становится специалистом, а «специальная наука» о теории познания — его специальностью.
Ввиду того что все специальные объекты мира казались философии слишком грязными и материальными, ей оставалось лишь заняться туманной метафизикой и удалиться в заоблачные абстракции. Но наряду с религиозной душой философы, как известно, обладали еще и точным рассудком с тенденцией к науке, который склонял их к положительной деятельности, и поэтому им необходимо было остановиться на определенном объекте, на жизненной специальности. Благодаря естественному ходу событий философия становилась тем, чем она вовсе не рассчитывала быть. Разумное стремление к успеху, в связи с традиционным преклонением пред дуновением господним заставило ее, естественно, выбрать предметом исследования эмпирически существующий интеллект.
Что обыкновенный интеллект есть их истинный дух, философы даже не подозревают: им должны разъяснить это социал- демократы. Наши философы, обыкновенно университетские профессоры, заинтересованы в том, чтобы сохранить за своим профессорским рассудком характер дуновения господнего. Из этого рабочие могут заключать, насколько они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы считать этот же самый инструмент совершенно обыденным объектом. За вопросом о том, находится ли в нашей голове какой-то благородный идеалистический дух или же обыкновенный, точный человеческий рассудок, скрывается практический вопрос о том, принадлежат ли власть и право привилегированной знати или простому народу.
Борьба добра со злом является вечным содержанием мировой истории. Иногда эта борьба принимает острый характер, как, например, в настоящее время, когда производительный рабочий класс борется против паразитических поработителей. Во все стороны летят щепки. Все и вся втягивается в эту борьбу; даже язык претерпевает радикальную ломку. Высшие понятия: истина, свобода, образование теряют былой почет. Слова «философия» и «рассадники науки», ввиду присущей им двусмысленности, приходится ставить в кавычки. Профессора становятся предводителями в лагере зла. На правом фланге командует Трейчке, в центре — фон Зибель, а на левом — Юрген-Бона Мейер — доктор и профессор философии в Бонне. Последний недавно в берлинской газете «Gegenwart» вступил в словесный бой «с неверием нашего времени» — религией социал-демократии. Он зовет себе на помощь самую надежную часть своей «науки» — философский идеализм, но здесь он попадается нам, очень кстати, в плен, и мы на отвоеванном у него материале можем иллюстрировать свою тему перед учениками демократической философии.
В предыдущей статье мы говорили уже о декартовском фокусе, который проделывается профессорами высшей магии, или философии, почти ежедневно перед своей публикой, чтобы окончательно сбить ее с толку. Дуновение господне демонстрируется как истина. Правда, название это пользуется дурной репутацией: перед просвещенными либералами нельзя говорить о бессмертной душе. Поэтому они притворяются материалистически трезвыми, говорят о сознании, мыслительной способности или способности воображения. Но ни один образованный человек не должен подумать, что это нечто совершенно обыкновенное, а не нечто сверхъестественное; думать так могут только социал-демократические смутьяны. Для Юрген-Бона Мейера и его присных, для докторов философии, напротив, сверхъестественный характер человеческого духа есть бесспорная догма.
Мы ощущаем внутри нас телесное существование мыслящего разума и точно так же, теми же чувствами — вне нас комья глины, деревья, кусты. И то, что мы ощущаем внутри нас, и то, что вне нас, не особенно сильно разнится одно от другого. И то и другое относится к разряду чувственных явлений, к эмпирическому материалу, и то и другое есть дело чувств. Как при этом отличить субъективные чувства от объективных, внутреннее от внешнего, сто действительных талеров от ста воображаемых, — об этом мы поговорим при случае. Здесь же следует усвоить, что и внутренняя мысль и внутренняя боль одинаково имеют свое объективное существование и что, с другой стороны, внешний мир в субъективном отношении тесно связан с нашими органами. Таинственное отношение между субъектом и объектом, духом и природой, между мышлением и бытием, будет для нас яснее ясного, если только поймем, что противоречия лишь относительны, что разница между ними лишь количественная, но не качественная.
Демократическое равенство природы, души и тела никак не умещается в голове «философов». Мейер со своей «беспредпосылочной» наукой предполагает, что дуновение господне, бессмертная душа или философский интеллект есть высшая, непосредственная истина. И пока он придерживается этого взгляда, легко доказать, что весь «внешний мир» — тлен и покоится не на науке, а на вере.
Предоставим слово самому Юргену: «И принципиально неверующий все снова и снова будет приходить к философски доказанной истине, что все наше знание в конце концов все же покоится на какой-нибудь вере. Самое существование чувственного мира даже материалист принимает на веру. Непосредственного знания о чувственном мире он не имеет; непосредственно он знает только то представление о нем, которое имеется у него в духе. Он верит, что этому его представлению соответствует представляемое нечто, что представляемый мир именно таков, каким он себе его представляет, он верит, следовательно, в чувственный внешний мир на основании доводов своего духа. Его вера в чувственный мир есть прежде всего вера в собственный дух. А почему он верит, что представляемый внешний мир именно таков, каким его себе представляет или каким должен его представлять человеческий дух? Потому что ему казалось бы бесцельнейшим недоразумением признание, будто человеческий дух, обладающий стремлением и способностью представить себе внешний мир, неизбежно ошибается в применении этой способности... Таким образом, вера в чувства в последнем счете есть лишь духовная вера в определенную цель. Основанное на вере предположение о целесообразности мира составляет, таким образом, последнее основание и материалистического миросозерцания».
Пред нами старый декартовский фокус в новом, ухудшенном издании: «Непосредственно достоверно одно лишь представление». Но и эта уверенность не есть уверенность, так как Мейер говорит еще о «вере в собственный дух». Его вера «доказана философски», тем не менее он знает лишь, что он ничего не знает и что все есть вера. Он скромен в знании и науке, но совершенно нескромен в вере и религии. Вера и наука постоянно перепутываются у него — обе, очевидно, не имеют для него серьезного значения.
Итак, «философски» доказано, что «всему нашему знанию настал конец». Чтобы благосклонный читатель мог понять это, мы позволим себе сообщить, что цех философов недавно устроил общее собрание и торжественно постановил изъять из обращения слово наука, а на ее место поставить веру. Всякое знание называется теперь верой. Знания больше не существует. Правда, Юрген говорит еще о «непосредственной уверенности» и о «философски доказанной истине», но это, очевидно, только невольный возврат к старой, дурной привычке. Или, быть может, он употребляет слова на манер теологов, которые считают святую деву, не потерявшую своей девственности, и говорящую валаамову ослицу также «доказанной истиной» и «непосредственной уверенностью»? Однако господин профессор сам себя исправляет и говорит выразительно так: вера в чувственный мир есть вера в собственный дух. Итак, все, и дух и природа, опять покоится на вере. Он неправ только в том, что желает подчинить также и нас, материалистов, решению своего цеха. Для нас это решение не имеет никакой обязательной силы. Мы остаемся при старой терминологии, сохраняем за собой знание и предоставляем веру попам и докторам философии.
Разумеется, и «все наше знание» покоится на субъективности. Очень может быть, что вот та стена, о которую мы могли бы разбить себе голову и которую мы поэтому считаем непроницаемой; может быть, говорю я, гномами, ангелами, дьяволами и прочими призраками она беспрепятственно преодолевается, быть может, вся эта глиняная масса даже чувственного мира вовсе даже не существует для них — что нам до этого? Какое нам дело до мира, которого мы не чувствуем, не ощущаем?
Быть может, то, что люди называют туманом и ветром, в сущности, чисто объективно или «само по себе» суть небесные флейты и контрабасы? Но нам из-за этого нет никакого дела до подобной нелепой объективности. Социал-демократические, материалисты имеют дело и рассуждают только о том, что человек воспринимает при посредстве опыта. К этому относится также его собственный дух, его мыслительная способность или сила воображения. Доступное опыту мы считаем истиной, и только это для нас есть объект науки. Если же профессор Юрген-Бона и идеалисты пожелают ввести обратную терминологию, называть науку верой, а поповское учение — наукой, то всем станет ясно, что университетская философия превратилась из ханжи в низко-поклонную «служанку господню».
С тех гор как Кант сделал критику разума своей специальностью, установлено, что одних наших пяти чувств еще недостаточно для опыта, что для этого требуется еще участие интеллекта. Далее, критика разума показала, что пресловутое дуновение господне может впредь функционировать только в пределах материального, т. е. опытного мира, что разум без наших пяти чувств не имеет ни смысла., ни рассудка, что он, следовательно, такая же обыкновенная вещь, как и другие вещи.
Однако великому философу оказалось не под силу совершенно забыть сказочку о глине, вполне освободить дух из-под власти духовного тумана, освободить науку целиком от религии. Низменный взгляд на материю, «вещь в себе», или сверхъестественная истина, держала всех философов в большей или меньшей степени в плену идеалистического обмана, который исключительно поддерживается верой в метафизический характер человеческого духа.
Этой маленькой слабостью наших великих критиков пользуются прусские правительственные философы, чтобы изготовить новое религиозное чудовище, правда, крайне жалкое. «Идеалистическая вера в бога, — говорит Юрген-Бона Мейер в другом месте, — разумеется, не есть знание и никогда не станет таковым; но не менее ясно, что материалистическое неверие в свою очередь не есть знание, а лишь материалистическая вера, также неспособная когда-либо превратиться в знание». Метафизическая потребность нашего философа была бы удовлетворена, если бы социал-демократы только готовы были сознаться, что они во всем этом столь же мало понимают, что они находятся в таком же недоумении относительно основных принципов, как и сам Юрген-Бона. Он способен еще примириться с атеистическим неверием; но социал-демократического самосознания, не терпящего никакой веры, даже ничтожной, жалкой веры прусских правительственных философов, он переносить не может. «Всякая религиозная вера, — так говорит Юрген-Бона, — вначале слишком доверчива, верит во что-то ложное и поэтому постоянно нуждается в отрезывании ложного нароста... Прогресс веры в том и состоит, что при помощи нарастающего знания она все более и более освобождается от суеверия». Однако он забывает сообщить нам то истинное философское чудо, которое все же остается после «постоянного отрезывания». Он только ругается: «Популярные апологеты материалистического и атеистического неверия за немногими исключениями не руководители науки, а совращенные бахвалы знания». Но, любезный Юрген, мы даже не претендуем на руководство всеобщей наукой, мы охотно довольствуемся тем, что в специальной науке теории познания настолько уже усовершенствовались, что нам совершенно не нужна «потребность веры» профессорствующих попов.
VI
Процитированная в предыдущей, пятой, главе философия Юргена-Бона Мейера есть последняя песенка, в которой поется о религии. И не он один напевает этот мотив. В современной печати он может найти себе поддержку в целом оркестре подобных музыкантов. Все в унисон повторяют напев: «Назад к Канту». Ввиду этого интересующий нас вопрос приобретает значение, далеко выходящее за пределы маленькой личности генерала Юргена. Не потому хотят вернуться к Канту, что этот великий мыслитель нанес сильный удар сказке о бессмертной душе, заключенной в грязную глину, — это он действительно сделал; а потому, что его система, с другой стороны, оставила щель, через которую можно снова провести контрабандой немножко метафизики.
Идолопоклонство, религия и философия — три мало различных вида одной и той же вещи, которая зовется метафизикой, или свихнувшейся истиной. Да простят нам употребление последнего своеобразного выражения ввиду того, что более резкая характеристика требует и более резкой терминологии. Свихнувшаяся истина играла большую роль во всемирной истории. Идолопоклонство, религия и философия с течением времени развились одно из другого, и теперь, в эпоху социал-демократии, мы дошли, наконец, до той точки, когда философия, этот «последний могикан» метафизики, должна превратиться в разумную физику.
Совершенно ясно, что всякая превратная мудрость покоится на превратном пользовании нашим интеллектом. И никто так сознательно и так успешно не старался изучить этот последний, создать науку теории познания, как столь почитаемый всеми Иммануил Кант. Но между ним и его нынешними прихвостнями — существенная разница. В великой исторической борьбе он стоял на стороне правого дела против зла; он пользовался своим гением для революционного развития науки, в то время как наши правительственные прусские философы со своей «наукой» поступили на службу к реакционной политике.
До тех пор пока философов заставляли глотать яд, подобно Сократу, пока их сжигали, как Джордано Бруно, пока их пруссаки изгоняли под «угрозой виселицы», как Вольфа, или ставили под надзор полиции, как Канта и Фихте, философия была честным стремлением выбиться из экстравагантной метафизики и дойти до здравого человеческого рассудка. Но теперь, когда философы до последнего издыхания единодушно призывают к отступлению, демократы должны, наконец, знать, с какой «наукой», с какими «либеральными» молодцами они имеют дело.
Тот толчок, которым Кант удалил метафизику из храма, оставляя для нее открытым черный ход, ясно обозначен одной фразой в его предисловии или вступлении к «Критике чистого разума». Так как у меня сейчас нет под рукой текста, я цитирую на память. Эта фраза гласит: наше познание ограничивается явлениями вещей. Что они суть в себе, мы не можем знать. Тем не менее, вещи должны быть чем-нибудь «в себе», так как иначе, — говорится далее дословно, — получилось бы несообразное противоречие, что существует явление без чего-нибудь такого, что является.
Здесь великий мыслитель аргументировал, повидимому, вполне логично, но на самом деле совершенно ошибочно. Его ложным выводом объясняется то обстоятельство, что современная философия и поныне не отделалась окончательно от метафизики.
Спора нет: где имеются явления, имеется также и нечто такое, что является. Но что, если это нечто само есть явление, если явления сами являются? Ведь не было бы ничего нелогичного или безрассудного в том, если бы всюду в природе субъекты и предикаты были одного и того же рода. Почему же то, что является, должно непременно быть совершенно другого качества, чем само явление? Почему же вещи «для нас» и вещи «в себе», или явление и истина, не могут быть из одного и того же эмпирического материала, одного и того же свойства?
Ответ: потому что предрассудок о метафизическом мире, потому что вера в окончательно изобличенную нечисть и в неестественную, из ряда вон выходящую, истину, в ней обязательно заключенную, завладели, и великим Кантом. Положение: где есть явления, которые мы можем видеть, слышать, осязать, должно быть скрыто также и нечто другое, так называемое истинное или возвышенное, чего нельзя ни видеть, ни слышать, ни осязать, — это положение нелогично, вопреки Канту.
Схоластические пререкания о боге, свободе, бессмертии были противны нашему мыслителю. Поэтому он, исследуя интеллект, спрашивал: возможно ли вообще сверхъестественное, или метафизика, как наука? Нет, — гласил ответ его удивительно ясного, основательного исследования, — нет, наш познавательный или формирующий понятия аппарат тесно связан с опытом, и в такой же степени опыт — с аппаратом. Другими словами, это значит, что только с помощью чувственного материала голова может созидать науку и что наука не может и не должна заниматься «другим миром». Интеллект должен оперировать только в сознательной связи с материалистическим опытом, и все вопрошания в туманную неопределенность безуспешны и бессмысленны.
Но, по словам Гейне, профессор из Кенигсберга имел слугу, простого человека из народа по имени Лампе, для которого, как утверждают, воздушные замки являлись душевной потребностью. Над ним-то сжалился философ и умозаключал следующим образом: так как мир опыта тесно связан с интеллектом, то он и дает только интеллектуальные опыты, т. е. явления, или осколки мыслей. Опытные материальные вещи не настоящие истины, а лишь явления в дурном смысле слова, призраки или нечто подобное. Действительные же вещи, вещи «в себе», метафизическая истина, не познаются на опыте, в них нужно верить, согласно известному аргументу: где есть явление, должно быть и нечто такое (метафизическое), что является.
Итак, была спасена вера, было спасено сверхъестественное, и это пришлось очень кстати не только слуге Лампе, но и немецким профессорам в «культурной» борьбе за «народное образование», против ненавистных, радикальных безбожников — социал-демократов. Тут-то Иммануил Кант оказался нужным человеком, он помог им найти желанную, если и не научную, зато очень практичную среднюю точку зрения.
Теперь богословы больше не смеют рассказывать о том, какой вид имеет старик господь-саваоф и как выглядит небо; на сколько хоров подразделены ангелы и на сколько полков дьяволы; называются ли их военачальники Гавриилом, Михаилом или Люцифером, — так как кантовская философия раз навсегда доказала, что об этом ничего нельзя знать, что в данном вопросе поп должен молчать.
И если появляются социал-демократы, ликуя, что, наконец, прекратится суеверие, что можно будет отрешиться от бессмысленной надежды и настанет земное блаженство, то мужика снова побивают кантовской философией, доказывающей, что если мы и не можем видеть, слышать или постигать метафизическую истину, скрывающуюся за явлениями природы, то мы все же должны в нее верить.— Итак, вера должна существовать, если не вера в Рим и святую библию, то вера в Юрген-Бона Мейера и профессорствующих попов.
Социал-демократы твердо убеждены, что клерикальные иезуиты гораздо менее вредны, чем «либеральные». Из всех партий партия середины самая гнусная. Она пользуется образованием и демократией, как поддельной этикеткой, чтобы подсунуть народу свой фальсифицированный товар и дискредитировать настоящий продукт. Правда, эти люди оправдываются тем, что они поступают по совести и лучшему своему разумению; мы охотно верим, что они мало знают; но эти мерзавцы не хотят ничего знать, не хотят ничему научиться. Суеверие сидит у них не столько в голове, сколько в носу; они нюхом угадывают беду, предчувствуют опасность, которую свободный дух несет всей этой компании. И нечего удивляться, что страх делает их нервными, негодными для беспристрастного исследования.
При подобных обстоятельствах было бы тактической ошибкой, если бы мы обращались с ними, как с равными, и старались бы любезным отношением вывести их на истинный путь. Они, на самом деле вовсе не невинно заблудившиеся, — это злые враги. Со времен Канта прошло почти столетие; за это время жили Гегель и Фейербах; восторжествовало злосчастное буржуазное хозяйство, обирающее народ и выбрасывающее его без работы и жалованья на мостовую, когда с него больше нечего взять. У этого народа широко раскрываются глаза, исчезает всякая склонность к идеализму, и таким-то образом для воспитания народа нам не нужны ни тонкая педагогика, ни Моисей, ни пророки. Наши воспитанники, современные наемные рабочие, достаточно развиты, чтобы понять, наконец, социал-демократическую философию, умеющую отделить явления природы, как материал теоретической, или научной, опытной, эмпирической, материалистической или, если угодно, также субъективной истины, с одной стороны, от претенциозной или запредельной метафизики — с другой.
Подобно тому как в политике партии все более и более группируются в два лагеря: на одной стороне работодатели, а на другой — работополучатели в соответствии с экономическим развитием, направленным на вытеснение средних классов и на создание собственников и неимущих, точно так же представители науки делятся на две главные группы: на метафизиков и физиков, или материалистов. Разные шарлатаны, занимающие промежуточное место и являющиеся посредниками, — спиритуалисты, сенсуалисты, реалисты и др. — попадают попутно в это течение. Мы идем навстречу определенности и ясности. Отступающие реакционеры называют себя идеалистами, а материалистами должны называть себя все те, кто стремится освободить человеческий интеллект от чар метафизики. Чтобы названия и определения не сбили нас с толку, мы должны твердо помнить, что общая запутанность в данном вопросе до сих пор не дала установиться точной терминологии.
Если мы сравним обе партии с твердым и жидким, то посередине получится нечто кашеобразное. Подобная неясная неопределенность есть одно из главных свойств всех вещей мира. Только рассудок или наука разъясняет и различает их, точно так же как она различает теплоту и холод: она создала себе термометр и согласилась считать точку замерзания той точной границей, где температурное многообразие делится на два различных класса. Интересы социал-демократии требуют от нее, чтобы она проделала ту же процедуру с мировой мудростью, чтобы она разделила все мысли на два разряда — на нуждающееся в вере идеалистическое фантазерство и на трезвую материалистическую, мыслительную работу.
VII
Помещенные раньше в «Volksstaait» статьи были прерваны. Я не хочу говорить о причине, вызвавшей это, а хочу лишь сказать, что снова продолжаю здесь свою тему или, вернее, что вновь ее начинаю.
Продолжение старого есть, с точки зрения диалектики, одновременно и новое начало, особенно в данном случае, так как социал-демократическое миросозерцание есть законченная система, которая в форме перевернутой пирамиды движется, подобно волчку, на острие. И подобно тому как волчок танцует лишь благодаря тесной своей связи с широкой задней частью, плоской поверхностью и шнурком, приводящим его в движение, так и систематическое острие новой мировой мудрости непонятно «само по себе», а только в тесной связи с многочисленными вопросами, волнующими мир. Поэтому эта тема — «покоящийся полюс в постоянно сменяющихся явлениях» — нуждается для своего изложения в вариациях, в новом начале для старого продолжения.
Хотя мы, социал-демократы, лишенные религии атеисты, тем не менее у нас есть вера, т. е. пропасть между нами и религиозными людьми глубока и широка, но, как и через всякую пропасть, через нее может быть перекинут мост. Я намерен повести своих демократических товарищей на этот мост и отсюда показать им разницу между пустыней, в которой блуждают верующие, и обетованной землей света и истины.
Самая возвышенная заповедь христианина гласит: «Возлюби бога превыше всего и своего ближнего, как самого себя». Итак, бог превыше всего, но что такое бог? Он начало и конец, творец неба и земли. Мы не верим в его существование и тем не менее находим разумный смысл в заповеди, повелевающей любить его выше всего.
Кто с вниманием присматривается к предвечному, вездесущему, высокочтимому, не может не признать, что на самом деле и в действительности он представляет собой лишь фантастическое олицетворение вселенной. В наши дни едва ли найдется смертный, который стал бы утверждать, что он собственными глазами видел всемогущего и лично с ним беседовал. Но и неверующие в бога должны признать, что одухотворенный человек, невзирая на рассудок и разум, невзирая на всю свою науку, только подчиненное существо, зависящее от солнца, ветра, земли, огня и воды. Мы должны понять, что, хотя дух и призван господствовать над материей, это господство неизбежно должно оставаться крайне ограниченным.
С помощью нашего интеллекта мы можем господствовать над материальным миром лишь формально. В частностях мы, пожалуй, можем по нашему усмотрению направлять его изменения и движения, но вообще сущность вещи — материя en general[27] — выше человеческого ума. Науке удается превратить механическую силу в теплоту, электричество, свет, химическую силу и т. п., ей может, пожалуй, удаться превратить силу в материю и материю в силу и изобразить их как различные формы одной и той же сущности; но все же она в состоянии изменить только форму, сущность же остается вечной, неизменной, неразрушимой. Интеллект может выследить пути физических изменений, но это все же лишь материальные пути, по которым гордый дух может лишь следовать, но которых он не в силах предписать. Здравый человеческий рассудок должен постоянно помнить, что он вместе «с бессмертной душой» и гордым своим познанием разумом есть лишь подчиненная часть мира, хотя наши современные «философы» все еще возятся с фокусом, как превратить реальный мир в «представление» человека. Религиозная заповедь: возлюби господа превыше всего, гласит в устах хорошего социал-демократа: люби и чти материальный мир, телесную природу или чувственное существование, как первооснову всех вещей, как бытие без начала и конца, которое было, есть и будет во веки веков.
Как уже известно, — и мы на то указывали не раз, — «философы» представляют собой более или менее развитую разновидность теологов или богословов. И те и другие сознательно или бессознательно образуют «одну общую реакционную массу, т. е. они характеризуются тем, что считают мир продуктом интеллекта, тогда как мы считаем интеллект, подобно всем остальным силам — свету, теплу, тяжести, подобно слышимому, зримому, осязаемому, только формой или видом, частью или продуктом общей силы, которая в известном смысле есть вечная, вездесущая, непроходящая материя. Наша речь до сих пор еще оперирует довольно произвольно понятиями материи и силы. Осязаемая материя, как дерево, камень, глина и т. п., — весомые силы, в то время как недоступное осязанию, например свет, звук, теплота и т. п., — невесомая материя. Мир звуков — материя музыканта. И если кого-нибудь смущает это обобщение слова «материя», то пусть он вместо этого скажет: «явление». Телесным, физическим, чувственным, материальным явлением называется тот общий род, к которому относится всякое существование, весомое и невесомое, тело и дух.
Чтобы окончательно отделаться от «метафизической потребности», необходимо твердо помнить, что все различия, какие мы в состоянии делать, — в сущности только многообразие, видоизменения, атрибуты или формы одного и того же единства. Хотя мы и противопоставляем телесное духовному, тем не менее различие это только относительное: это лишь два вида существования, не более и не менее противоположные, чем собаки и кошки, которые, несмотря на известную всем вражду, все же принадлежат к одному и тому же классу или роду — к роду домашних животных.
Монистического миросозерцания (учения о единстве природы: единстве «духа» и «материи», органического и неорганического и т. д.), к которому так жадно тяготеет наше время, естествознание, в тесном, общепринятом смысле слова, нам дать не может, с какой бы очевидностью оно ни доказало происхождение видов и развитие органического мира из неорганического. Естественные науки приходят ко всем своим открытиям только через посредство интеллекта. Видимая, весомая и осязаемая часть этого органа принадлежит, правда, к области естествознания, но функция его, мышление, составляет уже предмет отдельной науки, которая может быть названа логикой, теорией познания или диалектикой. Последняя сфера науки — понимание или непонимание функций духа — есть, таким образом, общая родина религии, метафизики и антиметафизической ясности. Здесь лежит мост, который ведет от унизительного суеверного рабства к смиренной свободе: и в области гордой своим познанием свободы царит смирение, т. е. подчинение материальной, физической необходимости.
Неизбежная религия, превращающаяся для «философов» в неизбежную метафизику, превращается для здравого научного человеческого рассудка в неотразимую теоретическую потребность монистического миросозерцания. Наличная сила-материя, называемая также миром или существованием, мистифицируется теологами и философами, так как они не понимают, что материя и интеллект — одного происхождения, так как они себе ложно представляют соотношения обоих. Подобно пониманию экономических явлений, и наш материализм также есть научное достижение, завоевание истории. Как мы резко отличаемся от социалистов прошлого, мы отличаемся также от прежних материалистов. С последними у нас только то общее, что, как и они, мы признаем материю за предпосылку и первопричину идеи. Материя для нас субстанция, а дух только акциденция; эмпирическое явление для нас род, а интеллект только вид или форма ее, в то время как все религиозные и философские идеалисты в идее видят первую, причинную, или субстанциальную силу.
То, что мы видим, слышим, ощущаем и т. д., утверждают идеалисты, — явления интеллектуальные, так как всюду, где видят, слышат, ощущают, должен быть при этом интеллект. Правильно, говорят противники, но всюду ведь также присутствует и материя. Где есть интеллект, знание, мышление, сознание, там в свою очередь должен быть и объект, материя, которая познается и которая ведь есть самое главное. В этом именно и заключается старый вопрос, разделяющий идеалистов и материалистов: что «главное» — материя или интеллект? Но и этот вопрос опять-таки не есть вопрос, а лишь фраза, одни лишь слова. Действительное же разногласие между партиями заключается в том, что одна хочет превратить мир в какое-то колдовство, а другая знать ничего об этом не хочет.
Так как все явления природы могут быть восприняты нами лишь через посредство интеллекта, то и все наши восприятия — интеллектуальные явления. Совершенно правильно. Но в числе этих восприятий находится одно специальное восприятие или явление, считающееся «интеллектуальным» по преимуществу, — это последнее есть обыкновенный здравый человеческий рассудок, разум, интеллект, или познавательная способность, тогда как все остальное, т. е. вся масса, называется материей. Следовательно, все сводится к тому, что материя, сила и интеллект, порознь и вместе взятые, одного и того же происхождения. Называть ли явления мира материальными или интеллектуальными — это спор о словах. Вопрос заключается в том, все ли вещи одного и того же происхождения или же мир должен быть разделен на сверхъестественное, таинственное колдовство, с одной стороны, и естественную, смрадную глину — с другой.
Для выяснения этого недостаточно выводить все из весомых атомов, как то делали старые материалисты. Материя не только весома, она также душиста, ярка, звонка, почему бы и не разумна? Если обоняемое, видимое, слышимое духовнее, чем осязаемое, если, таким образом, сравнительная степень естественна, то почему не может быть естественной превосходная степень? Тяжесть нельзя видеть, свет — обонять, разум — осязать, но ощущать можно все, что существует. Дух или наши мысли мы ведь точно так же физически чувствуем, как боль, свет, теплоту или камни. Предрассудок, будто бы объекты чувства осязания понятнее, чем явления слуха или чувства вообще, толкал старых материалистов на их атомистические спекуляции, привел их к тому, что они считали осязаемое за первопричину всех вещей. Понятие материи следует брать шире. К нему относятся все явления действительности, также и наша познавательная способность. Когда же идеалисты называют все явления природы «представлениями» или «интеллектуальными», мы охотно признаем, что это не суть вещи «в себе», а только объекты нашего ощущения. В свою очередь, и идеалист согласится с тем, что среди ощущений, именуемых объективным миром, есть особенная вещь, особенное явление, называемое субъективным ощущением, душой или сознанием. Соответственно с этим совершенно ясно, что объективное и субъективное принадлежат к одному роду, что душа и тело — одной и той же эмпирической материи.
Для непредубежденного человека не может быть сомнения в том, что духовная материя, или, лучше говоря, явление нашей познавательной способности, есть часть мира, а не наоборот. Целое управляет частью, материя — духом, по крайней мере в главном, хотя опять-таки мир управляется иногда человеческим духом. В этом именно смысле мы должны любить и чтить материальный мир, как высшее благо, как первопричину, как творца неба и земли.
Этим, однако, совершенно не оспаривается, что между всеми объектами мира мы можем признать первое место за нашим разумом.
Если социал-демократы называют себя материалистами, то этим названием они хотят сказать лишь то, что не признают ничего, что выходит за пределы научно функционирующего человеческого рассудка, что всякое колдовство должно прекратиться.
Но, каркают философские вороны, — где же остаются «границы нашего познания природы»? Разве ученый Дюбуа-Реймон не доказал со всей очевидностью, что гордому уму поставлены известные границы? Разве специальный историограф материализма, покойный друг социалистов Ф. А. Ланге не поддерживал его и не заявил, что все наше знание никогда не может дойти до первопричины, до сущности вещей, и что, следовательно, при всех объяснениях вечно должно оставаться нечто необъяснимое, какая-то тайна?
Эта теория об ограниченном, верноподданническом рассудке есть теория праздных утопистов, к которой мы еще вернемся.
Непостижимое. Основной вопрос социал-демократической философии
Попы и профессора сходятся в том, что отрицают за человеческим интеллектом абсолютную познавательную способность, возможность достигнуть безусловной ясности, и сохраняют за ним лишь характер ограниченного, подчиненного рассудка. Блюстители душ однако, до некоторой степени считаются еще с потребностью полной ясности, и маленькому человеческому духу тут на земле дают в помощь великий дух там наверху, который своими откровениями просвещает и разрешает знать то, что знать полезно. Профессиональные философы этим светом не удовлетворяются; они сделали шаг вперед и заменили небесную науку земной; но здесь они в конце концов занимают то же двойственное положение, как и «прогрессисты» в политике. Та же помесь бездарности и злой воли, которая удерживает последних от свободы, удерживает профессоров от мудрости. Они не желают отречься от поисков таинственного; и если не в небесах и святых дарах, то во всяком случае в природе должна быть мистерия, непостижимое нечто; в «сущности вещей» и «в последних основаниях» должны быть абсолютные пределы, или «границы нашего познания природы». На социал-демократии лежит обязанность выступить против подобных неисправимых мистиков в защиту радикальной неограниченности человеческого интеллекта.
Конечно, есть много непостигнутого, кто станет против этого спорить? И нередко приходится невольно восклицать в изумлении: удивительно! непонятно! непостижимо! Это в порядке вещей. Но то, что во второй половине XIX столетия ученые еще вполне серьезно говорят о границах человеческой познавательной способности и верят в возможное существование чудесных вещей или чудес, непостижимых не только для того или другого, но недоступных пониманию всего человеческого рода, — это неверующий должен признать за нечто удивительно непонятное и необъяснимое.
Постараемся, однако, оправиться от нашего удивления и сделать непостижимое понятным. Для этого прежде всего необходимо указать категорию, к которой оно относится. Непостижимое легко объясняется, как только мы поймем, что оно по природе своей должно быть причислено к классу бессмысленного.
Может быть, покажется дерзким, что я так непочтительно говорю о вещи, о которой с самой неподдельной серьезностью трактуют высокие авторитеты. Однако в науке не место каким бы то ни было авторитетам. Способность человеческого интеллекта так неограниченна, что он с течением времени делает все новые открытия, в свете которых неизменно вся прошлая ученость кажется сплошным невежеством. И хотя я, таким образом, отстаиваю абсолютную одаренность нашей познавательной способности, я все же преисполнен сознания ограниченности всех людей и всех времен и, следовательно, несмотря на весь свой самонадеянный тон, я, в сущности, совершенно скромный человек.
Как известно, интеллект есть тот орган, при помощи которого мы воспринимаем. От других органов восприятия — глаза, уха и т. п.— он отличается как самый существенный фактор. Без глаза можно еще слышать, вкушать, обонять, но без сознания, без духа в голове мир перестает существовать. Сознание же, которое не имело бы чувств, тоже не могло бы ничего знать; следовательно, одно связано с другим. Разум, пожалуй, можно назвать начальником, но лишь в связи с нашими рядовыми пятью чувствами и другими вещами мира.
Можно, пожалуй, находить несовершенной способность человеческого слуха или зрения, так как есть животные, которые наделены этими свойствами в более совершенной форме, но что касается головы, то наш род, несомненно, самое одаренное существо. «В этом мире» никто никогда не слыхал о разуме, который превзошел бы человеческий. Но о том, как обстоит дело на «том свете» с ангелами, гномами и нимфами, история умалчивает. И если мы даже согласимся с этим ребячеством, если даже допустим, что на луне и звездах копошатся неземные духи, то все же эти последние, раз они пекут булки, должны приготовлять свои булки из муки, а не из жести или дерева. Точно так же, если эти сверхъестественные духи обладают рассудком, то этот рассудок должен быть той же общей природы, того же устройства, как и наш. Если бы метафизический интеллект имел совершенно иную природу, например природу доски или сальной свечки, то мы позволили бы себе отрицать за ним право на название интеллекта. Мы должны употреблять язык только так, как он употребляется всеми. Он подразделил вещи на роды и классы, которые мы непременно должны сохранить, чтобы нас понимали и чтобы самим понимать. Если в небесах и трансцендентной области существуют вещи совершенно иного свойства, чем земные, то они должны иметь и другие названия; а так как мы не умеем говорить на этом языке (языке ангелов), то не мешает молчать там, где речь заходит о «чем-то высшем», метафизическом или таинственном.
Удивительно, но верно! Подобное рассуждение кажется «философам» неслыханным. Они вслед за Кантом еще до сих пор болтают: мы можем постигнуть лишь явления природы, но то, что собственно скрывается за ними, «вещь в себе», или мистерия, — непостижимо. И тем не менее эта мистерия, вся эта тайна не что иное, как сумасбродная идея, которую эти господа составляют себе об интеллекте. Хотя они и притворяются ограниченными и постоянно говорят о неспособности, о пределах нашего познания природы, тем не менее в их мозгу засело фантастическое представление о таком-то непостижимом знании, или идея волшебного рассудка, который в состоянии понять то, чего понять нельзя.
Ага, — возражает тут остроумный противник, — все-таки! ты говоришь, значит, о вещах, которых ни один человек понять не может. Вот тебе и снова непостижимое! Здорово, мой друг!
Да, милейший мистик! Я ничего не имею против того, чтобы опять пустить в мир чудесные вещицы, но необходимо, чтобы они отреклись от своей метафизической, сверхъестественной природы. Правда, существует непонятное и непостижимое, существуют пределы нашей познавательной способности, но лишь в обыденном смысле, точно так же, как существует невидимое и неслышимое, как существуют пределы для зрения и слуха. Каждая вещь имеет свою естественную границу, также и интеллект. Если глаз не может видеть музыкальных звуков, благоуханий, тяжести тел, то это вполне понятная граница глаз, но это не граница в непонятном смысле метафизики, которая названием «граница», или «предел», указывает на известный недостаток. Недостаточен какой-нибудь экземпляр определенной вещи в отношении к другим экземплярам того же рода; но в общем вещи совершенны. Более совершенное дерево, чем то, какое вообще бывает на земле, не может расти и в метафизике. Если дерево перерастает свою природу, свой род, оно тем самым теряет право на свое название. Или, быть может, нам еще распространяться о железных деревьях? Как дерево ограничивается тем, что деревянно, так и глаз ограничивается тем, что доступно зрению. Как глаз в общем видит все, что можно видеть, так и рассудок, и именно человеческий, понимает все, доступное пониманию. Недоступное пониманию — чего нельзя понять или постигнуть — не входит в его область; оно так же мало может считаться за недостаток или предел; этого так же мало можно требовать от него, как невозможно требовать от глаза, чтобы он видел без света, сквозь доску, или ощущал зубную боль. Какие-нибудь чудовищные глаза, может быть, и обладают подобной непонятной зрительной способностью.
Чтобы положить конец этим надоедливым разговорам о непостижимом, о «границах нашего познания природы», мы должны выяснить себе вопрос: что значит познавать, объяснять, понимать? Я повторяю: преувеличенное представление об интеллекте, неразумные требования по отношению к нашей познавательной способности, иначе говоря, теоретико-познавательное невежество — вот причина всякого суеверия, всякой религиозной и философской метафизики. Наш современный мир, невидимому, чувствует это. Ученая периодическая пресса полна статей, затрагивающих этот предмет и касающихся истины. Но этим господам недостает ясного сознания, и оно будет им доставлено социал-демократией. Обладание этим ясным сознанием дает нашей партии возможность пользоваться интеллектом с систематической уверенностью и окончательно, таким образом, разоблачить те философские и теологические мистерии, в которые эти господа до наших дней облекали свои привилегии.
Совершенно так же, как крестьянин не понимает принципа механики, профессорская мудрость не понимает принципа разума. Трудно дать понять неразвитому человеку, что никакие рычаги и никакой колесный механизм не увеличивают сил, а что они только точнее распределяют тяжесть и при помощи этого распределения дают возможность легче с ней справляться. Но еще труднее растолковать профессору философии, что всякое познание, понимание или объяснение не более, как чисто формальное действие. Явления мира и жизни познаны или объяснены, если мы распределили их на классы, роды, семейства, виды и т. д., если мы привели в формальную научную схему все, что относится друг к другу и что друг за другом следует.
Если в лесу мне попадается чудовище, которое, вследствие моих недостаточных естественнонаучных познаний приводит меня в изумление, и если тут ко мне присоединяется специалист и объясняет, что перед нами не людоед, а носорог, принадлежащий к семейству толстокожих, происходящий из Азии или Африки и т. д., то подобная систематическая регистрация фактов превращает мое неразумное изумление в ясное познание. И когда я спрашиваю физика, почему падающий камень каждую секунду увеличивает скорость своего падения, он объясняет это явление законом тяжести, иными словами, он сводит разнообразные явления к одному классу, подчиняет их одной общей схеме. Весь наш разум, все наше познавание не может и не должно желать большего. Кто требует от разума большего, подобен невежественному механику, отыскивающему perpetuum mobile.
«Физика, — говорит Шопенгауэр, — объясняет явления чем-то еще более неизвестным — законами природы, силами природы и т. д. Все эти объяснения, подобно дьяволу с лошадиным копытом, страдают тем несовершенством, что объясненное все еще остается необъясненным». Тот же философ в другом месте говорит: «Какие бы успехи физика ни делала, этим самым мы ни на один шаг не придвигаемся к метафизике». «Под метафизикой я (Шопенгауэр) разумею всякое воображаемое познание, выходящее за возможность опыта, чтобы разъяснить то, что скрыто за природой». «Если бы даже кто-нибудь пространствовал через все планеты неподвижных звезд, он этим самым ни на один шаг не придвинулся бы к метафизике». Этими словами знаменитый философ засвидетельствовал: во-первых, что метафизика лежит в заоблачных сферах, и, во-вторых, что в своем безмерном стремлении к сверхъестественным объяснениям он крепко держится за «метафизическую потребность». Человека он называет animal metaphysicum[28], чем он хочет сказать, что именно метафизика отличает человека от животного. Я же, наоборот, держусь тщательно взвешенного мнения, что человек только там начинается, где кончается метафизическое, или «философское» животное.
Конечно, вопрос этот, как и все вопросы, имеет свои различные стороны. Сначала нужно было преодолеть метафизику или запредельные идеи, чтобы мы могли притти к трезвому взгляду, что наш интеллект есть обыкновенная, формальная, механическая способность. Свет этого понимания мелькает уже всюду; но он все еще только мелькает. С каким трудом свет прорывается сквозь старые предрассудки, видно на целом ряде ученых периодических изданий. Так, в № 34 «Wage» за 1876 г. доктор Калишер говорит: «Как Ньютон, так и Дарвин исходят из существующего, причем первый своим «законом» позволяет нам измерять его. То, однако, что мы здесь выясняем, есть лишь математическая формальная сторона дела; самая же сущность физического процесса для нас совершенно непонятна... сведение к математическим формулам есть, таким образом, крайняя вершина нашего познания, так как наше так называемое «объяснение» какого-либо явления природы постоянно имеет значение лишь настолько, насколько нам удается подчинить его принципу механизма».
Таким образом, доктор Калишер знает крайнюю вершину нашего познания, он как бы сходится с Гоббсом, который говорит: «Где нечего складывать и вычитать, там кончается мышление», и тем не менее он желает взобраться еще на какую-то наивысшую вершину, чтобы дойти до объяснения, которое выше «нашего так называемого объяснения». Это значит, другими словами: несмотря на то, что наш рассудок или мыслительная способность в последней инстанции признаны и провозглашены формальным инструментом, он все еще рассчитывает на какой-то чудовищный рассудок, долженствующий объяснить нам мир метафизически.
Я себе могу представить, как наша точка зрения претит профессорам философии; но я покорнейше просил бы этих господ сказать здесь, что дает им право умозаключать от границ рассудка к безграничному рассудку; очень прошу оказать, почему они от ограниченных свойств кусочка жести не умозаключают о неограниченной, небесной, метафизической жести? Так умозаключал бы всякий, кто не причисляет жесть или рассудок к естественным вещам, имеющим, как известно, свои определенные границы, точно установленные обычной терминологией. Так умозаключают также профессора и доктора, когда они носятся с последним могиканом «высшего», трансцендентального мира — с запредельной идеей сверхчеловеческого разума.
После того как лингвисты Макс Мюллер из Оксфорда и Вильям Двайт Витней со всей очевидностью доказали, что там, где начинаются границы вещей, кончается их наименование, всякое безграничное фантазирование должно прекратиться. Если мы с нашим разумом приходим туда, где больше нечего постигать, где, следовательно, начинается «непостижимое», то это так же мало относится к абсолютно иному миру, как если бы наш голос добрался до чего-нибудь такого, чего нельзя спеть. Где кончается пение, начинается, пожалуй, рев, а где кончается теория, должна начаться практика.
Границы познания
В редакцию «Vorwärts» недавно поступило по интересующему нас вопросу анонимное письмо, принадлежащее перу опытного специалиста, пытавшегося вполне объективно доказать, что философия и социал-демократия — две различные вещи и что можно всей душой принадлежать к партии и все же не быть согласным с «социал-демократической философией» и что поэтому ясно, что центральному органу не следовало бы допускать, чтобы философским вопросам придавали характер резко партийный.
Редакция «Vorwärts» была настолько любезна, что разрешила мне ознакомиться с этим письмом, имевшим непосредственное отношение к моим статьям. Автор, правда, выразил вполне определенно желание не вызывать своими возражениями публичной дискуссии, потому что, как он говорит, газетная полемика исключает возможность серьезного обсуждения подобных вопросов; я же, напротив, думаю, что он вряд ли найдет нескромным, если его замечания и упреки послужат нам средством для выяснения вопроса, который чрезвычайно близко принимается к сердцу и мною и им, а также, — как видно из всеобщего интереса к нему, — и всем нынешним поколением. Что же касается основательности, то я полагаю, что толстые фолианты не более пригодны для этой цели, чем короткие газетные статьи. Наоборот, многотомной болтовни уже столько имеется по этому вопросу, что у большей части публики совершенно пропадает к нему из-за этого интерес.
Прежде всего я не согласен с тем, что философия и социал-демократия различные вещи, друг с другом не связанные. Правда, можно быть деятельным членом партии и в то же время «критическим философом», пожалуй, даже добрым христианином. Ведь душа человека —удивительная вещь: она умеет легко справляться даже с самыми неопровержимыми противоречиями. И не только в вопросах философских или религиозных, но и в политико-экономических допустима большая доза ереси. На практике мы обязаны быть терпимы до крайности, и, несомненно, ни один социал-демократ не подумает о том, чтобы нарядить членов своей партии в один какой-нибудь мундир. Но теоретический мундир должен надеть на себя всякий, кто с уважением относится к науке. Теоретическое единство, систематическая согласованность есть заветная цель и высокое преимущество всякой науки. Мой уважаемый противник, наверное, признает, что социал-демократия научна и что наука социал-демократична. Конечно, есть много научных дисциплин, которые не имеют столь непосредственного отношения к борьбе социалистов за освобождение порабощенного народа. Но философский вопрос, вопрос о том, существует ли вне или над миром нечто метафизическое, «нечто высшее», что не может быть постигнуто нашим интеллектом, выходящее за пределы человеческого рассудка, — т. е. специальный вопрос философии о «границах познания», — имеет очень близкое отношение к порабощению народа.
Социал-демократия стремится не к вечным законам, неизменным учреждениям, застывшим формам, но к благу человеческого рода вообще. Духовное просветление — самое необходимое средство для этого. Является ли познавательный аппарат ограниченным, т. е. подчиненным, дают ли научные изыскания истинные понятия, истину в высшей форме и в последней инстанции, или же только жалкие «суррогаты», над которыми царит непостижимое, одним словом, все то, что называется теорией познания, есть социал-демократическое дело первостепенной важности.
Все господа, эксплоатировавшие народ, постоянно ссылались на высшую миссию, на свое происхождение милостью бога, на миропомазание и метафизический фимиам. И хотя они везде и всюду твердили о просвещении, религиозной свободе, политическом прогрессе и критической философии, тем не менее они все же прекрасно сознавали, что без «чего-нибудь высшего», непостижимого, без чего-нибудь метафизического, хотя бы, скажем, «нравственного миропорядка», немыслимо более сдерживать узду, державшую народ в порабощении, а им самим сохраняющую господство.
Во избежание недоразумений следует напомнить, что социал-демократия вовсе не противница нравственного миропорядка. И мы хотим нравственного миропорядка, но мы хотим, чтобы порядок пришел не сверху, а снизу, т. е. мы хотим установить его сами. Для установления и сохранения его нам тогда совершенно не нужны ни фантазерство, ни «границы познания». Даже, напротив, задача социал-демократии преимущественно в том и состоит, чтобы показать заблуждающемуся миру, что мой, твой и его интеллект не более как жалкий инструмент в сравнении с необъятной проблемой науки, что, следовательно, каждая отдельная личность должна ограничить свою задачу; но что, с другой стороны, познавательная способность человеческого рода так абсолютно беспредельна, так безгранична, как задача, поставленная ей на разрешение природой. Теория убожества, учение об ограниченном человеческом рассудке, есть последний остаток религиозного шарлатанства. Кто при содействии социал-демократической программы добивается освобождения рабочего класса самими рабочими, должен совершенно отречься от нелепого выжидания и глупой надежды, от философских мудрствований и исследований, поскольку они направлены на другой мир.
Этот «другой мир» наукой и работниками в области науки устранен, за исключением неоднократно упомянутых нами «границ познания». Но пока эти границы еще существуют, до тех пор за ними скрывается идея высшего безграничного познания, до тех пор существует также и «непостижимое», до тех пор тот, у кого перед глазами подобные призраки, не может дойти до настоящей уверенности в человеческой силе и ее способностях.
Для радикального изменения господствующего безнравственного миропорядка требуется настойчивое сознание неограниченной способности человеческого разума; а для этого необходимо, чтобы мы отнесли болтовню о возможности «высшего» познания к той же категории, к которой мы относим тела живущих в загробном мире, хотя и обладающих желудком, но не нуждающихся в пище и питье. Если мыслимо иное познание, чем то, что обыкновенно называется познанием, тогда точно так же возможно существование плоти и крови, которая имеет такой же вид, такой же вкус и такие же качества, как вода и мука; словом, тогда мы должны стать католиками и искать своего спасения в молитве, а не в труде; тогда мы должны отречься от социал-демократии.
Неизвестный товарищ иного мнения. Он желает ратовать за существование чего-то непостижимого, за ограниченное сознание и, однако, не желает остановиться, придерживаться границ. Кто действительно верит, что существует нечто непостижимое, тот должен воздерживаться со своими понятиями; ему не следует постоянно возвращаться к этому вопросу, иначе он стал бы обращаться со сверхъестественным, как с естественным, с непостижимым, как с непонятым. Подобное уравнивание, полагает наш противник, только внешнее, противоречие здесь только кажущееся, так как этим указывается лишь на противодействие человеческого духа, производящего это уравнивание невольно, не желая допустить существование непостижимого и объявляя его поэтому только за нечто еще непознанное. «Если бы он этого не сделал, если бы он, наоборот, предполагал, что непостижимое действительно существует и что только для него оно является «книгой за семью печатями», то вместе с этим признанием у него пропало бы всякое стремление к исследованию, и наука перестала бы существовать».
Сообразно с этим у человека якобы два духа — один должен иметь нечто непостижимое, а другой должен это непостижимое исследовать. Я же нахожу своевременным указать человеческому духу, что непостижимое не есть объект науки и что исследование имеет больше чем достаточно материала в том, что еще не познано.
«Это ведь, — продолжает противник, — только старый спор о границах человеческого познания, который ваш (т. е. «Vorwärts») корреспондент представил в своем особенном, мне, правда, далеко не симпатичном свете». Посмотрим поэтому, говорится дальше, действительно ли наши профессора философии настолько уже исказили этот пункт, что им следует дать «отставку».
«Первым, кто дал научное исследование границ разума, — был Кант. Правда, он не вышел за пределы «категорий рассудка» и должен был допустить для своего «практического разума» гипотезы, навязавшие всей его системе внутреннее противоречие. Но именно благодаря этому его система заставила философов двигаться дальше по проторенному пути, несмотря на то, что она достаточно резко установила границы формального познания... И это было не что иное, как стремление постигнуть непостижимое, т. е, разрешить внутреннее противоречие мышления.
Фихте пытался найти это разрешение в том, что он...» и т. д.
«Затем Гегель подошел к непостижимому еще на один крупный шаг ближе тем, что доказал» и т. д. «...он показал, что самое главное — постигнуть свой собственный дух, что этим самым постигается уже дух мира. Таким образом, «непостижимое» очевидно придвинулось к нам ближе, намного ближе. И если мы примем во внимание, как сильно три вышеназванных философа способствовали развитию нашего научного познания своими попытками постигнуть непостижимое, то разве мы не должны воздержаться от осуждения «цеховой» философии и от того, чтобы дать ей отставку?»
На это социал-демократическая философия отвечает: она никогда и не думала оспаривать у философов их историческое значение. Напротив, она исходит из того, что Кант, Фихте и Гегель настолько уже превратили непостижимое (именно познавательную способность) в познанное, что теперь настал момент, когда вместе со всей метафизикой мы даем отставку также и всем цеховым философам, всем не понимающим исторических завоеваний и все еще продолжающим считать непознанное непостижимым. «Критика разума», «наукоучение», «логика», или теория познания, настолько уже усовершенствовались благодаря своему историческому развитию, что теперь социал-демократия вполне определенно знает, что значит познавать, и поэтому мы имеем право говорить с насмешкой об ученых монахах, подчиняющих познание природы еще «чему-то высшему».
О Канте говорят, что его система «достаточно точно установила границы формального познания». Но именно этот пункт мы оспариваем со всей силой, в этом пункте социал-демократическая философия совершенно расходится с цеховой. Кант недостаточно точно установил границы формального познания, так как своей известной «вещью в себе» он сохранил веру в другое, в высшее познание, в сверхчеловеческий, сверхъестественный рассудок. Формальное познание! Познание природы! «Философы» пускай жаждут еще и другого познания, но им следует показать, где оно обретается и какова его природа.
О подлинном знании, которым мы постоянно пользуемся, они говорят с таким же пренебрежением, как древние христиане о «немощной плоти». Реальный мир — несовершенное явление, а его подлинная сущность — тайна. После того как это шарлатанство стало непопулярным в других науках, оно еще продолжает господствовать в области теории познания. Никто не желает иметь иной жести, кроме натуральной; с познанием дело обстоит не так — но в чем же разница? — Если естествознание везде и всюду довольствуется феноменами, то почему не удовлетвориться также феноменологией духа? За «границами формального познания» неизменно скрывается высший, неограниченный, метафизический разум, за цеховым философом — теолог и присущее им обоим «непостижимое».
И когда Гегель доказывает, что «все сводится к тому, чтобы постигнуть наш собственный дух и тем самым познать также дух мира», то мы с ним совершенно согласны. Социал-демократической философии пришлось бы только исправить это таинственное выражение: она знает только один дух; дух человеческий есть дух мира.
Но что же такое непостижимое? — спрашивается в вышеупомянутом письме в редакцию «Vorwärts».—Если мы признаем, что каждая действительно научная попытка постигнуть его приближает нас к нему в значительной степени, то разве нельзя предполагать, что в конце концов непостижимое действительно превратится в познанное? В таком случае требование вашего корреспондента было бы исполнено, хотя и не по его методу, а по методу цеховой философии. И на этот вопрос цеховой философ дает ответ, объясняя, что «бытие», как абсолютный покой, никоим образом не может превратиться в абсолютное движение мышления. Этими словами, — продолжает противник, — определена граница познания, т. е. непостижимое. Но разве вытекает отсюда, что мы должны отрицать его существование, что мы должны не касаться его? Разумеется, нет. Каждая научная попытка приблизиться к нему, понять или, по крайней мере, обнять его придвигает нас ближе к этому темному пункту и проливает на него новый свет, хотя бы нам и никогда не удалось совершенно выяснить его. В преследовании этой цели заключается задача философии, в противоположность задаче естествознания, которое рассматривает лишь данное и объясняет только явления.
Объясняет явления: феномен! Гм, гм!
Итак, объект философии — непостижимое — есть птица, у которой мы с помощью нашей познавательной способности то тут, то там можем выдернуть отдельное перышко, но которую мы никогда не в состоянии ощипать совершенно и которая вечно должна оставаться непостижимой. Если присмотреться внимательнее к выдернутым уже философами перьям, то мы узнаем по ним самую птицу: здесь речь идет о человеческом духе. И вот мы опять на решительной границе, отделяющей материалистов от идеалистов: для нас дух — феномен природы, для них природа — феномен духа. И хорошо еще, если бы они этим удовольствовались. Нет, где-то позади скрывается дурное намерение возвести дух в какое-то «существо» высшего порядка, а все остальное низвести на степень ничтожества.
Мы считаем поэтому необходимым напомнить, что, впрочем, хорошо известно всем, — что не только дух, сознание или ощущение, но вообще все вещи в «последнем своем основании» непостижимы. «Мы не в состоянии понять атомы и не можем из атомов и движений объяснить хотя бы малейшее явление сознания», — говорит Ланге в своей «Истории материализма»; другой еще говорит, что «сущность материи просто непостижима». Эта потребность в причинности иначе называется еще «стремлением к исследованию», которое в своей настойчивости не может воздержаться от того, чтобы не касаться и вопроса о «непостижимом».
Мы же, напротив, утверждаем: то, что при известных условиях может быть понято, не есть непостижимое. Кто желает понять непостижимое, просто дурачится. Как глазом я могу обнять, только видимое, ухом — только слышимое, точно так же познавательной способностью я могу постигнуть лишь постижимое. И хотя социал-демократическая философия учит, что все существующее безусловно познаваемо, этим вовсе не отрицается, что есть нечто непостижимое. Это можно бы признать: но только не в том двойственном, нелепом «философском смысле», который где-то там, в «высшей инстанции», снова превращает непостижимое в постижимое. Мы относимся к этому делу серьезно, мы не знаем ни о каком высшем познании, кроме обыкновенного человеческого, мы знаем положительно, что наш рассудок действительно называется рассудком и что так же немыслимо существование иного, в корне отличного рассудка, как существование четырехугольных кругов. Мы ставим интеллект в ряд обыкновенных вещей, которые не могут изменить своей природы, не изменив своего названия.
Социал-демократическая философия вполне согласна с цеховой, что «бытие никоим образом не растворяется в мышлении»; то же относится и ко всякой отдельной части бытия. Но мы не считаем вовсе задачей мышления сводить на-нет бытие; задача лишь в том, чтобы формально упорядочить его, находить классы, правила, законы, словом, делать то, что мы называем «познанием природы». Постижимо все то, что поддается классификации, а непостижимо все, что не может претворяться в мысль. Мы не можем, не должны и не желаем этого и потому отказываемся от этого. Но мы можем достигнуть обратного: свести мышление к бытию, другими словами, мы можем классифицировать мыслительную способность, как один из многих видов бытия.
Несогласный с нашим мнением товарищ желает опереться на то, что Кант, Фихте и Гегель приблизились к непостижимому. Но то, что было постигнуто этими философами, вовсе не было чем-то непостижимым, а лишь соответствующей частью интеллекта — «формальным познанием». Мы идем еще немного дальше и считаем интеллект лишь формальным инструментом, делающим в области теории познания только то, что делается им в естествознании. Для нас наука есть единый род, философия же и познание природы — отдельные виды, рассматривающие «данное» или объясняющие «явления». Мы считаем интеллект таким же точно эмпирическим данным, как и материю. Мышление и бытие, субъект и объект равно находятся в пределах опыта. Различать одно, как абсолютный покой, от другого, как абсолютного движения, есть неправильное различение, с тех пор как естествознание сводит все к движению. То, что наш партийный товарищ — «философ» сказал о непостижимом, а именно, что каждая научная попытка приближает нас к темной точке, хотя бы нам никогда и не удалось дойти до полной ясности, относится без всякой уже мистификации и к объекту естествознания — непознанному. Познание природы также имеет свою безграничную цель, и без таинственных «границ» мы все ближе придвигаемся к темной точке, никогда не доходя до полной ясности; а это значит, что наука не имеет границ.
Допустим, что человек одарен стремлением все исследовать. Но, чтобы рационально использовать это стремление, надо прежде всего понять его. Рациональное стремление к исследованию желает установить правила и законы существования. Там же, где оно хочет выйти за пределы существования, оно выходит за пределы своей и вообще всякой природы. В этом стремлении заключается запредельный характер философии, унаследованный ею от религии. Философия и религия забывают «последние основания» всякого понимания, а именно: опыт или факт. Мысли, главным образом, должны основываться на чувственных фактах и на опыте. Кто, наоборот, хочет основывать факты на духе или логике, должен понимать это лишь формально. Последнее основание, почему камень падает, теплота расширяет — это факты, а закон тяжести и закон теплоты — лишь абстракции, формальные основания. Не только бытие не сводится к мышлению, но совершенно ясно, что философское стремление к подобному сведению — идеалистическая нелепость.
Подобно тому, как человек одарен стремлением все знать, он одарен также стремлением все видеть. Прекрасно! Перед нами стекло, которое совершенно прозрачно, видимо насквозь! И, несмотря на это, оно не вполне видимо. Нельзя видеть ни его тяжести, ни его твердости; его способность звучать можно только слышать и т. д. То же с познанием: мы можем познавать все решительно вещи; но они в то же время более чем познаваемы, и лишь мечтатель может жаловаться на это, сожалеть о том, что бытие не растворяется в мышлении. Если бы мы могли познать все, все решительно, то познание тем самым стало бы всем и не было бы объекта. Наука без объекта для науки! Свет без объекта для зрения! Вот мы и вернулись к тому овремени, когда еще ничего не было–«когда все было пустынно и пусто»!
Наши профессора у границ познания
I
На «пятидесятом съезде немецких естествоиспытателей и врачей» в Мюнхене, в сентябре 1877 г. профессор фон Негели из Мюнхена снова коснулся известного прежнего доклада своего товарища из Берлина — Дюбуа-Реймона и произнес замечательную речь «о границах естественнонаучного знания». Надо отдать справедливость господину профессору из Мюнхена, что в правдивости и ясности он значительно превзошел своего предшественника из Берлина, но он все же не сумел подняться до уровня своего времени.
Он почти выяснил проблему; но маленький заключительный вопрос, который он упустил, есть как раз основной вопрос — он касается великой пропасти, отделяющей физику от метафизики, трезвую науку от романтической веры. Подобный реферат, вплотную вводящий в этот вопрос, дает нам желанный повод снова подтвердить превосходство социал-демократического миросозерцания.
Профессор Негели развивает свою тему следующим образом: «Многие из методистов-естествоиспытателей путем точных исследований, умножающих количество прочно установившихся фантов, на вопрос о «границах познания природы», считая принципиальное его решение неосуществимым, дают фактическую справку: «вера всегда начинается там, где кончается знание». Положение, что наша вера начинается там, где кончается знание, — говорится далее в реферате, — есть фактическое решение для известных целей. Этим наша любознательность не удовлетворена. С особенным интересом обращаемся мы к теоретической стороне проблемы. Мы хотим знать, определимы ли вообще или нет те границы, перед которыми человеческое знание должно остановиться? Если да, — то как далеко познание вообще может проникнуть внутрь природы, в какой степени человечество способно постигнуть научно природу, если бы оно занималось естествознанием неизмеримое количество времени, хотя бы целую вечность, и имело бы в своем распоряжении все возможные вспомогательные средства, — какова принципиальная граница между областью знания и областью веры?»
Его предшественник Дюбуа-Рейман, как известно, хотел доказать, что такая необходимая граница действительно существует и что вере во всяком случае должна быть отведена особая область. Только этой роли маленького убежища для религиозной романтики его реферат обязан своим кажущимся значением и своим распространением. С тех пор метафизические спорщики ликуют. Правда, профессор Негели не очень доволен этим ликованием, но его высокое профессорское положение не позволяет ему вести борьбу со всей решительностью. Доказав, своему предшественнику ясно, точно и определенно, что он не понял естественнонаучного познания, он заключает следующим образом: «Если Дюбуа-Реймон закончил свой реферат уничтожающими словами: Ignoramus et ignorabimus[29] то я хотел бы в заключение высказать условный, но утешительный взгляд, что плоды нашего исследования не только дают новые сведения, но составляют подлинное знание, содержащее в себе зародыш почти (!) бесконечного роста, без малейшего посягательства на всеведение. Если мы проявим разумное воздержание, если мы как смертные и преходящие существа удовлетворимся человеческим пониманием, не посягая на божественное познание, то мы имеем право сказать с полной уверенностью: «мы знаем и будем знать».
В этих заключительных словах вся сущность вопроса; в них с одинаковой ясностью запечатлелись и жаждущее веры верноподданническое сознание берлинского профессора и смиренная, робкая непоследовательность мюнхенского. Религиозная романтика Дюбуа-Реймона называет все плоды научного исследования «простым накоплением новых сведений, но не подлинным знанием». До них бедный человеческий рассудок дойти не может. Профессор дословно говорит, что «все наше познание природы в действительности не есть познание, оно дает лишь суррогат объяснения».
Итак, наша наука преподносит нам цикорий вместо кофе. Согласно с этим, научное объяснение может лечь в могилу, чтобы, чего доброго, воскреснуть в совершенно ином виде на страшном суде. — И подобные реакционные буквоеды важничают на кафедрах науки.
Затем является другой, Негели, которому все же дело кажется чересчур несуразным. Он не хочет допустить тонкой разницы между собиранием сведений и познанием. Он убежден: «Мы знаем и будем знать». Но как осторожно высказывает он это свое убеждение, «без малейшего посягательства на всеведение»! И он смиренно говорит о «человеческом» познании в противовес высшему, нечеловеческому. Мы должны выказывать «разумное воздержание» и не посягать на «божественное знание». — Да возможно ли, чтобы такой ученый профессор монашески «воздержался» от божественного познания и даже стал бы называть подобное воздержание разумным?! Всякое знание божественно, т. е. великолепно и чудесно. Но если господин профессор противопоставляет человеческому знанию божественное, то он выходит за пределы природы, впадает в метафизику и вязнет в той же романтике, в которой завяз его предшественник.
II
Господин профессор из Мюнхена ясно доказал своему предшественнику, коллеге из Берлина, что он, для кого наше познание природы не есть подлинное, действительное знание, указал: не границы, а ничтожность или невозможность естественнонаучного знания и что он, следовательно, дальше отрицания не пошел. По словам Негели, Дюбуа-Реймон учит так:
Познание природы есть сведение какого-нибудь явления, природы к механике простых и неделимых атомов.
Атомов в этом смысле не существует, и потому вообще не существует подлинного знания.
Даже если бы возможно было познать мир из механики атомов, то мы все же не могли бы по ним понять ни ощущений, ни сознания.
На это Негели правильно замечает: «Так как высказывания оратора построены на отрицании, то научное естествознание при отсутствии соответствующей сферы, в которой оно было бы компетентно, не может также определить и ее границ, а если ему недоступно даже понимание материальных явлений, то тем паче не приходится ожидать от него каких-либо притязаний на духовную область». Другими словами, это означает: если наше познание вместо кофе преподносит только цикорий, то у нас получается, ведь одно лишь скверное варево и нет никакого смысла исследовать и понимать его или заниматься определением его границ.
После того как, таким образом, один профессор побил другого, нам остается только приятная задача доказать, — что, впрочем, само собой уже доказано, — что и второй профессор застрял на том же самом месте, где крепко сидит и первый.
Господин Негели отличается от господина Дюбуа тем, что он до известной степени все же выкарабкался и что у него уже трудно различить, просто ли ослабли его силы, или же он по своему положению должен крепко держаться «скрытой области предчувствий», «божественного познания и всеведения» и подобных же вещей, «которые нашему пониманию недоступны».
«Что касается способности нашего Я познавать природные вещи, то здесь решающее значение имеет тот неоспоримый факт, что, как бы ни была устроена наша мыслительная способность, только чувственные восприятия дают нам сведения о природе. Если бы мы не могли ничего видеть и слышать, вкушать или ощупывать, то мы вообще не знали бы, что существует еще нечто вне нас, мы не знали бы вообще, что сами существуем телесно».
Это смелое слово. Будем держаться его и посмотрим, держится ли его также господин профессор.
Наше чувственное восприятие, говорит он, ограничено настоящим. «Мы непосредственно не можем заметить чего-нибудь такого, что было в прошлом, что будет в будущем, ничего такого, что слишком отдалено в пространстве, что пространственно слишком велико или незначительно».
Это совершенно верно. Но то, чего один не видел вчера, другой увидит завтра, где расстояние слишком велико и вещь слишком мала, на помощь приходят телескоп и микроскоп. «Человеческому организму, следовательно, теоретически открыта возможность получать телесные восприятия всех явлений природы. Но как происходит дело в действительности? Какие впечатления настолько сильны, что они становятся для нас заметными, и какие пропадают для нас, как слишком ничтожные?»
Нам нет нужды следовать за оратором во всех подробностях, и мы охотно готовы признать то, что признали уже давно: «Наша способность воспринимать природу непосредственно нашими чувствами ограничена, таким образом, в двух отношениях. Нам, вероятно (!), нехватает ощущений для целых областей жизни природы (например, для гномов, духов и т. п.? — И. Д.), и поскольку мы их имеем, они по времени и пространству охватывают бесконечно малую часть целого».
Да, природа выше человеческого духа, она его неисчерпаемый объект. «Об устройстве, составе, истории какой-нибудь неподвижной звезды последней величины, об органической жизни на ее темных спутниках, о материальных и духовных процессах в этих организмах мы никогда ничего не узнаем».
Но тут профессор опять заходит слишком далеко: наша способность исследования ограничена лишь настолько, насколько неограничен ее объект, природа. Мы не можем дойти до конца, потому что конца не существует. Но там, где конец имеется, мы, быть может, до него и дойдем. Ни один профессор не в состоянии знать, как много мы и наши потомки еще узнаем о неподвижных звездах и их спутниках, как бесконечно глубоко мы можем еще проникнуть в прошедшее и в будущее и в самые маленькие частицы, так как, по словам Негели, перед нами «теоретически» открыты все возможности. Мы знаем, что ни один человек не найдет двух гор, не отделенных долиной, и что ни один фабрикант не станет изготовлять ножей без черенка и клинка, так как это теоретически невозможно. Но заранее определять возможную сферу практического приложения по меньшей мере странно после открытия спектрального анализа и изобретения телефона.
III
Исследование никогда не приходит к концу, ни объективно, ни субъективно, т. е. бесконечность мира и бесконечность интеллекта не допускают этого. Но социал-демократический материалист никогда не станет отрицать того, что интеллект представляет собой только ограниченную часть мира. Наоборот, именно он понимает научно-мыслительную способность, как орудие, свойство, продукт или часть природы. У нас вовсе не такое преувеличенное мнение о духе, чтобы утверждать, будто он все может, все в состоянии сделать. Мы хотим лишь выйти из дуализма, — этого хотел и профессор, но не сумел этого достигнуть. Мы признаем только один, только один единственный мир, «тот, о котором нас извещают чувственные восприятия». Мы ловим Негели на слове, что там, где мы ничего не можем видеть, слышать, ощущать, вкушать, обонять, там мы ничего и не можем знать.
Я еще раз хочу тут в положительной форме указать на ограниченность человеческого познания. При помощи этой познавательной способности мы можем только познавать. Мы не в состоянии при ее помощи петь и прыгать или исполнять целый ряд подобных же действий; разум ограничен. Но в своей собственной области, в познавании, он неограничен, настолько неограничен, что ему никогда не добраться до конца в своей работе.
Идем дальше. Все познаваемое открыто знанию. Непознаваемое, абсолютно недоступное чувствам, для нас не существует и не существует также «в себе», так что мы даже не можем говорить об этом, не удаляясь в область фантазии.
«Наши чувства организованы лишь для потребностей человеческого существования, а не для того, чтобы удовлетворять наши духовные потребности и давать нам знания о всех явлениях природы... Как мы лишь случайно узнали о явлениях электричества, происходящих в каждой частице материи, точно так же вполне возможно, что существуют еще другие силы природы, другие формы молекулярных движений, о которых мы не получаем никаких чувственных впечатлений, потому что они никогда не образуют заметного количества и поэтому остаются для нас скрытыми».
У кого есть «духовная потребность» узнать что-либо о «скрытых от нас» явлениях, неизбежно по самой природе своей остающихся для нас скрытыми, тот испытывает не духовную, а мистическую потребность. Явления электричества найдены не более случайно, чем табак. И естествоиспытателю совершенно не приличествует говорить о явлениях, которые никто не воспринимает и воспринимать не будет. Возможно, что вокруг меня кружится Мефистофель в образе невидимой летучей мыши, но этого я не знаю, от этого мне ни тепло, ни холодно, и от этого не должно быть также ни тепло, ни холодно и естествоиспытателю.
«Естествоиспытатель должен всегда сознавать, что его исследования во всех отношениях ограничены известными рамками и что везде и всюду непознаваемое «вечное» ставит ему решительные преграды. То обстоятельство, что это не всегда учитывалось и тем самым бесконечно великое и бесконечно малое смешивались с бесконечным и с «ничто», привело ко множеству ошибочных представлений. К ним относятся ложные теории о физических атомах в малом и ложные представления о начале и конце мира в великом».
Сознание о конечных границах исследования, быть может, и полезно для исследователя. Но господину профессору не следовало бы во всяком случае забывать этого рационального наставления в тот же момент, когда он его высказывает. А именно так он поступает, говоря, что «непознаваемое «вечное» ставит везде и всюду решительные преграды». Как можно знать что-либо об этих преградах, если они «непознаваемы»? Или с Негели произошло то же самое, что и с Дюбуа-Реймоном, т. е. он ограничивается чисто отрицательной точкой зрения?
И он может также сказать о великом месте остановки, о «вечном», лишь одно, а именно, что о нем ничего знать нельзя?
«Этим мы не хотим сказать, что естествоиспытатель не должен философствовать, не должен заниматься абстрактными и трансцендентными вопросами. Но в таком случае он перестает быть естествоиспытателем, и его специальность оказывается для него здесь полезной разве только тем, что научает его строго разграничивать обе сферы; он научается смотреть на первую, как на чисто исследовательскую область и сферу знания, а освобождая вторую от всего преходящего, начинает ее расценивать, как скрытую от нас область предчувствий».
Но, повидимому, почтенный профессор плохо знает философов, если он полагает, что они могут удовлетвориться «скрытой областью предчувствий». Не только социал-демократические философы, но и многие профессиональные философы вполне определенно указывают, что если даже их область и скрыта от взоров мюнхенского профессора, она, тем не менее, совершенно открыта «человеческому разумению» и что из него поэтому необходимо совершенно устранить всякое «божественное познание». «Скрытая область», или потусторонний метафизический мир, не ближе философам, чем другим господам, из которых каждый старается приискать убежище для своих святынь. С наукой эти консервативные старания не имеют ничего общего, они всецело относятся к практике. Но зато область точных наук гораздо шире, чем предполагают эти господа. Для них понятие природы есть нечто слишком расплывчатое. Если нельзя отрицать того, что история, экономия, политика и т. п. должны развиться в точные науки, что они уже на пути к этому и уже отчасти достигли своей цели, — то социал-демократия может, кроме того, еще доказать, что через пропасть между философией и естествознанием уже перекинут мост, несмотря на то, что светила буржуазии об этом ничего не знают.
Профессор и лингвист Штейнталь достиг в этих вопросах более значительных успехов, чем его коллеги-естествоиспытатели. В третьем издании своего сочинения «О происхождении языка» он говорит: «Речь не есть мышление, она только средство, орган мышления», и «нет духа без языка, но язык сам по себе относится уже к кругу духовных явлений». В связи с этим мы далее аргументируем: речь дает нашим понятиям их истинное название. То, что речь называет природой, истиной, познанием и жестью, на самом деле и есть жесть, познание, истина и природа Штейнталь разъясняет нам это следующим образом: «А = только А и никогда не = Б, если, конечно, = не будут означать равные величины, как в математике. Если же равенство относится только к сущности, то тогда, если А = Б, то Б должно было бы быть А, и мы не имели бы права называть его иначе, как А». Штейнталь называет это «принципами всякого исследования и познания». Другими словами: единство, единство в понятиях и названиях, есть первое условие всякой науки. Никакой дуализм недопустим. Если божественное познание = А, а человеческое познание = Б, т. е. если оба они существенно различны, то мы двояко злоупотребляем словом «познание». Подобно тому, как человечество, несмотря на различные расы, необходимо представляет только один род, как существуе только одно человечество, точно так же, несмотря на множество видов, существует лишь одно познание, лишь одна истина, одна природа, а именно: истинная природа и природная истина. И все, что мы опытным путем узнаем на небе, на земле и вообще где бы то ни было, относится к этой категории. А то, чего мы не узнаем путем опыта и что господин пастор или господин профессор нам только рассказывают, все это лишь увертки, которые, однако, также входят в область подлинной действительности и поэтому представляют собой действительные увертки.
IV
Все эти рассуждения должны были показать лишь, что мир есть единство, т. е. что существует только один мир. А кого влечет в иной мир, из мира опыта в мир предчувствий или божества, кто только об этом и говорит, тот либо самодур, либо плут и обманщик народа. Чтобы с полным правом и основанием заклеймить противника одним из этих скверных имен, достаточно доказать, что он находится в противоречии с «стремлением разума к единству».
Если фон Негели на собрании естествоиспытателей хочет доказать своим товарищам, что наш интеллект имеет границы или, может быть, кроме границ своей собственной природы, имеет еще другие, внеприродные или сверхприродные границы, то это постыдно и тем более,постыдно, чем глубже его понимание, что природа представляет собой общее единство, в котором нигде нельзя найти пробелов.
«Итак, наше познание природы всегда математического свойства и покоится или на простом измерении, как в морфологических и описательных естественных науках, или же на измерении причинном, как в науках физических и физиологических. При помощи математики, однако, — при помощи мер весов, чисел — могут быть постигнуты лишь относительные или количественные различия... Настоящие качественные различия мы не можем постигнуть, потому что качества нельзя сравнивать. Это очень важный факт для познания природы. Из него вытекает, что если в природе существуют качественно или абсолютно различные области, то научное познание возможно лишь как нечто изолированное в пределах данной области, и что от одной области к другой нельзя перекинуть никакого моста. Но отсюда вытекает также, что, поскольку наше измеряющее познание развивается в неизменной последовательности, поскольку мы выясняем последующие явления из предыдущего, — в природе вообще не существует абсолютных различий, непроходимых пропастей».
Из этой цитаты видно, как близок мюнхенский профессор к тому, чтобы действительно понять познавательную способность. Нехватает только точки над i. Эта мелочь, однако, бесконечно важна, потому что без нее все снова и снова впадают в навязчивую ошибку, стремясь установить абсолютные или качественные различия, разделить конечное и бесконечное или человеческое и божеское познание незаполнимой пропастью и представить себе, что через эти две области не может быть перекинут мост.
Этому дуалистическому безобразию необходимо раз и навсегда положить предел, а поэтому опередим на шаг профессора Негели. Необходимо, наконец, выявить познавательную способность как способность, охватывающую все, все различия, все свойства, как единство, как единое количество. Разумно — это значит, что разум образует из всего существующего один род. Распределить все явления мира, как различные виды этого рода, значит познать природу. Так как интеллект способен это выполнить, так как он все подразделяет на роды и виды, на субъекты и предикаты, так что в конце концов остается лишь один род, один субъект, бытие или данное, а дух и тело, разум, фантазия, материя, сила и т. д. — лишь его предикаты или частности, то немыслимо, чтобы в мире оставалась непроходимая пропасть. Все должно раствориться в теоретическую гармонию, в одну систему.
Поставив эту точку над i, немыслимо далее распространяться о том, будто между неорганическим и органическим, между растением, животным, человеком, обезьяной, головной или ручной работой существует какое-либо абсолютное различие или непроходимая пропасть. Нужно знать, что две капли воды так, же бесконечно различны, как животное и человек, тело и душа; что разделение и различение так же неограниченны, как и «стремление к единству».
Я хотел бы помочь читателю понять то, чего, насколько я знаю, еще не поняли наши профессора, а именно, что наш интеллект есть диалектический инструмент, инструмент, примиряющий все противоположности. Интеллект создает единство с помощью разнообразия и усматривает различие в сходстве. Гегель давно уже выяснил, что наука в своих построениях следует не схеме «или-или», а системе «и-и». Познавательная способность обезьяны, мужика, естествоиспытателя, равно как и познавательная способность профессора и даже наивысшее божественное познание принадлежат к одной и той же категории, суть формы одного вида, виды одного рода, предикаты одного субъекта. Конечно, уместно отличать человеческий интеллект от интеллекта животных, превозносить первый до небес и давать ему особенное название. Но между разумом и инстинктом не следует создавать непроходимой пропасти. Поскольку мы мыслим трезво и не позволяем себе патетических возгласов, мы должны знать, что различающая способность разъединяет до мелочей, но соединяет также до бесконечности.
Нетели говорит: «Логическая необходимость заставляет естествоиспытателя допускать в конечной природе лишь различия по степени». На это мы отвечаем: необходимая логика заставляет нас соединить конечную природу с бесконечной, т. е. познать природу как единство, которое одновременно и конечно и бесконечно.
«Но что такое этот мир, подчиненный человеческому духу? Даже не песчинка в вечности пространства, даже не секунда в вечности времени, а лишь ничтожная часть истинной сущности и вселенной». Точь в точь так говорит и пастор. И совершенно правильно, покуда это должно служить лишь восторженным выражением чувства перед величием бытия; но это полная бессмыслица, когда господин профессор желает этим сказать, что наше пространство и наше время не части бесконечности и вечности; полная бессмыслица, если это должно означать, что «истинная сущность вселенной» скрыта вне явлений, в непостижимой религии или метафизике. Вселенная вся — в своих отдельных проявлениях, а отыскивать ее где-нибудь вне таковых — социал-демократы всецело предоставляют господам.
V
После того как профессор Негели постарался указанным образом ограничить естественнонаучное познание, профессор Рудольф Вирхов в том же собрании следует его примеру, чтобы поставить еще большие препятствия «свободе науки в современном государстве». Его глаза столь чувствительны, что даже слабый свет, зажженный Негели, причиняет ему боль.
«Я хотел бы удостоверить, — говорит Вирхов, — что мы достигли того уровня, чтобы поставить себе особую задачу, а именно — умеренностью и известным отречением от личного пристрастия и личных мнений обеспечить себе благоприятное для нас настроение нации, нами завоеванное».
Для наших товарищей, конечно, не секрет, что это за «нация», благорасположение которой желает сохранить господин профессор. Мы узнаем этих почтенных господ по их пристрастию к умеренности других, по их чувствительности ко всему, что способно обеспокоить их пищеварение.
«Само собой разумеется, что для всего, что мы считаем надежной, научной истиной, мы должны требовать полного включения в сокровищницу знания нации. Все это нация должна принять, поглотить и переварить».
Господин профессор прав: надо различать между тем, что слишком очевидно, чтобы его можно было скрыть, и тем, что может оказать содействие радикальным тенденциям, к чему стремится и наука, но что все же можно сделать более «умеренным».
«Мы не можем сказать каждому деревенскому мальчишке: вот это фактически существует, это знают, а вот это лишь предполагают...» «Мы должны остерегаться того, чтобы вносить в головы учителей то, что мы только предполагаем...» «Во всяком случае и в этой теории (эволюционной), если ее последовательно довести до конца, есть также чрезвычайно рискованная сторона, и от вашего внимания, конечно, не ускользнуло то обстоятельство, что социал-демократия очень сочувственно относится к ней».
Тут не о чем много толковать. Стоит лишь послушать этого человека, чтобы скоро разобраться в том, как дело обстоит «со свободой науки в современном государстве». Понятно, что границы знания должны быть Вирховым еще больше сужены, чем коллегой Негели.
«При этом ограничении нашего знания мы прежде всего должны помнить, что то, что обыкновенно называется естествознанием, как и всякое другое знание в мире, состоит из трех, совершенно различных частей. Обыкновенно различают только объективное и субъективное знание; однако мы имеем еще нечто среднее, именно веру, которая ведь тоже существует в науке».
Тонкое различие, которое вслед затем хитрец в угоду своей репутации прогрессивного человека устанавливает между научной и церковной верой, мы, конечно, не станем принимать всерьез. Но заслуживает похвалы то, как он остроумно угадывает слабую сторону своего предшественника. Негели сказал:
«В высшем животном царстве с чувством раздражения определенно связано ощущение. Мы должны признать его также за низшими животными и не имеем никакого основания отрицать его у растений и неорганических тел...»
«Благодаря своему составу атом обладает различными свойствами и силами и обнаруживает различные виды раздражения (притяжение и отталкивание) на другие атомы»... «Если молекулы испытывают нечто родственное ощущению, то только чувство удовольствия может заставить их следовать то одному, то другому» и т. д... «Молекулы химических элементов приводятся в движение, таким образом, одновременно многими количественно и качественно различными ощущениями»... «Мы находим, таким образом, на самой низшей и простой из известных нам ступеней организации материи по существу те же явления, как и на высшей ступени... Различие здесь чисто количественное, по степени».
На это Вирхов отвечает: «Этот упрек я, например, делаю также господину Негели... Он требует не только, чтобы духовная область распространилась с царства животных на царство растений, но также, чтобы мы перенесли наши представления о характере духовных явлений с органической природы на неорганическую... Если кто-нибудь во что бы то ни стало хочет привести духовные явления в связь с явлениями остального мира, он неизбежно приходит к тому, что прежде всего начинает переносить психические явления, встречающиеся у людей и «высших позвоночных животных, на низшие виды животных, так что и растение получает свою душу; далее, приходится допустить, что клеточка чувствует и мыслит и, наконец, отыскивается переход к химическим атомам, любящим или ненавидящим друг друга, стремящимся друг к другу или взаимно отталкивающим друг друга... Я ничего не имею против того, чтобы атомы также обладали духом... Я только не знаю, как я должен это обнаружить. Это ведь просто игра словами. Если в притягивании и отталкивании я усматриваю духовные явления, психические функции, то я в сущности отказываюсь от всякой психики... Для нас — я утверждаю это без всякого колебания — несомненно вся сумма психических явлений связана только с известными животными, а не с совокупностью всех органических существ и даже не со всеми животными вообще».
В этом отношении мы должны согласиться с господином Вирховым: разграниченные в языке понятия должны оставаться разграниченными. Не следует играть словами, но не следует также забывать, что психическое ощущение удовольствия и неудовольствия имеет некоторое сходство с химическим процессом притягивания и отталкивания. Поставим точку над i, и мы увидим, что как одно, так и другое — равноправные формы той же природы, равнопонятные предикаты того же субъекта. Только тот, кто ни за что не хочет привести в связь духовные явления с остальными явлениями мира, может не видеть, что животные, химические, физические и психические процессы суть общие виды одного и того же мирового процесса. Итак, еще раз, господа: мир диалектичен, столь же един и единообразен в своей сущности, как разнообразен в своих проявлениях; всякое различие есть различие лишь по степени. Единство, за которое ратует Негели, утрачивается им, как только он подходит к «миру предчувствий» и к «божественному всеведению»; но профессор Вирхов утрачивает его уже, как только он касается различия между органическим и неорганическим. Еще ненавистнее для него связь между человеком и животным, и совершенно бесспорным ему представляется вопрос о противоположности между телом и душой, потому что соединение между ними могло бы произвести в «голове социалиста» самую ужасную путаницу и непременно привело бы к ниспровержению всей профессорской премудрости.
Краткие данные о жизни и творчестве Иосифа Дицгена
Иосиф Дицген родился 9 декабря 1828 г. в Германии в Бланкенберге, близ Кельна, где его отец имел небольшую кожевенную мастерскую, которую он в 1835 г. перевел в деревню Уккерат. Здесь молодой Иосиф по окончании народного училища и двух классов городского училища работал в мастерской отца.
В период 1847–1851 гг. он написал серию стихотворений; среди них стихотворение «Пролетарий» особенно отличается боевым и антирелигиозным содержанием.
Вышедший в 1841 г. труд Людвига Фейербаха «Сущность христианства» произвел глубокое впечатление на молодого Дицгена. В дальнейшем между Дицгеном и Фейербахом установились тесные дружеские отношения, которые не порывались в течение всего времени. Известно также, что Дицген вел довольно обширную переписку с Фейербахом, следы которой, к сожалению, потеряны, так же как и переписка Дицгена с Марксом, о чем он говорит своему другу Ф. А. Зорге в письме от 3 августа 1885 г. (см. «Письма И. Ф. Беккера, И. Дицгена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др.», изд. П. Г. Дауге, Москва, 1913 г., стр. 236).
В революции 1848 г. Дицген принял участие как агитатор.
Вышедший в том же году «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса оказал на него крупное политическое влияние.
В 1849 г., после наступления реакции в Германии, Дицген эмигрирует в Америку. В 1851 г. он возвращается на родину и все свободное время от материальных и иных забот отдает своему любимому занятию — изучению классической древней и современной философии.
В 1859 г. Дицген вторично переезжает в Америку. Здесь он внимательно изучает гениальный труд К. Маркса «К критике политической экономии». Начавшаяся в Америке гражданская война и кровавые репрессии против его ближайших товарищей заставляют его в 1861 г. покинуть Америку. За период пребывания Дицгена в этой стране сохранилась в рукописи одна из его первых статей, написанная в самом начале гражданской войны, где он выступает ярым защитником негров против их белых угнетателей. Статья носит название «Schwarz oder weiss?» («Черный или белый цвет?») и напечатана впервые в сборнике «Erkenntnis und Wahrheit» («Познание и истина»).
В 1864 г., в поисках работы, Дицген отправляется в Петербург. Здесь он поступает на казенный кожевенный завод техническим кожевенным мастером. Работая в Петербурге, Дицген знакомится с жизнью петербургского пролетариата, пишет свою первую работу «Сущность головной работы человека» и изучает вышедший в 1867 г. I том «Капитала» Маркса.
24 октября 1868 г. Дицген пишет Марксу восторженное письмо, в котором благодарит его за то влияние, которое оказало изучение «К критике политической экономии» и «Капитала» на его научное и философское развитие. В этом же письме он посылает Марксу, отрывок из своей философской работы «Сущность головной работы человека». Между Дицгеном и Марксом завязалась переписка, а в сентябре 1869 г., после возвращения Дицгена на родину, Маркс лично посетил Дицгена в Зигбурге, где провел с ним несколько дней.
Еще в начале 1868 г. Дицген опубликовал в лейпцигской газете «Demokratisches Wochenblatt» («Демократический еженедельник») свою известную рецензию на I том «Капитала», а в 1872 г. — открытое письмо Генриху фон Зибелю в газете «Volksstaat», где подвергает этого буржуазного ученого резкой критике за его непонимание «Капитала». Об этих рецензиях Дицгена Маркс с похвалой упоминает в своем послесловии ко второму изданию I тома «Капитала», противопоставляя их «болтовне» представителей «германской вульгарной экономии».
За период 1869–1884 гг. Дицгеном было опубликовано большое количество статей в разных социал-демократических изданиях — «Volksstaat», «Vorwärts», «Neue Gesellschaft», «Neue Zeit», «Sozialdemokrat», в нью-йоркской «Volkszeitung» и др., как то: «Научный социализм» («Volksstaat», 1873 г.), «Религия социал-демократии» («Volksstaat», 1870–1875 гг.), «Мораль социал-демократии» («Volksstaat», 1875 г.), «Социал-демократическая философия» («Volksstaat», 1876 г.), «Непостижимое» («Vorwärts», 1877 г.), «Наши профессора у границ познания» («Vorwärts», 1878 г.).
В 1878 г., в период издания Бисмарком «закона против социалистов», Дицген выступает перед рабочей аудиторией с докладом «О будущности социал-демократии» и по обвинению за возбуждение классовой борьбы, за осквернение религии и за нарушение общественного порядка был арестован и заключен в тюрьму в Кельне. После 3-месячного заключения он по суду был оправдан.
Сильно пошатнувшееся материальное положение помешало Дицгену отдаться целиком своим любимым философским занятиям и заставило отправить своего старшего сына Евгения в Америку. Переписка между отцом и сыном за период с 1880 по 1884 г. опубликована в упомянутом сборнике «Erkenntnis und Wahrheit». Но наряду с письмами частного характера, насыщенными ценными философскими и житейскими размышлениями, он послал сыну две серии научно-популярных статей под заглавием «Письма о логике»: серию философских писем и серию экономических писем, опубликованных в сборнике «Erkenntnis und Wahrheit».
В июне 1884 г. Дицген вместе с семьей переезжает в Америку, в Нью-Йорк, откуда он сперва переселяется в Хобокен, а в 1886 г. — в Чикаго, к сыну. В 1884 г. Дицген по настоянию партии принял на себя обязанности редактора центрального органа Североамериканской социалистической рабочей партии «Der sozialist», помещая в нем также ряд популярных статей, как то: «Еда и питье — это основное» (4 и 11 июня 1885 г.), «Человеческий дух — свойство телесное» (19 декабря 1885 г.), «Несколько слов о человеческой душе» (январь–февраль 1886 г.). После переезда в Чикаго он принял на себя редактирование местной газеты «Chicagoer Arbeiterzeitung», которая своим явно выраженным анархическим уклоном причинила ему немало забот. Его примиренческое отношение к этой газете вызвало вполне заслуженное недовольство со стороны Маркса и Энгельса (см. письмо Энгельса от 16 сентября 1886 г. к Ф. А. Зорге, «Письма И. Ф. Беккера и т. д.», стр. 263). Вскоре из-за нескончаемых разногласий среди сотрудников этой газеты Дицген оставил ее редактирование. Последние годы своей жизни он посвятил разработке намеченных им философских проблем.
За последние два года жизни Дицген написал наиболее законченные философские труды: «Экскурсии социалиста в область теории познания» (1886 г.) и «Аквизит философии» (1887 г.). Кроме того, сохранился в литературном наследии И. Дицгена ряд мелких работ, отчасти опубликованных его сыном Евгением Дицгеном в сборнике «Erkenntnis und Wahrheit», как-то: статья «Материализм», «Познание и истина», «Как возникли боги», «О вере неверующих», и отчасти неопубликованных, среди которых брошюра, содержащая критику книги Генри Джорджа «Прогресс и нищета», а также работа о французской революции 1789 г. В сборнике «Erkenntnis und Wahrheit» помещена также серия «Писем о социализме к подруге молодости» под псевдонимом д-ра Ланге, в которых Дицген в самой общедоступной форме излагает азбуку социализма для политически малограмотного читателя. Намерение Дицгена написать рецензию на вышедший в 1885 г. II том «Капитала», о чем он сообщает своему другу Зорге в письме от 12 августа 1885 г. (см. «Письма И. Ф. Беккера и т. д.», стр. 236), ему едва ли удалось осуществить, так как рукописный материал на эту тему не обнаружен.
И. Дицген умер 15 апреля 1888 г. от разрыва сердца в Чикаго, где он и похоронен.
Ленин, Соч., т. XVI, изд. 3-е, стр. 378–380. ↩︎
Матери наук. — Ред. ↩︎
Целиком. — Ред. ↩︎
Я мыслю, следовательно я существую, — Ред. ↩︎
Предел.— Ред. ↩︎
Преимущественно.— Ред. ↩︎
Возникновение организмов из неорганических веществ.— Ред. ↩︎
Ф. Ланге, История материализма, т. II, нем изд., стр. 148–150. ↩︎
«Крестовая газета». — Ред. ↩︎
Достижения (завоевания) философия.— Ред. ↩︎
По себе взятое. — Ред. ↩︎
Оговорка.— Ред. ↩︎
Речь идет о Лейбнице. — Ред. ↩︎
С точки зрения вечности.— Ред, ↩︎
Имеется в виду Вильгельм I. — Ред. ↩︎
Намек на Шопенгауэра. — Ред. ↩︎
Само собой.— Ред. ↩︎
По обязанности. — Ред. ↩︎
Имеется в виду первый том «Капитала». — Ред. ↩︎
Дети родины, вперед! — Ред. ↩︎
21 Примечание редактора. Из «Шести проповедей» Дицгена на тему «Религия социал-демократии» в «настоящее издание входят IV, V и VI проповеди. ↩︎
Слова Гейне. — Ред. ↩︎
К делу! — Ред. ↩︎
Каждому свое. — Ред. ↩︎
Заметь хорошенько.— Ред. ↩︎
В конце концов. — Ред. ↩︎
Вообще. — Ред. ↩︎
— животным метафизическим. — Ред. ↩︎
Мы не знаем и не будем знать. — Ред. ↩︎